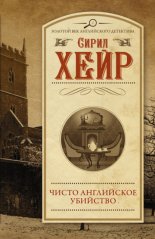Катерина Фрей Джеймс

Если мы были знакомы в то время, вероятно, ничего хорошего.
Может, да, а может, и нет.
Рядом с тобой я бы изменился?
Вдохновился бы благодаря мне.
Нет, вряд ли.
Как знать.
Потому ты и гадаешь.
Да.
Да.
Да.
Да.
Знать бы.
Мне пора, давний таинственный друг.
Зачем?
Всякая хрень ждет.
Какая?
Глазеть в пустой экран и ненавидеть себя.
Прикольно.
Вот этим я и занимаюсь.
Успехов.
Приятной тебе постели, мыслей и гаданий.
Дай мне знать, когда и ты начнешь гадать.
Да.
Предыстория
Мне требовались деньги на.
Билет на самолет.
Еду.
Жилье.
Бухло и дурь.
Книги.
В любом порядке.
Я не знал, сколько мне нужно, но понимал, что больше, чем у меня есть, то есть больше двух тысяч долларов. Думал, что пятнадцати или двадцати тысяч хватит на год или два. Я же не собирался жить в «Ритце» или в «Крийоне» или ужинать в «Вольтере» или «У Жоржа». И путешествовать не планировал. Найти жилье подешевле, вести простую жизнь. Двадцати пяти хватило бы еще на дольше. В университетском городке шла зима. Я мог бы найти работу, но так получилось бы дольше. Оставался единственный выход – наркодилерство. Покупай белое, продавай белое. Было холодно, народ сидел в четырех стенах, бухал и употреблял. Продавай белое, покупай белое. Только так.
Я отнес два куска к дилеру и купил сорок граммов. Разбодяжил десятью граммами «НоДоза» и продал все пятьдесят за пять тысяч. Купил три унции, то есть 84 грамма, разбодяжил двадцатью граммами «НоДоза» и продал за десять кусков. Там, где я учился, спрос был невысоким, так что я ходил в три соседних колледжа. Взял десятку, купил шесть унций, то есть 168 граммов, разбодяжил 40 граммами «НоДоза» и продал все, вышло чуть больше двадцати кусков. На все про все – три месяца. Деньги я хранил в банковской ячейке. Целую кучу грязных зеленых купюр.
Когда я не дилерствовал, я читал. Французское. Гюго и Дюма, Бодлера и Рембо. Когда не читал – бухал. Учеба потеряла всякий смысл. На кой хрен мне диплом – приклеить на стенку? Прихватить с собой, чтобы претендовать на какую-нибудь говенную работу? Подтереть им свою сраную задницу? Торгуй читай бухай спи. Просто и прицельно. Мне требовались деньги. Требовалось расслабиться. И кормить мозги. Торгуй читай бухай спи. Она нашла нового парня и уехала на весенние каникулы в путешествие, я слышал, они идеально подходят друг другу, он из Нью-Йорка, мечтает стать инвестиционным банкиром. Всякий раз, сталкиваясь с ней, я отворачивался и шел прочь. Когда мы оказывались в одной комнате или в одном и том же баре, я делал вид, будто мы не знакомы. Пару раз она пыталась поздороваться, а я словно не слышал. Я ничего не добивался, не играл и не вел себя как подонок, просто не мог видеть ее или говорить с ней, потому что мне было больно. Несмотря на принятое решение, я любил ее. И больше всего меня ранило то, что она зашагала по жизни дальше так быстро и, похоже, легко. Мне хотелось ненавидеть ее, но я не стал, не смог, я любил ее, и мне было больно думать о ней, вспоминать, представлять ее с другим, видеть ее или слышать ее голос, отчего мне хотелось скорчиться и заплакать. Я любил ее, и мне было больно.
Близился конец учебного года. Все строили планы. Переехать в Нью-Йорк и найти работу, перебраться в Лос-Анджелес и найти работу, поступить в школу права, в школу медицины, в школу бизнеса, переехать в Чикаго и найти работу. Чем ближе, тем острее это ощущалось. Мне хотелось вырваться. Свалить на хуй. Осталось три недели. Денег более-менее достаточно, чтобы уехать. Я зашел в бар с друзьями. Бар был многолюдным, шумным и дымным. Мне туда не хотелось. Говорить было не с кем и не о чем. Хотя за последние четыре года я побывал в этом баре со многими, их мир уже не был моим. Их ждало светлое будущее, карьеры, дипломы, достижения, деньги, ипотеки, обязанности и программы пенсионных накоплений. А я уезжал в Париж – гулять и читать и бухать и курить и писать и мечтать и голодать и злиться и орать и улыбаться и смеяться и ебаться и страдать и пропадать и сидеть у Сены и смотреть, как вокруг вертится мир.
Я увидел ее. Она была с подругами, ее парня я нигде не заметил. После нее я ни с кем не встречался, и мне казалось, что, если я буду хорошим, она вернется, хоть я и знал, что она этого не сделает. Я видел ее в компании подруг и хотел ее больше, чем когда-либо, больше, чем когда-нибудь вообще хотел хоть чего-то. Хотел целовать ее, вжиматься в нее, чувствовать ее вкус, слышать ее стон, как когда я входил в нее. Наш секс всегда был нежным и простым. Много свечей, негромкая музыка, чистые простыни, тихие ласки. Он был полным любви, вежливым и скучным. А в том баре мне хотелось взять ее, изнасиловать и измучить. Хотелось выебать ее. Долго и глубоко и резко и мокро. Чисто ради физического удовольствия. Ради потрясающего момента, когда я кончу. Я сидел, смотрел, как она болтает с подругами, смеется, отводит упавшую на глаз прядь волос, отпивает из стакана, смотрел на ее губы, ее язык.
Я хотел.
Хотел.
Хотел.
Я встал и направился к ней, она увидела, что я приближаюсь, и сделала удивленное лицо, но улыбнулась. Прежде чем она успела заговорить, я наклонился к ее уху и прошептал.
Хочу трахнуть тебя прямо сейчас.
Она засмеялась.
Это правда. Сейчас же.
Она взглянула на меня чуть растерянно и смущенно. Я продолжал.
Если бы я мог, я бы сейчас смел с этого стола все бутылки и стаканы и взял тебя прямо на нем.
Она не сводила с меня глаз, все еще улыбающаяся и все еще удивленная.
Ты под кайфом?
Да.
Нанюхался?
Угу.
Уходи.
Давай выйдем.
Зачем?
Затем, что я хочу трахнуть тебя.
Я шагнул ближе, поцеловал ее медленно и крепко, и после краткого замешательства она ответила на поцелуй. Я отстранился, она улыбнулась, я взял ее за руку, и мы молча вышли из бара вместе. Она спросила, куда мы идем, я не ответил. Мы обошли здание и свернули на стоянку. Было темно и тихо, на стоянке не осталось пустых мест, машины выстроились в четыре ряда. Я высмотрел в дальнем углу ее машину, черный внедорожник европейской марки, и повел ее туда за руку. Она попыталась было достать из кармана ключи, но я покачал головой и взял ее за обе руки. Мы обошли внедорожник, я начал целовать ее. Она отвечала мне, я прижал ее спиной к задней двери, мои руки блуждали по ее телу. Она вырвалась.
А если нас кто-нибудь увидит?
Мои руки двигались не переставая.
Не увидит.
Провел между ее ног.
А вдруг?
Поднял подол ее рубашки.
Да плевать.
Ее талия.
Мне – нет.
Ее зад.
Я наклонился и поцеловал ее губы язык дыхание. На ней была рубашка на пуговицах и короткая юбка, я запустил под них ладони, расстегнул и поднял. Целовал ее в шею, легонько покусывал соски через рубашку, стаскивал по ногам стринги. Направил ее руку к моему члену, она расстегнула штаны и достала его, я схватил ее обеими руками за зад, приподнял ее спиной к внедорожнику и ворвался в нее.
Глубоко.
Резко.
Мокро.
Мы оба застонали. Я медленно задвигался в ней целуя ее смакуя ее прижимая ее глубоко сильно мокро внутри у нее быстрее резче глубже истекая постанывая губы языки соски резко быстрее сильнее глубже ее руки на моей груди моей шее одна моя рука у нее на заднице другая на сиське быстрее сильнее глубже.
Истекая влагой.
Издавая стоны.
Было темно и тихо мы трахались на автостоянке прислонившись к машине я открыл глаза она смотрела на меня я смотрел на нее мы терлись друг о друга губами и языками она начала дрожать я улыбался заглядывал ей в глаза быстрее резче глубже и когда она задрожала, я кончил в нее, в мозгу у меня взорвалась слепящая белая волна
Радости
Наслаждения
Покоя
И бога
Она прошла через меня
В нее
Глубоко резко и влажно
Пульсируя
Содрогаясь
Она стонала и я стонал и мы кончали, мы кончали, мы кончали.
Мы кончали.
Радость
Наслаждение
Покой
И бог
На миг мы замерли. Я все еще был твердым у нее внутри. Я обнимал ее, она обнимала меня. Я поцеловал ее в шею. Прошептал: я люблю тебя. Она шепотом ответила: я люблю тебя, мы постояли минутку соединенные, она положила голову мне на плечо, стояла и дышала, мы стояли и дышали друг другу в шею, оба еще ощущали, еще ощущали, еще ощущали, резко, влажно и глубоко. Она отстранила меня и начала застегивать рубашку. Дождавшись, когда она справится, я улыбнулся, поцеловал ее еще раз, повернулся и ушел.
Я ушел вернулся туда где жил зашел к себе в комнату и уложил сумку. Заглянул в комнату Энди того самого который подарил мне ту книгу и оставил у него на постели записку с приглашением как-нибудь приехать в гости. Свой пикап я припарковал возле банка и переночевал в нем. Как только банк открылся, я зашел, сделал все, что надо было, и через двадцать минут вышел. Пикап я продал на стоянке для подержанных тачек и направился в аэропорт. У меня был паспорт, немного одежды, восемнадцать тысяч долларов дорожными чеками и тысячу двести наличными.
Я сел на самолет до Парижа.
Чикаго, 2017 год
Я сижу в комнате, где полно народу. Стулья рядами, все до единого заняты. Кое-кого из присутствующих я знаю, но таких немного. Одни приглушенно переговариваются, другие плачут, многие, как я, молча смотрят на ящик на невысоком пьедестале у дальней стены комнаты. В ящике – мой мертвый друг. На нем костюм, его волосы, длинные, светлые и непослушные при жизни, после смерти подстрижены, уложены и зачесаны вверх от лба. Кто-то, наверное, из похоронного бюро, нанес на его лицо грим, его глаза закрыты, руки сложены на талии, на запястье все так же поблескивают серебристые часы, с которыми он не расставался. Мысленно я слышу его смех, представляю, как он наблюдает за этой сценой и спрашивает, какого хрена. Он умер три дня назад. Сердечная недостаточность. Ему было сорок два года.
Мы познакомились еще детьми в летнем лагере, мой друг и я. Лагерь был обычный, традиционный мальчишеский, в висконсинском лесу, куда родители могли сплавить своих буйных отпрысков ради здорового отдыха и развлечений на свежем воздухе, как принято на Среднем Западе. Я был на пару лет старше моего друга. Завсегдатай лагеря, умник и остряк. Приехал он и стал моим младшим напарником, умником и остряком. Мы устраивали розыгрыши инструкторам и солагерникам, прикалывались над ними, острили, язвили и умничали. Пара наглых и мелких паршивцев, еще не нюхавших жизни. Когда прошло наше первое лето, проведенное вместе, в автобусе по пути домой он плакал, твердил, что будет скучать по мне и что он не встречал других таких же поганцев, как он сам, среди старших, и чтобы не били его. Я ущипнул его за руку и сказал: будет бузить – побью, мы засмеялись и разъехались по домам. У нас было еще два лета приколов и тайных сговоров: мы выдавливали в чужую обувь пену для бритья, прятали чужое белье, матерились сквозь зубы при старших, а потом я решил, что слишком крут для летнего лагеря, и каникулы стал проводить, покуривая украдкой, воруя выпивку и ухмыляясь девчонкам со своего велика BMX. И больше о друге не вспоминал. А если и вспоминал, то лишь мельком: интересно, что с ним стало. С языкатым мелким говнюком. С этой его белобрысой челкой. Который вечно сука ржет и нарывается.
Что с ним стало, я узнал, когда мне стукнуло тридцать. Я жил в нью-йоркском Сохо, еще задолго до того, как его наводнили банкиры и управляющие хедж-фондов, до того, как он стал самым дорогим торговым центром Америки. Я продал пару киносценариев, по одному из которых сняли убогую романтическую комедию с ботанистой звездой сериала в главной роли, так что деньги у меня водились. Я уже несколько лет не пил. Был одинок, жил один, почти все время читал, писал и гулял, как раз начал писать, после множества неудачных попыток и сотен страниц нечитабельной херни, первую книгу, которую опубликовал бы. Я был сосредоточен, амбициозен что пипец, все еще верил, что могу зажечь мир словами, засыпал и просыпался с этой мыслью, все дни тратил на то, чтобы сделать ее реальностью. Это было просто существование. Никто не знал, кто я, всем было насрать, и я не возражал. Мне предстояла работа. И я верил в нее. Для меня она имела значение. Я доверял тому, что делаю, себе и своей жизни. После почти десяти лет проб и ошибок у меня все еще сохранилась эта вера. Хотя почти все время, когда я не гулял, я сидел один в квартире, ужинал я каждый вечер в том же месте – в дайнере на Принс-стрит, которого теперь уже нет, а вместо него – бутик с шикарными сумочками, туфлями и очками по дизайну звезды какого-то реалити-шоу. Иногда мои соседи, сплошь художники, писатели или чокнутые, жившие на том же этаже здания, что и я, составляли мне компанию, но чаще всего я ел в одиночестве и читал за едой. Сиди себе читай ешь думай. Пей диетическую колу, напоследок возьми мягкое мороженое и чашку кофе. И я сидел, читал и жевал чизбургер, когда услышал знакомый голос – все тот же голос остряка и умника, который произнес: ах ты ж сукин ты сын Джей-бой, вот ты где. Так я и знал, что напорюсь на тебя когда-нибудь, да, бля, знал!
Я засмеялся, поднял глаза и увидел его взрослого, в желтых штанах и ярко-синем спортивном пиджаке в утятах и розовом шейном платке, в розовом на хуй, я засмеялся. Он был офигенно загорелым, волосы остались белобрысыми и длинными, челка все так же падала на лицо, хотя теперь выглядела элегантно, а не по-дурацки. Я встал, обнял его, он сел и тоже решил поужинать. Он добился успеха, и вроде как немалого. Как бы крепко я ни влипал, как бы далеко ни уезжал, как бы ни страдал и ни терялся, он двигался в противоположном направлении. В четырнадцать родители отправили его в закрытую школу, думая, что она пойдет ему на пользу, хоть на самом деле это им было не по карману. Там он узнал, что есть Парк-авеню, Гринвич и Бруклин, про летние каникулы в Ист-Хэмптоне, Нантакете и Ньюпорте, узнал про Палм-Бич, Аспен и Санта-Барбару, поездки в Европу, «ягуары», «астон-мартины» и «порше», костюмы на заказ и итальянские простыни. И решил, что хочет стать богатым. Настолько богатым, чтобы бывать где угодно и делать что угодно, водить любую машину, какую захочется, носить любую одежду, есть любую еду, пить любое вино. Ему хватало ума понять, что он не гений, что ему никогда не быть банкиром или трейдером, в компьютерах он не разбирался, получить Нобелевскую премию не надеялся. Он понимал, лучшее, что у него есть, – это обаяние, остроумие, натура умника. И он стал взращивать их в себе, узнавал все и учился всему, что связано с деньгами и обществом, – как говорить и вести себя, какой вилкой пользоваться, смешивать все известные человечеству коктейли, как танцевать, он читал книги, учился одеваться, узнавал, когда, как и где покупать одежду, становился другом каждого, с кем знакомился, запоминал все имена и все касающиеся его друзей подробности. В качестве колледжа он выбрал тусовочный, то есть тот, куда богатенькие детишки, не попавшие в университеты Лиги плюща, приезжают пить, нюхать и трахаться все четыре года. Он вступил в студенческое братство и встречался с девчонками из их «сестричества», ходил на официальные приемы, знакомился с родителями и каждому становился лучшим другом. После окончания учебы он устроился на работу к отцу одной из своих подружек, где узнал страшную тайну бизнеса – по его словам, она заключалась в следующем.
Найди птиц высокого полета, которые могут сделать для тебя все. Не забывай благодарить и поощрять их. Заработай для себя как можно больше бабла. Так он и действовал. Он придумал продавать подкрашенную и слегка подслащенную воду так, чтобы люди верили, будто она сделает их стильными, стройными и здоровыми. Подобрал запоминающееся название и броский логотип, написал бизнес-план, уговорил родителей друзей вложиться в его затею. Бизнес он развивал, рассылая бесплатные образцы подкрашенной водички друзьям во все пафосные места, где они обычно зависали, убеждал их смешивать ее с водкой и подавать на вечеринках. Производство отдал на сторону, нанял маркетинговую компанию, заключил контракт на распространение. Сам контролировал лишь продажи и после нескольких лет самоподготовки делал это мастерски. Он являлся с этими своими волосами, улыбкой, в каком-нибудь безумном, ярком, пестром прикиде и паре лиловых, или розовых, или ядовито-синих «хаш паппис», прихватив с собой несколько образцов, и к тому времени, как уходил, все, с кем он работал, успевали всецело уверовать, что станут более стильными, стройными и здоровыми благодаря его нелепой жиже в бутылках, стоит только закупить сразу несколько партий. Компания росла, он направлял на ее развитие все прибыли, и по прошествии шести лет, в возрасте двадцати восьми, продал ее за охрененную сумму. Он стал богатым. И свободным. И посвятил всю оставшуюся жизнь, как он выразился, чудесному времяпрепровождению. Купил дом в Аспене, еще один – в Палм-Бич и квартиру в Нью-Йорке. Играл в гольф, катался на лыжах, удил рыбу нахлыстом и ходил под парусом. Покупал редкие вина и еще более редкие произведения искусства, водил быстрые автомобили, смаковал деликатесы. Вступал в клубы. Летал частными самолетами. Ложился на рассвете и спал до вечера. И в отличие от других обладателей бабла, не был ни говнюком, ни пижоном. Он делился всем, что у него было. Хотел, чтобы все, кого он знал и любил, наслаждались благами жизни вместе с ним. Он никого не старался впечатлить, не похвалялся богатством, ничего не доказывал и не самоутверждался, просто это доставляло ему истинную радость и неподдельное удовольствие, и он распространял эти радость и удовольствие везде, где только появлялся.
Тем вечером мы поужинали, крепко обнялись, обменялись контактами и стали держать связь. Он никогда не был моим близким другом или хотя бы одним из ближайших друзей, мы виделись всего раз или два в год, когда случайно оказывались в одном и том же месте, но я его любил. Он был добрым, щедрым, прикольным и клевым. Человеком, которого я знал почти всю жизнь, даже когда его в ней не было. Не важно, сколько времени проходило – четыре месяца, полгода или год, – всякий раз, когда мы встречались, нам казалось, что расстались только вчера. Мы смеялись, вспоминали, какую фигню вытворяли в детстве, рассказывали друг другу, что нового происходит в жизни. Он дразнил меня за хаки и белые футболки, из которых я не вылезал с подростковых лет, и предлагал сводить меня по магазинам, а я потешался над его роскошной обувью и рубашками и нагрудными платками и часами, с которыми он не расставался, и предлагал поискать ближайший мусорный бак, чтобы он наконец избавился от этого барахла. Он познакомился с моей женой и детьми, привез им подарков и обаял их. Когда начали выходить мои книги, он всегда первым покупал их, читал, присылал отзывы, а если с книгами возникали траблы, всегда звонил первым, чтобы поддержать. Когда появились социальные сети, мы зафрендили друг друга и таким образом оставались на связи, я следил за его авантюрами, и они всегда вызывали у меня улыбку. Он взлетел, сукин сын. Да еще как. Более счастливого человека я не знал, и был счастлив за него, и гордился им, и думал, как мне повезло быть его другом.
Звонок застал меня в офисе. От нашего общего друга. Я ответил, сказал «алло», он сообщил, что Мэтти умер, упал во время пешего похода в Аспене, сердце не выдержало. Мир перестал вращаться – по крайней мере, мой. Я не дышал, сердце казалось громоздким и тяжелым и словно готовым вывалиться из моей груди, пусто было в животе и на душе. Я прикусил губу и помотал головой. Друг спросил, слышал ли я, что он сказал, и я ответил «да». Мы оба умолкли, я смотрел в пустую белую стену передо мной, стараясь осмыслить, понять, поверить в то, что мне только что сообщили. Осмысливать, понимать и верить мне не хотелось, я жалел, что ответил на звонок, жалел, что нельзя отмотать обратно последние две минуты и больше не нажимать воспроизведение. Я спросил, как это случилось, как так вышло на хуй, он ответил, что Мэтти ушел в поход в одиночку, позднее собирался пообедать с другом, но так и не объявился, и не отвечал на сообщения и звонки, тот друг заподозрил неладное, отправился на поиски по его излюбленному маршруту, который знал, и нашел его на тропе мертвым. Рядом валялся его телефон с двадцатью двумя пропущенными звонками. Бутылка с водой откатилась на фут от вытянутой руки. Я смотрел в стену, мечтал перемотать обратно время и не ответить на звонок. Больше я не хотел говорить, поэтому поблагодарил нашего общего друга, попросил прислать сообщение, когда станет известно насчет похорон, и отключился.
И вот теперь я сижу и не свожу глаз с моего друга Мэтти, лежащего в ящике в нескольких шагах от меня, тщательно причесанного, с челкой, отведенной со лба, с загримированным лицом, руками, сложенными на талии, с поблескивающими часами. Я думаю о последних минутах. О его последних минутах. Что он чувствовал, быстро ли все случилось, понял ли он, что происходит, испугался ли, успел ли испугаться, говорил ли что-нибудь в самом конце. Если вся жизнь пронеслась перед его взглядом, остался ли он доволен тем, что увидел?
Был ли он доволен тем, что увидел?
И счастлив?
Я думаю о жизни. Когда она закончится и как. По моей вине, в раздолбанной машине на обочине, окажется ли реальной какая-нибудь из угроз, которые мне присылают, остановится ли сердце или лопнет артерия в мозге, будет ли это рак, амиотрофический склероз, инсульт, болезнь печени или почек, где я окажусь в этот момент, один или с людьми, которые дороги мне, когда и как, когда и как все кончится для меня. Думаю о том, что промелькнет перед моим взглядом и останусь ли я доволен увиденным. Думаю о боли, которую причинил, о лжи, которую наговорил, о путанице, которую наворотил, о словах, сказанных в гневе, в печали или с досады, об извинениях, которые так и не принес, думаю обо всем впустую потраченном времени, обо всем драгоценном гребаном времени, которое потратил, не делая ничего, злясь из-за какой-нибудь дурацкой херни, зацикливаясь на никчемном и бессмысленном. Нам твердят, что каждая минута бесценна, но мы по ходу дела как-то забываем об этом. И каждая минута становится просто еще одной минутой. Чтобы пройти, чтобы быть принятой как данность, чтобы от нее отмахнулись. И потратили зря.
И я потратил так много времени. На лень и самолюбие, на наркотики и алкоголь, на погоню за ничего не значащей хренью, за деньгами и славой и признанием и одобрением. Сколько раз мне следовало позвонить другу и поздороваться. Сколько раз следовало связаться с тем, кому это было нужно, и я знал об этом. Сколько раз надо было сказать «я люблю тебя», а я молчал. Сколько раз я мог принять верное решение, но сознательно и охотно принимал ошибочное. Сколько раз я позорил себя поступками, даже когда о них не знал никто, кроме меня, сколько раз и насколько позорно, сколько гребаных раз и сколько было гребаного стыда. Днями, неделями, месяцами, годами я не мог взглянуть на себя в зеркало, не сгорая от ненависти и омерзения. И почти каждый раз я знал почему, но даже не пытался что-нибудь изменить. Я ничего не делал. Только глазел на себя, впивался в себя взглядом бледно-зеленых глаз, пока наконец не выдерживал и не отворачивался. С ненавистью и омерзением. Сейчас я мысленно веду подсчеты, сколько хорошего сделал и завершил, и сравниваю результат со всеми страданиями, разрушениями, ущербом и транжирством. Для того чтобы выяснить, уравновешивают ли они друг друга или одна чаша весов тяжелее. Представить, как будет выглядеть моя жизнь, когда промелькнет перед последним взглядом, понять, улыбнусь я или умру, ненавидя себя. Ответ я знаю. Знаю слишком хорошо, знаю без долгих рассуждений. Нет, не уравновешивают. Даже близко нет. Долбаным равновесием даже не пахнет.
Я смотрю на друга и представляю себе, что он видел и что чувствовал и что знал и что сделал, когда свет начал гаснуть, как попрощался со своей жизнью, как остановилось его сердце и он умер. Смотрю на него, улыбаюсь и плачу. Мелкий умник, остряк и паршивец. Магнат с сахарной водичкой. Паяц в розово-голубом костюме из индийского хлопка. Ты ушел слишком молодым, охеренно молодым. Но я рад за тебя, я тобой горжусь, ты так старался жить и жил так здорово и красиво, так радостно и великолепно. Я знаю, ты улыбался, знаю, ты смеялся, знаю даже, хоть тебе и было страшно, ты ушел довольный тем, как прожил жизнь.
Мне тебя будет не хватать.
Если бы я чаще виделся с тобой.
Если бы только сказал, что люблю тебя.
Если бы еще хотя бы раз выпил с тобой вместе.
Если бы.
Если бы.
Смотрю на друга и плачу. Когда ящик закрывают и все встают, я встаю вместе со всеми, и мы следуем за катафалком к кладбищу. Я вижу, как ящик с моим другом опускают в яму, вырытую в земле, и перед тем, как он скрывается из виду, протягиваю руку и говорю до свидания, я буду скучать по тебе, до свидания.
Я еду в аэропорт.
Сажусь в самолет.
Лечу домой.
Когда я вхожу в дом, жена спит. Я целую ее в щеку и ложусь рядом с ней в постель.
Каждая минута.
Каждая бесценная минута.
Засыпая, я задумываюсь, сколько еще мне осталось и как все случится и что я увижу и что почувствую и что скажу, когда погаснет свет.
Уравняются ли мои счета.
Уравняются ли.
Когда погаснет свет.
Париж, 1992 год
Сижу на скамье перед «Вратами ада». Солнце печет вовсю высоко в небе музей только что открылся сейчас середина лета, и если я хочу спокойно побыть здесь наедине с «Вратами», приходить надо пораньше, опередив толпы посетителей. У меня бутылка воды пачка сигарет один из блокнотов и полный карман черных ручек. Я пишу. Не какую-нибудь дневниковую чушь. Не размышления о том, как прошел день. Не свои нелепые наблюдения в кафе или что я ел на завтрак, а начало книги. И как бы там ни уверяли авторы дрянных дневников и самоучителей и профессора в школах литературного мастерства, писать книгу намного-намного труднее, чем вести дневник. Читать твой дневник никто не будет. А если и будут, если кого-нибудь попросишь почитать его, на честную оценку не рассчитывай. Даже если это худший дневник в истории человечества, не дневник, а кусок дерьма, каждый, кто читает его, улыбнется и станет уверять, что ты талант и что им понравилось. А когда пишешь взаправду, для издания, с намерением отпустить свою книгу в большой мир, важно каждое слово. Важно каждое предложение. Каждая запятая, знак препинания, вся грамматика. Как читаются слова, как звучат, как выглядят на странице. Все это решения, все они важны. И за каждым решением должна стоять причина. Это стресс. Стресс от необходимости принимать верные решения, причем принимать снова и снова, еще и еще. Если сделаешь это правильно, если справишься, люди в большом мире, которых ты не знаешь и никогда не узнаешь, станут читать то, что ты пишешь. И у них появится свое мнение о прочитанном. Нравится тебе их мнение или нет, оно имеет ценность. Так что я, когда сажусь и пишу, отношусь к этому со всей серьезностью. Я знаю, чем хочу заниматься и что хочу сказать, я слышу и вижу это у себя в голове, чувствую в биении сердца. Это честолюбие и ярость и радикальность. Это секс и любовь и запах спермы. Это печаль и боль. Радость и свобода наплевать на все, и груз слишком заметного неравнодушия. Это вскрытие души ударом тупого предмета. Прямо и расчетливо. Никакого транжирства. Никаких излишеств. Никаких попыток впечатлить вас моей виртуозностью или мастерством. Я хочу заставить вас чувствовать так же, как я, глубоко и мощно. Хочу встряхнуть вас, тронуть вас, заставить вас отвести глаза от страницы, потому что я ошеломил вас, и вынудить снова взяться за чтение, потому что вы хотите быть ошеломленными вновь. Хочу оставить на вас неизгладимый след так, чтобы вы этого никогда не забыли. И хотя я знаю все это, вижу, слышу и чувствую, теперь, когда я сижу на скамье перед «Вратами ада», я, американец двадцати одного года в Париже, потерянный и скитающийся, нашедший и сосредоточенный, сделать то, чего я хочу, я не могу. Пока что не могу. Пока. Так что я работаю. Пишу. Думаю. Чувствую. Стараюсь перенести на страницу то, чего хочу, что знаю и что ощущаю. Неотрывно смотрю на черные буквы на коричневой бумаге. Слушаю, с каким звуком движется в моей руке ручка, вижу, как появляется на бумаге ее след. И верю так, как невозможно научить верить, что в какой-то момент смогу сделать то, чего хочу, написать, что я вижу, чувствую и слышу. Если я буду сидеть, работать и верить достаточно долго – может, год, может, пять или десять, или двадцать пять, – то, что у меня в голове, придет в соответствие тому, что на бумаге.
Пока я смотрю в блокнот, обдумываю следующее слово, чувствую утреннее солнце на лице и руках, слышу птиц на деревьях надо мной, вдыхаю запах хлеба из местной булочной и ощущаю на языке остатки вкуса черного кофе, выпитого по пути сюда, я замечаю, как кто-то направляется ко мне, слышу шаги по гравию дорожки, вижу надвигающуюся тень. Я не поднимаю головы. Скамейка в нескольких футах от меня свободна, но неизвестный садится рядом. Нас разделяют два фута пространства. Глядя вниз, вижу пару черных конверсов «олл старз», короткие черные носки, длинные и тонкие незагорелые ноги. Подумываю уйти или отвернуться, прикидываю, что неизвестный сделает какие там ему нужно фотки и направится дальше. И продолжаю смотреть на черные буквы на коричневой бумаге, на пустое место на странице, которое собираюсь заполнить. А пока размышляю, слышу голос.
Что пишешь?
Женщина, хотя это я знал заранее. Английский с легким акцентом – каким именно, не могу определить, но кажется, есть в нем что-то скандинавское. Голос приятный и низкий, ощущается как кофе, в который плеснули немного сливок и положили десять полных ложек сахара. Я не поднимаю головы и не отвечаю. Слышу, как что-то шуршит в сумке, щелкает зажигалка, затяжка, запах табака, резкий и приятный аромат облегчения и зависимости. Опять слышу голос, но смотрю в блокнот.
Изображаешь неприступность. Так мило.
Усмехаюсь, но на нее не смотрю.
На меня можно смотреть. Я не Медуза. В камень не превратишься.
Снова усмехаюсь.
Вот же упрямый. Хотя бы на вопрос ответь, мне любопытно.
Что я пишу?
Да.
Не твое собачье дело.
Она смеется. Смотрю на черные буквы и коричневую бумагу. Неизвестная не уходит, я снова слышу шорох. Стараюсь вспомнить, на чем я остановился, вернуться к тому, чем занят, но не получается. Выпрямляюсь, оглядываю ее, высокую и тонкую, бледную, с длинными и густыми волнистыми темно-рыжими волосами, веснушками на щеках и переносице, с глазами оттенка какао, пухлыми выпяченными губами, и без помады яркими, как вишневый пирог. На ней белый сарафан с короткими рукавами и рисунком из маленьких черепов – красных, черных, желтых черепов, голубых, розовых и зеленых, а еще – черные конверсы и короткие черные носки. Она сокрушительно красива, хоть вроде и не старается, а платье, его черный юмор и его пародия на милоту, только усиливают впечатление.
Ничего платье.
Она улыбается: ровные белые идеальные зубы.
Спасибо.
Обувь тоже.
В них удобно. Когда подолгу ходишь.
Ты откуда?
С севера.
Смеюсь.
Откуда именно?
Из одной северной страны.
Снова смеюсь. Она кивает на мой блокнот.
Что пишешь?
Книгу.
Книгу. Ого. Надо же.
Я опять смеюсь.
О чем твоя книга?
Знаешь «Мизантропа»?
Пьесу Мольера?
Да.
Да, Le Misanthrope знаю.
Название она произносит почти как француженка.
Я пишу книгу по мотивам «Мизантропа», только действие происходит в наши дни, в Нью-Йорке.
Она смеется.
Что, так смешно?
Кивает.
Ага.
Почему?
Такое никто не будет читать.
Почему?
Le Misanthrope – это про самого мудацкого мудака в мире.
Он цельная натура.
Которая только и делает что гадит, ноет и жалуется.
Он влюблен, он мучается.
Он влюблен в самую подлую и ничтожную девку на планете.
Смеюсь.
Вижу, «Мизантроп» тебе не нравится.
Триста лет назад пьеса была замечательной, я точно знаю, но теперь? Не пиши эту книгу. Выйдет ужасно, никто ее не станет читать.
Ты литературный критик?
Еще чего.
Писатель?
Боже упаси.
Просто любишь подсаживаться к писателям и изводить их?
Ты почти лапочка. Почти.
Она улыбается и слегка раздвигает большой и указательный пальцы, показывая, сколько это – «почти».
Вот я и решила подсесть к тебе и узнать, чем ты занят.
Ну теперь-то знаешь.
Но с писателями я не трахаюсь. Они как истерички. Однажды попробовала, так бедный пацан разнюнился и потом, когда мы кончили, захотел нежностей.
С чего ты взяла, что я хочу трахнуть тебя?
А что, разве нет?
Я качаю головой – вру.
Ничего подобного.
Она улыбается, указывает на мою руку.
Можно?
Я киваю, она берет руку и медленно подносит ее ко рту. Слегка приоткрывает губы, выпяченные и пухлые, как вишневый пирог, без помады, смотрит мне прямо в глаза, берет в рот мой указательный и безымянный пальцы и сосет их. Во рту у нее тепло, мягко и влажно, светло-карие глаза оттенка какао смотрят на меня в упор. Она медленно вытягивает мои пальцы изо рта, проводя по ним языком снизу и охватывая их губами. Я не дышу, мой член мгновенно встал и затвердел, я хочу трахнуть ее больше, чем хочу чего-либо еще в жизни. Вынув пальцы, она возвращает руку на прежнее место, и все это не спуская с меня глаз.
А теперь?
Да.
Да?
Да.
Она улыбается. Моим пальцам все еще тепло и мокро, член стоит колом.
А нежностей я не люблю, так что на этот счет не беспокойся.
Смеется.
Еще и писатель? Что, правда настоящий?
Да.
И что ты написал?