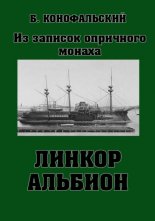1984. Скотный двор Оруэлл Джордж
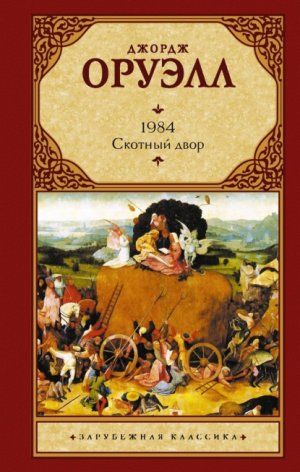
– На Неделю ненависти, для фонда по месту жительства. Меня выбрали казначеем нашего квартала. Постараемся как следует и устроим нечто грандиозное! Вот что я скажу: не моя вина, если «Дворец Победы» не вывесит больше всех флагов на нашей улице. Вы обещали два доллара.
Уинстон протянул ему две помятые, замусоленные банкноты, и Парсонс записал его имя в специальный блокнотик старательным почерком неуча.
– Кстати, старина, – спохватился он. – Слышал я, вчера мой мелкий негодник пальнул в вас из рогатки. Я устроил ему хорошую взбучку и даже пообещал отнять игрушку.
– Вероятно, он немного расстроился из-за того, что не смог посмотреть на казнь, – заметил Уинстон.
– Ну да. Настрой весьма похвальный, верно? Они у меня, конечно, озорники, зато какие ушлые! Думают только о Разведчиках и о войне. Знаете, что моя малышка устроила в ту субботу, вместо пешего похода в Беркхамстед? Подбила двух девочек из отряда отправиться следить за каким-то незнакомцем. Ходили за ним хвостом битых два часа, а потом в Эмершеме сдали патрулю.
– Зачем же они это сделали? – поразился Уинстон.
Парсонс торжествующе пояснил:
– Доча решила, что он вражеский агент, его, может, с парашютом забросили. И вот что самое интересное, старина! Думаете, что ее насторожило в первую очередь? Странные туфли на нем: доча таких никогда не видела! Значит, иностранец. Довольно умно для семилетней егозы, а?
– А что стало с тем человеком? – спросил Уинстон.
– Откуда мне знать? Не удивлюсь, если его… – Парсонс сделал вид, что прицеливается из винтовки, и щелкнул языком, изображая выстрел.
– Поделом, – рассеянно бросил Сайм, не отрываясь от своего листка.
– Конечно, рисковать мы не можем, – с готовностью подхватил Уинстон.
– Вот и я про то же: война как-никак, – поддакнул Парсонс.
И словно в подтверждение с телеэкрана сорвался призывный звук трубы и вихрем пронесся у них над головами. Впрочем, на этот раз он предшествовал не сводке с фронта, а объявлению от министерства благоденствия. «Товарищи! – вскричал радостный юный голос. – Внимание, товарищи! У нас потрясающие новости Мы выиграли битву за производство! Итоговые отчеты по выработке всех видов товаров свидетельствуют, что за последний год уровень жизни вырос на целых двадцать процентов! Сегодня утром вся Океания в едином порыве вышла на стихийные демонстрации: трудящиеся заводов и конторские служащие покинули рабочие места и промаршировали по улицам с транспарантами, выражая благодарность Большому Брату за нашу новую, счастливую жизнь, которую обеспечило нам его мудрое руководство. А теперь к итоговым показателям: продукты питания…»
Выражение «наша новая, счастливая жизнь» повторялось несколько раз. Видимо, министерству благоденствия оно особенно полюбилось. Парсонс, подобравшийся при звуке трубы, сидел и слушал, открыв рот, с важным видом привыкшего к скуке недоучки. Цифры говорили ему мало, но он понимал, что им следует радоваться. Он вытащил огромную потертую трубку, наполовину набитую обугленным табаком. При норме 100 граммов в неделю набить трубку целиком удавалось редко. Уинстон курил папиросу «Победа», осторожно держа ее строго горизонтально. Новую пайку дадут только завтра, а у него осталось всего четыре папиросы. Он отрешился от постороннего шума и прислушался к потоку слов с телеэкрана. Похоже, демонстранты благодарили Большого Брата даже за то, что он повысил норму шоколада до двадцати граммов в неделю. Только вчера, вспомнилось Уинстону, объявили об уменьшении нормы до двадцати граммов. Неужто можно проглотить такое вранье всего за двадцать четыре часа? Парсонс, глупое животное, проглотил легко. Безглазый мужчина за соседним столиком заглатывал фанатично, страстно, его словно обуревало неистовое желание выследить, донести, дать испариться любому, кто скажет, что на прошлой неделе норма составляла тридцать граммов. Сайм тоже – правда, несколько иным способом, привлекая двоемыслие. И Сайм проглотил. Неужто выходит, что он единственный, кому это запало в память?
С телеэкрана все еще сыпалась баснословная статистика. По сравнению с прошлым годом стало больше еды, больше одежды, больше домов, больше мебели, больше кастрюль, больше топлива, больше кораблей, больше вертолетов, больше книг, больше детей – больше всего, кроме болезней, преступлений, безумия. Год за годом, минута за минутой все и вся со свистом неслось вперед, к светлому будущему. Как Сайм пораньше, Уинстон взял ложку и принялся выводить узоры по растекшейся по столу бледной жиже. Он с досадой размышлял о материальной основе жизни. Всегда ли было так? Всегда ли еда имела такой вкус? Он оглядел столовую. Низкий потолок, стены, засаленные от прикосновений бесчисленных тел, разболтанные металлические столы и стулья, стоящие так тесно, что касаешься локтем соседа; погнутые ложки, помятые подносы, щербленые белые кружки; все поверхности сальные, во всех трещинах грязь; кисловатый дух, в каком мешается вонь дешевого джина, паршивого кофе, похлебки с металлическим привкусом и грязной одежды. Постоянно нутро, вся кожа зудела в нем от бунта, ощущения того, что его лишили принадлежавшего ему по праву. Да, правда, насколько помнилось, иной жизни он не знал: никогда не ел досыта, носки и нижнее белье занашивал до дыр, мебель – вечно раздолбанная и шаткая, топили плохо, вагоны подземки шли битком, дома разваливались, хлеб – черный, чай – большая редкость, кофе – противный, табаку не хватает, один только дешевый синтетический джин всегда в избытке. И хотя с возрастом переносить лишения все труднее, разве это не свидетельствует о том, что естественный порядок вещей вовсе не должен быть таким? Если сердце щемит от бесприютности, грязи и лишений, от нескончаемых зим, от промокших ног, а лифты вечно не работают, вода только холодная, мыло грубое и сушит кожу, табак из папирос высыпается, еда по вкусу с помоями схожа? Если жизнь кажется невыносимой, не говорит ли в тебе память предков, оставшаяся с тех времен, когда все было иначе?
Он вновь оглядел столовую. Почти все уродливы, и синие комбинезоны тут ни при чем: этих людей как ни одень, уродами и останутся. В дальнем конце за столом в одиночестве сидел мелкий, похожий на жучка служащий с кружкой кофе и подозрительно обшаривал зал маленькими бегающими глазками. Если не смотреть по сторонам, думал Уинстон, легко поверить, что физический тип, взятый Партией за идеал (мускулистые юнцы и грудастые девы, светловолосые, энергичные, загорелые, беззаботные), не только существует, но и преобладает. На самом деле, насколько он мог судить, большинство населения Авиабазы-1 – низкорослые, темноволосые и уродливые. Любопытно, как люди-жучки заполонили министерства: проворные невзрачные коротышки, склонные к полноте уже в юном возрасте, с короткими ножками и маленькими глазками на жирных невозмутимых мордах. Похоже, под владычеством Партии этот тип расцвел пышным цветом.
Объявление министерства благоденствия закончилось трубным сигналом, за ним последовала жесткая, бряцающая музыка. Парсонс, впечатленный цифрами, преисполнился энтузиазма и вынул трубку изо рта.
– В этом году министерство благоденствия отлично потрудилось, – заявил он и с важным видом кивнул. – Кстати, старина, у вас не найдется лишнего лезвия для бритвы?
– Увы, – ответил Уинстон, – сам полтора месяца одним бреюсь.
– Ну ладно, нет так нет.
– Что поделаешь.
Крякоречь за соседним столом, умолкшая во время сводки министерства благополучия, затарахтела с новой силой. Почему-то Уинстону вспомнилась миссис Парсонс с жидкими растрепанными волосами и пылью в складках лица. В ближайшие пару лет дети непременно сдадут ее полиции помыслов. Миссис Парсонс испарится. Сайм испарится. Уинстон испарится. О’Брайен испарится. А вот Парсонсу не грозит ничего, как и безглазо крякающему мужчине. Жучки-служащие, так ловко снующие по лабиринту коридоров министерства, – эти уж точно не испарятся никогда. И темноволосая из департамента беллетристики не испарится никогда. Уинстон словно нутром чуял, кто уцелеет, кто исчезнет, хотя и не мог сказать, от чего именно зависит, выживет человек или нет.
И в этот миг его, отрешенно витавшего в раздумьях, будто грубо тряхнуло. Сидевшая за столом перед Уинстоном девушка, извернувшись вполоборота, смотрела на него. Та самая, темноволосая. Смотрела искоса, зато весьма пристально. Поймав его взгляд, девушка снова отвернулась.
Уинстон облился холодным потом. Накатил приступ ужаса и почти сразу схлынул, оставив после себя щемящую тревогу. Почему она так смотрит? Почему она его преследует? Уинстон не помнил, сидела темноволосая за столом, когда он пришел, или появилась позже. В любом случае на вчерашней Двухминутке ненависти она устроилась сразу позади него, хотя мест хватало. Вполне вероятно, что девушка решила убедиться, достаточно ли громко он кричит.
Опять подумал: вряд ли она из полиции помыслов, хотя от добровольного шпиона вреда куда больше. Уинстон не знал, как давно она за ним следит, но даже за последние пять минут, если он не вполне владел выражением лица, девушка могла бы увидеть достаточно. В общественном месте или перед телеэкраном погружаться в задумчивость слишком опасно. Выдать может любая мелочь: нервный тик, невольная озабоченность во взгляде, привычка бормотать себе под нос – любое отклонение от нормы или намек на скрытность. Так или иначе, неподобающее выражение лица (к примеру, скептичное, когда объявляют о победе) считается проступком, заслуживающим наказания. В новослове даже термин такой есть – «лицекриминал».
Темноволосая опять сидела к Уинстону спиной. Может, и не следит, может, просто совпадение. Папироса погасла, он аккуратно положил ее на край стола: покурит после работы, если удастся не просыпать табак. Наверняка где-то рядом соглядатай полиции помыслов, и через три дня Уинстона упрячут в подвалы министерства любви, и все же табак надо беречь. Сайм сложил листок и убрал в карман. Парсонс снова заговорил.
– Я не рассказывал, старина, – начал он, посасывая трубку, – как мои непоседы подпалили юбку старухе-торговке, которая заворачивала колбасу в плакат Б. Б.? Подкрались сзади с коробком спичек и устроили потеху. Наверное, сильно обожглась. Вот негодники! Зато настырные как не знаю кто! В отряде Разведчиков детишек натаскивают отмено, даже лучше, чем нас в свое время. Знаете, что им недавно выдали? Слуховые трубки, чтобы подслушивать через замочную скважину! Моя дочурка вчера опробовала ее на двери в общую комнату: выходит в два раза слышнее, чем просто ухо приложить! Понятно, игрушка всего лишь, но нужные навыки прививает.
Внезапно из телеэкрана раздался пронзительный свист: обед закончился. Все трое разом вскочили, чтоб ринуться в битву за место в лифтах, и из папиросы Уинстона вывалился последний табак.
VI
Уинстон писал в дневнике:
Это было три года назад. Темный вечер, узкий переулок возле большой железнодорожной станции. Она стояла в дверном проеме, под едва светившим уличным фонарем. Лицо молодое, густо накрашено. Привлекала меня, признаться, именно окраска: белое, как маска, лицо с пунцовыми губами. Партийные женщины никогда не красятся. На улице ни прохожих, ни телеэкранов. Она сказала: два доллара. Я…
Уинстон смешался. Зажмурил глаза и прижал к ним пальцы. Почти неодолимо тянуло выругаться – грязно, во весь голос. Или боднуть головой стену, пнуть стол, вышвырнуть чернильницу в окно – все, что угодно, лишь бы приглушить терзавшее его воспоминание.
Твой злейший враг, думал Уинстон, твоя нервная система. В любой момент внутреннее напряжение может вылиться в видимый симптом. Он вспомнил, как пару недель назад видел на улице одного прохожего: обычный с виду член Партии, лет тридцати-сорока, высокий и худой, с портфелем. Внезапно левая сторона его лица дернулась. Через несколько шагов это повторилось – всего лишь легкое подергивание, быстрое, как щелчок затвора фотоаппарата, но явно привычное. И Уинстон подумал: бедняге конец. Самое страшное, что сокращение мышц, скорее всего, совершенно непроизвольное. А самая смертельная опасность подстерегает тебя во сне, и спасения от нее нет.
Уинстон вздохнул и продолжил писать:
Я прошел за ней в дверь, потом задами на кухню в подвале. У стены стояла кровать, на столе тускло горела лампа, фитилек которой был подвернут почти до конца. Она…
Уинстон стиснул зубы. Хотелось сплюнуть. Одновременно с женщиной в подвальной кухне он вспомнил Кэтрин, свою жену. Когда-то Уинстон был женат… впрочем, как и сейчас, ведь жена до сих пор жива. Казалось, он снова вдохнул спертый воздух кухни, в котором мешались запахи клопов, грязной одежды и противных, дешевых и все же соблазнительных духов. Партийные женщины не душатся никогда, духи в ходу только у пролов. В его сознании их запах удушающе мешался с распутством.
Он уже пару лет не был с женщиной. Разумеется, общение с проститутками запрещалось, но этот запрет относился к тем, которые изредка нарушаешь. Поймают – дадут пять лет в исправительно-трудовом лагере, не больше, если нет других прегрешений. Лишь бы не взяли с поличным. Беднейшие кварталы буквально кишат женщинами, готовыми себя продать. Иным хватает бутылки джина (пролам он не полагается). Негласно Партия даже поощряет проституцию, ведь та дает выход инстинктам, подавить которые полностью еще не получалось. На обычное распутство смотрят сквозь пальцы, пока оно остается шито-крыто да уныло и вовлечены в него женщины из низшего и презираемого класса. Непростительными считаются беспорядочные половые связи между членами Партии. Однако, хотя в этом преступлении признавались практически все без исключения жертвы великих чисток, Уинстону верилось в такое с трудом.
Цель Партии состоит не только в том, чтобы между мужчинами и женщинами не возникала привязанность, которую нельзя контролировать со стороны. На самом деле требовалось лишить половой акт всякого удовольствия. Главный враг – не любовь, а эротика, что в браке, что вне брака. Все союзы между членами Партии устраиваются с ведома специального комитета, и (вслух этот принцип не озвучивают) в разрешении паре отказывают, если будущие супруги чувствуют взаимное влечение. Единственной целью брака считается рождение детей для служения Партии. К половому акту относятся словно к малоприятной медицинской процедуре вроде клизмы. Опять же, прямо об этом не говорится, но подспудно с детства вдалбливается каждому члену Партии. Существуют даже специальные организации вроде Юношеской антисекс-лиги, ратующие за полное воздержание для обоих полов. Детей следует зачинать с помощью искусственного оплодотворения (на новослове это называется «ископлод») и выращивать в государственных учреждениях. Уинстон понимал, что это не всерьез, хотя и удачно вписывается в идеологию Партии: убить половой инстинкт, а если не выйдет, то принизить и изгадить. Он не знал зачем, просто чувствовал, что так и должно быть. Что касается женщин, то усилия Партии по большей части увенчались успехом.
Он снова подумал о Кэтрин. Они разошлись девять, десять, точнее, почти одиннадцать лет назад. Как ни странно, Уинстон вспоминал о ней редко. Иногда он даже забывал, что вообще был женат. Вместе они провели пятнадцать месяцев. Разводиться Партия не разрешает, хотя бездетных призывает расстаться.
Кэтрин была высокой блондинкой с очень правильной, горделивой осанкой. Черты крупные, нос с горбинкой – ее лицо можно бы назвать благородным, если бы за ним не скрывалась практически полная пустота. Еще в самом начале совместной жизни Уинстон решил – хотя, вероятно, лишь потому, что ее он узнал лучше, чем других людей, – что глупее, вульгарнее и скудоумнее Кэтрин никого не встречал. В голове ее не задерживалось ни единой мысли, кроме партийных лозунгов, и она глотала любую невообразимую чушь, если та исходила от родной Партии. Про себя Уинстон называл ее «ходячая фонограмма». И все же он смог бы с ней ужиться, если бы не секс.
Стоило ему к жене прикоснуться, как та морщилась и цепенела. Обнимать ее было все равно что деревянную куклу. Как ни странно, даже прижимая мужа к себе, она словно отталкивала его изо всех сил. Кэтрин лежала с закрытыми глазами, не сопротивляясь и не отвечая на ласки – она тупо подчинялась. Уинстон находил это чрезвычайно унизительным, а под конец и противным. Если бы они договорились обходиться без половых отношений, Уинстон смирился бы с совместной жизнью. Как ни странно, Кэтрин отказалась. «Мы должны родить ребенка», – заявила она. Исполнение супружеского долга происходило регулярно – раз в неделю, если тому ничего не препятствовало. Она даже напоминала ему утром, словно речь шла об обязанности по дому, которую непременно следует выполнить вечером. Кэтрин использовала два выражения: «сделать ребенка» и «наш долг перед Партией» (она и в самом деле так выражалась!). Уинстон стал ожидать назначенного дня со страхом. К счастью, зачать ребенка не получилось, Кэтрин признала, что пора оставить попытки, и вскоре они разошлись.
Уинстон неслышно вздохнул, снова взялся за перо и написал:
Она улеглась на кровать и сразу, безо всяких прелюдий, самым отвратительным и пошлым образом задрала юбку. Я…
Он стоял в тусклом свете лампы, в нос била вонь клопов и дешевых духов, сердце саднило от горечи поражения и обиды. Внезапно Уинстону вспомнилось белое тело Кэтрин, навеки застывшее под гипнозом Партии. Почему всегда так? Почему нельзя быть с женщиной постоянно, вместо этой мерзкой возни раз в несколько лет? Увы, нечего и думать о том, чтобы завести роман. Все партийные женщины одинаковы. Целомудрие въелось в них так же глубоко, как и преданность Партии. Естественное чувство вытравляют из них с детства: продуманным воспитанием, играми и холодными обливаниями, чушью, которой им забивают головы в школе, в Разведчиках и Юношеской лиге, лекциями, парадами, песнями, лозунгами и маршами. Рассудок говорил Уинстону, что исключения наверняка есть, но сердце не верило. Все они непробиваемы, как и задумано Партией. Ему хотелось даже не столько быть любимым, сколько сломать стену добродетели, хотя бы раз в жизни. Полноценный половой акт – мятеж, желание близости – помыслокриминал. Даже пробудить чувства в Кэтрин, собственной жене, если бы ему удалось, было бы сродни совращению.
Историю следовало закончить. Уинстон написал:
Я прибавил огня. Увидев ее при свете…
После полумрака слабый свет керосиновой лампы казался очень ярким. Наконец-то Уинстон разглядел женщину как следует. Он шагнул вперед и замер, переполненный похотью и ужасом. Придя сюда, он рисковал многим. Вполне вероятно, что патруль задержит его при выходе – может, они сейчас поджидают прямо у дверей. Даже если уйти, не сделав того, ради чего он здесь…
Это нужно записать, он должен облегчить душу. При свете лампы Уинстон увидел, что женщина старая! Краска покрывала ее лицо густо, как штукатурка, того и гляди треснет. В волосах блестела седина, а страшнее всего был чуть проваленный, приоткрытый рот без единого зуба.
Уинстон торопливо записал корявыми буквами:
Когда я увидел ее при свете, то понял: она очень старая, точно за пятьдесят. Но я двинулся к ней и все равно сделал то, за чем пришел.
Он снова прижал пальцы к глазам. Хотя Уинстон смог себя пересилить и записал все как было, лекарство не сработало. Желание грязно браниться во весь голос никуда не делось.
VII
«Если и есть надежда, то она заключена в пролах», – записал Уинстон.
Если надежда есть, то она должна заключаться в пролах, ведь только эта зыбкая, отверженная масса, составляющая 85 процентов населения Океании, и способна стать силой, которая уничтожит Партию. Изнутри Партию не одолеть. Ее враги, если они вообще есть, лишены возможности объединиться, узнать друг друга. Даже если легендарное Братство существует, входящим в него никогда не собраться больше, чем по двое-трое. Мятеж проявляется во взгляде, в интонации, максимум в слове, произнесенном шепотом. Зато пролам, если только они осознают собственную силу, незачем устраивать тайные заговоры. Им нужно просто встряхнуться – как лошадь стряхивает мух. Если захотят, пролы могут разорвать Партию на куски завтра же утром. Разумеется, рано или поздно до них дойдет, и все же…
Уинстон вспомнил, как однажды шел по многолюдной улице, и вдруг из узкого проулка чуть впереди раздался рев сотен женских глоток. То был грозный крик гнева и отчаяния, глубокое, громкое: «Ох-о-о-ох!» – еще долго гудело, словно звон колокола. Сердце у Уинстона дрогнуло. Началось, подумал он. Бунт. Пролы наконец-то сорвались с цепи! Подойдя ближе, он увидел толпу из двухсот-трехсот женщин, сгрудившихся у прилавков на рынке, – лица трагичные, как у пассажиров тонущего корабля. Но тут же в единый миг общее отчаяние разбилось на множество мелких свар. За этим прилавком, очевидно, продавали оловянные сотейники. Пусть паршивые, пусть нескладные, но любых видов кастрюльки достать всегда трудно. И вдруг товар закончился. Счастливые покупательницы пытались пробиться сквозь толчею с добычей, те, кому не хватило, громогласно честили продавца, мол, только своим отпускает и прячет товар под прилавком. Снова поднялся крик. Две растрепанные толстухи яростно схватились за один сотейник, каждая тянула к себя, пока не оторвались ручки. Уинстон смотрел на них с отвращением. И все же на краткий миг пара сотен глоток испустила вопль, в котором прозвучала грозная, пугающая сила. Почему они никогда не кричат так из-за того, что действительно важно?
Уинстон написал:
Пока они не обретут самосознание, они не восстанут, а до тех пор, пока не восстанут, самосознание им не обрести.
Похоже на конспект из партийного учебника, подумал Уинстон. Партия, само собой, утверждает, что освободила пролетариев от оков. До Революции их жестоко угнетали капиталисты, они голодали и подвергались телесным наказаниям, женщин заставляли работать на угольных шахтах (кстати, женщины там до сих пор трудятся), детей продавали на фабрики в шестилетнем возрасте. Но одновременно Партия учит, в полном соответствии с принципом двоемыслия, что пролы – существа низшего сорта, которых нужно держать в подчинении как животных, соблюдая несколько простых правил. На самом деле о пролах известно очень мало. Пока они продолжают работать и плодиться, их остальные дела никому не интересны. Предоставленные сами себе, словно скот на равнинах Аргентины, они неизменно возвращаются к своему естественному образу жизни, порядку, как бы унаследованному от предков. Они рождаются и растут в трущобах, в двенадцать лет идут на работу, после короткой поры созревания красоты и полового влечения женятся в двадцать, в тридцать уже стареют, потом умирают по большей части в шестьдесят. Их кругозор ограничен тяжелым физическим трудом, заботой о доме и детях, мелкими ссорами с соседями, кино, футболом, пивом и, конечно, азартными играми. Держать их под контролем несложно. Среди них всегда полно агентов полиции помыслов, они разносят ложные слухи, выискивают и устраняют тех немногих, кто может представлять опасность, однако попыток внушить им партийную идеологию не предпринимается. Политических взглядов пролам иметь не положено. От них требуется лишь примитивный патриотизм, чтобы взывать к нему в случае необходимости: заставлять работать больше часов или мириться с сокращением пайка. Даже если пролов иногда охватывает недовольство, это не приводит ни к чему: у не постигающих общие жизненные принципы смута выливается в мелкие дрязги. Крупные невзгоды от их внимания неизменно ускользают. В домах у подавляющего большинства пролов нет телеэкранов. Уровень преступности в Лондоне высокий, преступная среда образует своего рода государство в государстве, но воры, бандиты, проститутки, торговцы наркотиками и аферисты всех мастей гражданскую полицию не интересуют, пока варятся в своем соку, и она в их дела практически не вмешивается. Во всех вопросах морали пролам дозволено следовать обычаям предков. На них не распространяются пуританские взгляды Партии на секс. Беспорядочные половые сношения не наказываются, разводы разрешены. В принципе, пролам могли бы позволить даже отправление религиозных обрядов, если бы они выказали такое желание. Пролы ниже подозрений. Или, как гласит партийный лозунг: «Пролы и животные свободны».
Уинстон наклонился и осторожно почесал ногу. Язва снова зудела. Он не мог не думать, что нет ни малейшей возможности узнать, какой на самом деле была жизнь до Революции. Достав из ящика школьный учебник истории, взятый у миссис Парсонс, Уинстон начал выписывать из него в дневник:
В прежние времена, до победоносной Революции, – говорилось в нем, – Лондон был совсем не тем прекрасным городом, который мы знаем. Темное, грязное, скверное место, где люди голодали, где сотни тысяч бедняков ходили босыми и не имели крыши над головой. Детям не старше тебя приходилось трудиться по двенадцать часов на жестоких хозяев, поровших их кнутами, если те работали слишком медленно, и державших бедняг на черствых сухарях и воде. Среди этой ужасной нищеты высились несколько больших, красивых зданий, где жили богачи, которых обхаживало до тридцати слуг. Богатых людей называли капиталистами. Они были толстыми, уродливыми, со злобными лицами. На картинке справа – капиталист, одетый в длинный черный пиджак под названием фрак и нелепую блестящую шляпу в форме печной трубы под названием цилиндр. Такой была форма, и кроме них больше никому не позволялось ее носить. Капиталистам принадлежало все на свете, а все остальные считались их рабами. Они владели всей землей, всеми домами, всеми фабриками и всеми деньгами. Того, кто им не подчинялся, могли бросить в тюрьму, лишить работы и заморить голодом. Если обычный человек говорил с капиталистом, то должен был кланяться, снимать кепку и обращаться к нему «сэр». Глава всех капиталистов назывался король, а…
Остальное в этом перечне Уинстону было известно. Далее последуют епископы с батистовыми рукавами, судьи в отделанных горностаем мантиях, позорные столбы, колодки, топчак, плетки-девятихвостки, банкет у лорд-мэра и обычай целовать туфлю Папы. Было еще и jus primae noctis, так называемое право первой ночи, о чем в учебниках для младших классов вряд ли пишут. Каждый капиталист имел право переспать с любой женщиной, работавшей на его фабрике.
Как узнать, что из этого ложь? Может статься, среднему человеку сейчас живется лучше, чем до Революции. Единственное доказательство обратного – внутренний немой протест, безотчетное ощущение, что условия твоей жизни невыносимы и так было не всегда. Уинстону пришло в голову, что отличительная черта современной действительности вовсе не жестокость и неуверенность в завтрашнем дне, а убожество. Ни малейшего сходства с тем, что потоками льется с телеэкранов, не говоря уже об идеалах, к которым стремится Партия. Даже партийцы тратят большую часть времени не на политику, а на скучную работу и борьбу за место в подземке, штопают дырявые носки, выпрашивают лишнюю таблетку сахарина, курят бычки. Партийный идеал – огромный, прекрасный и сверкающий мир, союз стали и бетона, исполинских машин и страшного оружия, нация воинов и фанатиков, которые маршируют вперед в едином порыве, думают одно и то же, кричат одни и те же лозунги, вечно работают, сражаются, побеждают, карают – триста миллионов человек на одно лицо. В реальности же хиреющие города, грязные улицы, где бродят полуголодные жители в дырявой обуви и стоят покосившиеся домишки прошлого века, насквозь провонявшие капустой и уборной. Перед мысленным взором Уинстона раскинулся разоренный Лондон, город миллиона мусорных баков, спаянный с образом миссис Парсонс, женщина с морщинистым лицом и растрепанными волосами, которая беспомощно возится с засором в трубе.
Он наклонился и снова почесал лодыжку. День и ночь телеэкраны бьют тебя по ушам статистикой, доказывающей, что сегодня у людей больше еды и одежды, дома лучше, что живут они дольше, работают меньше, отдыхают больше, стали выше, здоровее, сильнее, счастливее, умнее, образованнее, чем пятьдесят лет назад. И ничего не докажешь, ничего не опровергнешь. К примеру, Партия заявляет, что сегодня грамотой владеют сорок процентов взрослых пролов, а до Революции – всего пятнадцать. Партия заявляет, что детская смертность составляет сто шестьдесят младенцев на тысячу, а до Революции – триста. И так далее. Словно уравнение с двумя неизвестными. Вполне может статься, что практически каждое слово в учебниках истории – чистой воды выдумка. И не было до Революции никакого jus primae noctis, ни капиталистов, ни цилиндров.
Все как в тумане. Прошлое стирают, потом забывают, и ложь становится правдой. Лишь раз в жизни Уинстону попалось – после самого события, вот что самое главное! – явное, безошибочное свидетельство фальсификации. Он держал его в руках секунд тридцать. Это было году в семьдесят третьем… когда они с Кэтрин расстались. Само событие произошло семью или восемью годами ранее.
Эта история началась еще в середине шестидесятых, во время массовых чисток, в которых разом канули бывшие лидеры Революции. К семидесятому году не осталось никого, кроме Большого Брата. Всех прочих уличили в измене и контрреволюционной деятельности. Гольдштейн бежал и скрывался неизвестно где, некоторые просто испарились, а большинство казнили после громких публичных судов, где они признались в своих преступлениях. Среди последних уцелевших были трое деятелей по имени Джонс, Аронсон и Резерфорд. Арестовали их году в шестьдесят пятом. Как часто случается, они пропали на год-другой, никто не знал, живы они или мертвы, как вдруг все трое объявились с покаянными излияниями. Признались в сговоре с врагом (на тот момент им тоже была Евразия), хищении государственных средств, убийствах всевозможных деятелей Партии, кознях против Большого Брата задолго до Революции и диверсиях, приведших к гибели сотен тысяч жертв. После признания их помиловали, восстановили в Партии, поставили на ответственные должности, бывшие, по сути, синекурами. Все трое написали для «Таймс» длинные статьи, где каялись в преступлениях, разбирали мотивы своего отступничества и обещали исправиться.
Вскоре после освобождения Уинстон видел всех троих в кафе «Каштан». Он наблюдал за ними как завороженный, одновременно ужасаясь и не в силах не смотреть. Реликты древнего мира, они были гораздо старше его, почти последние великие деятели, составлявшие героическое прошлое Партии. Их осенял отблеск подпольной борьбы и гражданской войны. Хотя уже тогда факты и даты приобретали смутные очертания, Уинстону казалось, что их имена услышал раньше имени Большого Брата. Вместе с тем вся троица – преступники, враги, неприкасаемые, обреченные на уничтожение в ближайшие год-два. Никто из попавших в лапы полиции помыслов еще не избегал такого конца. Они мертвецы, ожидающие отправки обратно в могилу.
Соседние столики пустовали: никто не рисковал появляться в компании подобных людей. Трое молча сидели за джином, приправленным гвоздикой, – фирменным напитком кафе. Особенно Уинстона поразил Резерфорд, некогда известный карикатурист, чьи безжалостные шаржи разжигали страсти, подогревая общественное мнение до и во время Революции. Даже теперь, хотя и с большими перерывами, его рисунки появлялись в «Таймс» – бледное подражание прежним карикатурам, на диво безжизненные и малоубедительные. В них повторялись одни и те же старые темы: трущобы, голодающие дети, уличные бои, капиталисты в черных цилиндрах (даже на баррикадах капиталисты цеплялись за свои цилиндры) – бесконечная, безнадежная попытка вернуться в прошлое. На вид Резерфорд казался чудищем: огромное тело, грива сальных волос, одутловатое, изборожденное морщинами лицо, толстые, по-негритянски вывернутые губы. Когда-то, видимо, он был незаурядно физически силен, теперь же мускулистое тело расплылось, обвисло, где-то вздулось, где-то ввалилось: он разваливался на глазах, словно осыпающаяся скала.
В кафе было почти пусто, посетителей в пятнадцать часов всегда немного. Уинстон не помнил, зачем пришел туда в такой час. С телеэкранов раздавалась дребезжащая, назойливая музыка. Все трое сидели в углу почти без движения, совершенно молча. Не дожидаясь просьбы повторить, официант принес еще три стакана джина. На столике позади них лежала шахматная доска с расставленными фигурами, но никто не играл. И вдруг, пожалуй, всего на полминуты, с телеэкранами что-то случилось. Сменилась звучавшая с них мелодия, изменилась и тональность музыки. В ней слышалось… даже трудно описать. Слышалось в этой мелодии (Уинстон мысленно назвал ее бульварщиной) нечто необычное, надсадное, истошное, глумливое. А потом с телеэкрана голос пропел:
- Под раскидистым каштаном
- Сдал я тебя, а ты меня.
- Под раскидистым каштаном
- Ты лежишь и рядом я.
Трое не шелохнулись. Но, когда Уинстон снова глянул на мертвенное лицо Резерфорда, в глазах у того стояли слезы. И тогда Уинстон впервые заметил, внутренне содрогнувшись, но так и не осознав, чему он содрогнулся, что и у Аронсона, и у Резерфорда сломаны носы.
Немного погодя всех троих снова арестовали. Выяснилось, что сразу после освобождения они вступили в очередной заговор. На втором суде трое опять признались в старых преступлениях и целой куче новых. Их казнили, а деяния увековечили в истории Партии как предостережение для грядущих поколений. Лет через пять, в семьдесят третьем, Уинстон развернул бумажки, выпавшие из пневмотрубы на рабочий стол, и обнаружил случайно затесавшийся между ними листок. Его важность он понял сразу. Это была вырезка из газеты десятилетней давности – верхняя половинка страницы – с датой и фотографией делегатов на каком-то партийном мероприятии в Нью-Йорке. Прямо в центре группы стояли Джонс, Аронсон и Резерфорд. Узнать их не составило труда, к тому же под снимком напечатали имена.
На обоих судах все трое признались, что в тот самый день находились на территории Евразии. Они вылетели с секретного канадского аэродрома в Сибирь и провели переговоры с генеральным штабом Евразии, которому и передали важные военные тайны. Дата врезалась Уинстону в память, потому что выпала на День летнего солнцестояния. Наверняка мероприятие широко освещалось, что зафиксировано в массе других источников. Отсюда могло следовать только одно: все их признания – ложь.
Разумеется, это не сильно его удивило. Даже тогда Уинстону слабо верилось, что жертвы массовых чисток действительно совершили все те преступления, в которых их обвиняли. Теперь же в руки ему попало железобетонное доказательство, фрагмент утраченного прошлого: так кость ископаемого животного, найденная не в том слое, рушит стройную геологическую теорию. Если бы удалось придать это огласке и разяснить людям, почему это так важно, – хватило бы, чтоб распылить Партию на атомы.
Уинстон поспешно приступил к работе. Разглядев снимок и осознав его значение, он быстро положил сверху лист бумаги. По счастью, когда Уинстон разворачивал газетную вырезку, та виделась с телеэкрана задом наперед. Он отодвинул стул подальше от телеэкрана. Сохранять невозмутимое лицо несложно, при должном усилии дыхание тоже удается контролировать, другое дело – унять сердцебиение, ведь телеэкран вполне способен его уловить. Уинстон выждал минут десять, изнывая от страха перед непредвиденным: вдруг по столу пробежит сквозняк и выдаст его? Затем, прихватив верхний лист вместе с фотографией, швырнул бумажный мусор в дыру памяти. И через минуту газетная фотография обратилась в пепел.
Произошло это лет десять-одиннадцать назад. Сегодня Уинстон фотографию сохранил бы. Странно, но пусть от фото и от самого события осталось только воспоминание, для него очень важно, что ему удалось подержать газетную вырезку в руках. Интересно, может ли власть Партии над прошлым ослабеть из-за доказательства, которого больше не существует?
Впрочем, даже если бы фото удалось возродить из пепла, сегодня оно вряд ли что-то докажет. Когда Уинстон его обнаружил, Океания уже не воевала с Евразией, значит, трое мертвецов продали свою страну агентам Востазии. С тех пор враг менялся два-три раза, если не больше. Признания наверняка переписывали снова и снова, пока первоначальные факты и даты не утратили всякое значение. Прошлое не просто менялось, оно не переставало меняться. Самое кошмарное заключалось в том, что Уинстон не понимал, к чему так утруждаться. Прямые преимущества фальсификации прошлого были очевидны, однако конечная цель оставалась загадкой. Он снова взял перо и написал:
Я понимаю КАК. Понять не могу ЗАЧЕМ.
Уинстон в очередной раз задался вопросом, не сошел ли с ума он сам. Наверное, быть в меньшинстве и есть сумасшествие. Когда-то считалось безумием верить, что Земля вращается вокруг Солнца; сегодня – что прошлое неизменно. Возможно, в это верит лишь он, а если ты один, то сумасшедший. Впрочем, пугает другое: вдруг он тоже ошибается?
Уинстон взял школьный учебник по истории с портретом Большого Брата на обложке. Гипнотический взгляд вонзался прямо в душу. Чудовищная сила проникала в череп, била по мозгам, запугивала, заставляла отказаться от своих убеждений, внушала не верить собственным глазам. В итоге Партия объявит, что дважды два пять, – и придется в это поверить. Рано или поздно они так и сделают: логика положения их просто обязывает. Генеральная линия Партии негласно отрицает не только достоверность восприятия, но и существование объективной реальности. Откровенная чушь – здравый смысл. Самое ужасное не в том, что тебя убьют за инакомыслие, а в том, что они могут быть правы. Если уж на то пошло, откуда известно, что дважды два четыре? Или что гравитация действует? Или что прошлое неизменно? Если и прошлое, и объективная реальность существуют лишь в сознании, а сознание можно контролировать, что тогда?
Нет уж! Внезапно к Уинстону вернулось мужество. В сознании возникло лицо О’Брайена, просто так, без видимых причин. Теперь он точно знал, что О’Брайен на его стороне. Он ведет дневник для О’Брайена и обращается к О’Брайену. Словно пишет бесконечное письмо, которое никто не прочтет, зато конкретность адресата придает писанине красок.
Партия велит не верить своим глазам и ушам. Это и есть ее окончательный, самый важный приказ. Сердце Уинстона упало при мысли, какой колоссальной силе он противостоит, с какой легкостью отметет его доводы любой партийный деятель, какими изощренными аргументами закидает… их не то что опровергнуть, понять-то невозможно… И все же ошибаются они, а он прав! Очевидное, простое, истинное нужно защищать. Прописные истины не лгут, их и надо держаться! Незыблемый мир существует, законы его неизменны. Камни – твердые, вода – мокрая, подброшенный предмет падает вниз. Чувствуя, что обращается к О’Брайену и вместе с тем выдвигает важную аксиому, он вывел:
Свобода – это свобода заявить, что два плюс два равно четырем. Если это обеспечено, все остальное приложится.
VIII
Из глубины боковой улочки донесся аромат жареного кофе, настоящего, не «Победы». Уинстон невольно замер. На пару секунд он перенесся в полузабытый мир детства. Потом хлопнула дверь, и запах исчез.
Он прошел по улицам несколько километров, и язва на ноге разболелась. Уже второй раз за три недели он пропустил вечер во Дворце культуры: опрометчивый поступок, учитывая, что количество посещений тщательно проверяют. По идее, свободного времени у членов Партии нет вовсе, а в одиночестве они остаются лишь в своей постели. Предполагается, что, когда ты не работаешь, не ешь и не спишь, то принимаешь участие в коллективных мероприятиях, поэтому заниматься чем-то в одиночку, хотя бы просто гулять по улицам, опасно. В новослове даже существует такой термин: «самобыт», означающий индивидуализм и чудачество. Но благоуханный апрельский воздух заставил Уинстона забыть об осторожности. Небо голубело так нежно, что, выйдя из министерства, он понял: очередного длинного, шумного вечера в ДК, где ждут его скучные настольные игры, лекции, натужное общение с товарищами по Партии, щедро сдобренное джином, он просто не вынесет. Повинуясь внезапному порыву, Уинстон свернул в противоположную автобусной остановке сторону и побрел по лабиринту улочек Лондона куда глаза глядят: сначала на юг, потом на восток, затем на север.
«Если и есть надежда, – написал он в дневнике, – то она заключается в пролах». Фраза продолжала его преследовать: мистическая истина и явная нелепость. Уинстон очутился в глухих, бурых трущобах к северо-востоку от места, где раньше был вокзал Сент-Панкрас. Он шел по мощеной улице с двухэтажными домишками, чьи обветшалые подъезды выходили прямо на тротуар и сильно смахивали на крысиные норы. Среди брусчатки виднелись грязные лужи. И в темных проемах, и в тесных проходах между домами сновали целые толпы: девушки в самом соку с ярко накрашенными губами, и бегающие за ними парни, и ходящие вразвалочку обрюзгшие тетки, глядя на которых понимаешь, во что превратятся эти девушки лет через десять, и шмыгающие подошвами согбенные старухи, и босые детишки-оборванцы, что играют в лужах и разбегаются от сердитых окриков матерей. Около четверти окон на улице были разбиты и заколочены досками. Большинство пролов не обращали на Уинстона внимания, лишь некоторые поглядывали с настороженным любопытством. В дверях стояли и, сложив на фартуках кирпично-красные ручищи, беседовали две пугающе громадные бабы. Подходя, Уинстон расслышал обрывок разговора.
– Так-то оно так, говорю я ей, только на моем месте, говорю, ты бы сделала то же самое. Судить-рядить-то всяк горазд, а тебе б мои проблемы!
– Ну да, – кивнула вторая, – так и есть. Куда уж ей понять!
Громкие голоса резко оборвались. Женщины проводили Уинстона враждебным молчанием. Впрочем, вряд ли враждебным, опасливым, с каким оглядывают проходящего рядом незнакомого зверя. Едва ли синий комбинезон партийца видят на подобных улицах часто. На самом деле заявляться в кварталы пролов по собственной инициативе неразумно. Нарвешься на патруль, придется отвечать на вопросы. «Будьте добры предъявить свои документы, товарищ. Что вы здесь делаете? Когда вышли с работы? Вы всегда идете домой этой дорогой?» – и так далее, и тому подобное. Ходить по непривычному маршруту не возбраняется, но полицию помыслов это точно насторожит.
Внезапно улица пришла в смятение. Со всех сторон раздались крики предостережения. Люди ныряли в дверные проемы, словно кролики. Чуть впереди Уинстона молодая мать выскочила из дома, выхватила из лужи малыша, обернула передником и тут же шмыгнула обратно. Из боковой улочки выбежал человек в мятом, будто жеваном, костюме и кинулся к Уинстону, встревоженно тыча в небо.
– Паровик! – заорал он. – Хоронись, начальник! Бабах сверху! Ложись!
Паровиками пролы почему-то называли ракетные боеголовки. Уинстон поспешно упал ничком. Пролы в таких делах редко ошибаются. У них какое-то особое чутье, которое срабатывает за несколько секунд до удара, хотя ракеты летят быстрее звука. Уинстон накрыл голову руками. От взрыва содрогнулся тротуар, на спину дождем посыпался легкий мусор. Поднявшись, он обнаружил на одежде осколки ближайшего окна.
Уинстон пошел дальше. Ракета разворотила несколько домов метрах в двухстах впереди. В небе висел столб черного дыма, в клубах пыли возле развалин собиралась толпа. Тротуар завалила куча штукатурки с ярко-красным пятном посередине. Подойдя ближе, Уинстон разглядел на куче оторванную человеческую кисть. Если не считать окровавленного среза, побелевшая рука выглядела словно гипсовый слепок. Отшвырнув обрубок ногой в канаву, Уинстон свернул направо, чтобы разминуться с толпой.
Через три-четыре минуты он вышел из района падения ракеты, за пределами которого убогая жизнь трущоб кишела как ни в чем не бывало. Время приближалось к двадцати часам, и питейные заведения для пролов (те называли их пабами) ломились от посетителей. Грязные двухстворчатые двери беспрестанно открывались и закрывались, изнутри несло мочой, древесными опилками и кислым пивом. В углу возле выступающей стены сгрудились три прола: тот, что в центре, держал сложенную газету, а двое других заглядывали ему через плечо. Издалека лиц не разобрать, зато позы выражали полную сосредоточенность. Казалось, пролы обсуждали какую-то очень важную новость. Когда Уинстону оставалось до них несколько шагов, троица внезапно разделилась, и двое принялись яростно спорить, того и гляди пустят в ход кулаки.
– Совсем оглох? Говорю же, за четырнадцать месяцев ни один номер с семеркой на конце не выигрывал!
– А вот и нет!
– А вот и да! Дома у меня есть бумажка с номерами за два года! Говорю же, ни один номер с семеркой…
– Семерка выигрывала! Я тот чертов номер помню почти наизусть! Заканчивается на четыре-ноль-семь. В феврале то было, вторая неделя февраля.
– Да иди ты со своим февралем знаешь куда! У меня все черным по белому записано. Говорю же, ни один номер…
– Заглохли! – прикрикнул третий.
Обсуждалась Лотерея. Пройдя метров тридцать, Уинстон обернулся. Пролы все еще увлеченно спорили. Похоже, еженедельная Лотерея с ее огромными выигрышами была единственным общественным событием, живо интересовавшим пролов. Миллионы их только ею и живут: для кого услада, для кого страсть, для кого средство от всех скорбей и болезней. Даже те, кто едва способен читать и писать, блистают сложнейшими расчетами и феноменальной памятью во всем, что касается Лотереи. Продажами всевозможных систем, прогнозов и талисманов промышляет целая группировка. Уинстон не имел к Лотерее никакого отношения: ею занималось министерство благополучия – просто ему было известно (на деле про то осведомлены были все в Партии), что выигрыши по большей части мнимые. Выплачиваются только мизерные суммы, а обладатели крупных призов – лица вымышленные. В отсутствие сообщения между разными частями Океании устроить это нетрудно.
Но если и есть надежда, то она в пролах. Этой истины и будем придерживаться. Облеченная в слова, она звучит вполне разумно, когда видишь людей, спешащих мимо по тротуару, она становится испытанием веры. Улица, на которую Уинстон свернул, пошла под уклон. Район выглядел смутно знакомым, неподалеку вроде бы находилась внутригородская магистраль. Впереди раздался гомон голосов. Крутой поворот, и лестница вывела в проулок, где лавочники торговали привядшими овощами. Уинстон понял, куда забрел: проулок ведет на магистраль, за следующим поворотом, минутах в пяти ходьбы, та самая лавка старьевщика, где он купил книгу с пустыми листами для дневника. Чуть поодаль находится писчебумажный магазинчик, где он приобрел ручку и чернила.
На верхней ступеньке Уинстон помедлил. В дальнем конце проулка притулился захудалый маленький паб с как бы заиндевевшими (на самом деле просто заросшими пылью) окнами. Глубокий старик с усами, как у таракана, скрюченный, но весьма бодрый, толкнул двойные двери и вошел внутрь. Уинстону пришло в голову, что ему лет восемьдесят, значит, Революцию встретил уже немолодым, он и его сверстники – последняя связь с исчезнувшим миром капитализма. В самой Партии осталось мало тех, чьи взгляды сложились до Революции. Старшее поколение по большей части кануло в массовых чистках пятидесятых и шестидесятых, а немногие уцелевшие запуганы до такой степени, что полностью отступились от прежних взглядов. Если кто из ныне живущих и способен рассказать правду об условиях жизни в начале века, так это прол. Внезапно Уинстону вспомнился фрагмент из школьного учебника истории, который он переписал в дневник, и у него возникла безумная идея. Нужно отправиться в паб, познакомиться с тем стариком и расспросить его хорошенько: «Расскажите о своем детстве. Как вам тогда жилось? Лучше или хуже, чем сейчас?»
Торопливо, боясь передумать, он спустился по ступеням и пересек узкую улочку. Чистое безумие! Как водится, никакого прямого запрета на посещение пабов и разговоры с пролами не существовало, но за такое сумасбродство наверняка придется ответить. Если нагрянет патруль, можно сослаться на внезапную слабость, хотя вряд ли ему поверят. Уинстон толкнул двери, и в лицо ударила вонь кислого пива. Когда он вошел, гомон голосов снизился примерно вполовину. Все воззрились на синий комбинезон партийца. Игра в дартс в конце паба замерла секунд на тридцать. Старик, за кем следовал Уинстон, стоял у стойки, препираясь с барменом, дородным, упитанным молодым человеком с крючковатым носом и могучими ручищами. Вокруг толпились посетители со стаканами в руках, наблюдая за происходящим.
– Я ж с тобой вполне вежливо, по-людски, – недовольно бурчал старик, воинственно расправляя плечи. – А ты, кровосос, мне про то, что во всей твоей клятой забегаловке не сыщется кружка в пинту?
– Что, черт, за название такое пинта? – подался вперед бармен, упершись пальцами в стойку.
– Ишь ты! Бармен называется, а что такое пинта не знает. Пинта – это полкварты, четыре кварты – галлон. Мож, тебя еще и алфавиту придется учить?
– Никогда не слыхал о таком, – отрезал бармен. – Литр и пол-литра, мы только в таких подаем. Стаканы на полке прямо перед вами.
– Хочу пинту! Мог бы и нацедить старику. В мое время никаких клятых литров и помину не было.
– В ваше время, папаша, все жили на деревьях, – заявил бармен, бросив взгляд на посетителей.
Те взревели от смеха, и неловкость, вызванная приходом Уинстона, вроде бы исчезла. Усатый старик побагровел. Он отвернулся, бормоча себе под нос, и врезался в Уинстона. Тот бережно взял его под руку.
– Позвольте вас угостить, – предложил он.
– Уважь! – обрадовался тот, расправив плечи. Внимания на синий комбинезон Уинстона он, похоже, не обратил. И сварливо добавил: – Пинту! Пинту эля.
Бармен подхватил два пол-литровых бокала, ополоснул в ведре под стойкой и налил темного пива. В пабах пролов не подавали ничего, кроме пива. Джин им не положен, хотя при желании его можно раздобыть. Игра в дартс возобновилась, компания у стойки заговорила про лотерейные билеты. Об Уинстоне ненадолго забыли. Заметив у окна свободный стол из сосновых досок, он решил расспросить старика там. Конечно, затея ужасно опасная, но телеэкранов в зале нет, Уинстон убедился в том сразу, едва вошел.
– Мог бы и пинту мне поставить, – проворчал старик, устраиваясь с бокалом. – Пол-литра маловато, не напиваешься. А целый литр слишком много, потом не набегаешься. Не говоря уж про цену.
– Со времен вашей молодости многое, должно быть, изменилось, – осторожно начал Уинстон.
Взгляд бледно-голубых глаз прошелся от мишени для дартса к стойке, от нее к двери туалета, словно старик ожидал увидеть перемены прямо в пабе.
– Пиво было лучше, – наконец проговорил он. – И дешевле! Я когда молодым был, мягкое пиво… – мы его крепышом звали – было по четыре пенса за пинту. Это до войны, конечно.
– До какой войны? – спросил Уинстон.
– До всех войн, – уклончиво ответил старик. Он поднял бокал и снова распрямил плечи. – Ну, твое здоровье!
Заостренный кадык на тощем горле на удивление шустро заходил вверх-вниз, и пиво исчезло. Уинстон сбегал к стойке и вернулся еще с двумя бокалами. Похоже, старик забыл о своем предубеждении против целого литра.
– Вы намного меня старше, – заговорил Уинстон. – Наверное, стали взрослым задолго до моего рождения и помните, каково жилось в старину, до Революции. Мои сверстники знают о тех временах только из книг, но правду ли там пишут? Хотел бы узнать ваше мнение. В учебниках по истории говорится, что жизнь до Революции была совершенно другой. Страшная, невообразимая бедность, несправедливость, угнетение. В Лондоне огромные массы людей голодали с рождения до смерти, половина из них ходила босиком. Работали по двенадцать часов в день, в девять лет бросали школу, спали по десять человек в комнате. А вместе с тем очень немногие, всего несколько тысяч – их капиталистами звали, – жили богато и владели всем, чем можно. Занимали роскошные дома с тридцатью слугами, разъезжали на автомобилях и в запряженных четверкой лошадей каретах, пили шампанское, носили цилиндры…
Старик внезапно оживился.
– Цилиндры! – воскликнул он. – Забавно, что ты про них вспомнил. Я вчерась тоже… невесть почему. Подумалось, уж сколько лет их не видать! Пропали прям. Я последний раз такой надевал на похоронах невестки. Когда точно, не скажу, лет пятьдесят тому. Не свой, ты ж понимаешь, напрокат брал для церемонии.
– Дело вовсе не в цилиндрах, – терпеливо сказал Уинстон. – Эти капиталисты вместе со своими адвокатами, духовенством и прочими, кто при них кормился, владели всем миром. Все существовало только ради их блага. Вы, обычные люди, рабочие, были их рабами. Они могли делать с вами все что угодно. Могли отправить в Канаду как скот, могли спать с вашими дочерьми, могли приказать выпороть вас плетками-девятихвостками. Перед ними приходилось снимать шапку. Каждый капиталист разгуливал с оравой лакеев, которые…
Старик снова встрепенулся.
– Лакеи! – воскликнул он. – Давненько не слыхал! Лакеи! Помню-помню! Черт знает сколько лет назад… в общем, по воскресеньям я хаживал в Гайд-парк речи послушать. Армия Спасения, римские католики, евреи, индусы – кого туда только не заносило. И вот один парень… имени не скажу, но как говорил – заслушаешься! Спуску им не давал. Лакеи, кричал он, лакеи буржуазии! Холуи правящего класса! Паразиты! Как только не костерил. И гиены! Точно, гиенами тоже называл. Само собой, это про партию лейбористов, ты ж понимаешь.
Уинстона не покидало ощущение, что говорят они о разном.
– Меня интересует другое, – сказал он. – Свободнее ли вам живется, чем тогда? С вами лучше обращаются? В прежние времена богачи, правящая верхушка…
– Палата лордов, – задумчиво пробурчал старик.
– Ну да, она самая, если угодно. Я вот о чем: с вами обращались свысока просто потому, что они богатые, а вы бедный? К примеру, правда ли, что капиталистов надо было называть сэрами и снимать перед ними кепку?
Старик крепко задумался и отпил четверть бокала.
– Да, – ответил он. – Им нравилось, когда ты честь отдавал. Знак уважения как бы. Сам-то я был против, но тоже так делал. Приходилось, ты ж понимаешь.
– А считалось ли в порядке вещей… я сам прочел в учебнике истории… часто ли богачи и их слуги сталкивали вас с тротуара в канаву?
– Разок было дело, – кивнул старик. – Помню как вчера! В вечер Лодочной гонки… любили они покуражиться после гонки… столкнулся я с одним таким на Шафтсбери-авеню. Настоящий джентльмен: сорочка парадная, цилиндр, черное пальто. Идет, вишь, зигзагами, ну, я в него ненароком и врезаюсь. Орет мне: не видишь, куда прешь? А я ему: думаешь, весь клятый тротуар купил? Он мне: не дерзи, не то башку откручу. А я ему: ты пьяный, щас полиции тебя сдам! Хотите верьте, хотите нет, хватает он меня за грудки и толкает чуть ли не под автобус. Ну а я-то тогда молодой был, уж и навешал бы ему, если б…
Уинстон беспомощно сник. Память старика – просто груда хлама. Хоть целый день расспрашивай, толку никакого. История Партии может быть правдой отчасти, а может и целиком. Он сделал последнюю попытку.
– Видимо, я неясно выразился. Вот что я хочу сказать: вы живете очень давно, половина жизни прошла до Революции. К примеру, в тысяча девятьсот двадцать пятом вы уже были взрослым. Вам как помнится, в двадцать пятом жилось лучше или хуже? Если выбирать, вы когда хотели бы жить, тогда или сейчас?
Старик, задумчиво глядя на мишень, медленно осушил бокал. Заговорил он философски снисходительно, словно смягчился от пива.
– Знаю, чего ты ждешь. Мол, скажу, что обратно хочу молодым стать. Многие так и скажут. В молодости и здоровья хватает, и сил. Как до моих-то лет добираешься, уж никакого здоровья нет. Ноги еле ходят, мочевой пузырь замучил. За ночь по шесть-семь раз встаю. Обратно же, старику свои радости! Никаких тех забот. Никаких баб не надо, а это великое дело. Я с бабой уж лет тридцать не путался, поверишь? Того больше – и желания не было.
Уинстон откинулся к подоконнику. Продолжать не имело смысла. Он собрался взять еще пива, и вдруг старик поднялся и поспешно зашаркал к пропахшей мочой части паба. Лишние пол-литра дали о себе знать. Уинстон посидел, глядя в пустой стакан, и едва заметил, как ноги снова вынесли его на улицу. Лет через двадцать на простой вопрос: «Как жилось до Революции?» – не сможет ответить никто. По сути, на этот вопрос уже некому отвечать: немногие уцелевшие с тех времен не способны сравнить две эпохи. Помнится миллион ненужных вещей: ссора с напарником, поиски потерянного велосипедного насоса, выражение лица давно умершей сестры, клубы пыли ветреным утром семьдесят лет назад, – зато все главные факты из поля зрения выпадают. Когда откажет память, а письменные свидетельства заменят подделками, когда это произойдет, то все поверят Партии, что условия жизни улучшились, ведь будет не с чем сравнивать…
Внезапно ход мыслей Уинстона резко оборвался. Он остановился и поднял взгляд. Узкая улица с темными магазинчиками среди жилых домов, прямо над головой – облезлые металлические шары, некогда позолоченные. Знакомое место. Ну конечно! Уинстон стоял возле лавки старьевщика, где купил свой дневник.
Его охватил страх. После той опрометчивой покупки он дал себе слово никогда не возвращаться в лавку. И все же стоило впасть в раздумья, как ноги сами принесли его сюда. Дневник Уинстон завел как раз для того, чтобы избавиться от подобных самоубийственных порывов. Тем не менее заметил, что, несмотря на поздний час – было около двадцати ноль-ноль, – лавка открыта. Чем маячить перед входом, лучше зайти внутрь, рассудил Уинстон. Если спросят, скажет, что искал бритвенные лезвия.
Хозяин лавки подвесил зажженную керосиновую лампу, от которой исходил резкий, но какой-то мирный запах. Книжнику было лет шестьдесят, тело хрупкое и сутулое, нос длинный и крупный, искаженные толстыми линзами очков глаза смотрели ободряюще. Волосы почти седые, зато брови густые и черные. Очки, спокойные хлопотливые движения, потертый пиджак из черного бархата придавали ему интеллигентный вид: то ли литератор, то ли музыкант. Голос его звучал мягко, словно вылинял, и выговор не так резал ухо, как у большинства пролов.
– Я узнал вас еще на тротуаре! Вы тот джентльмен, который купил альбом для девушек. Бумага там красивая, конечно. Ее называли «верже сливочного цвета». Такой больше не делают – сколько? – лет пятьдесят, пожалуй. – Он посмотрел на Уинстона поверх очков. – Ищете что-нибудь особенное или просто поглядеть зашли?
– Мимо проходил, – неохотно признался Уинстон. – Ничего конкретного я не ищу.
– Вот и хорошо, – сказал хозяин, – потому что предложить мне нечего. – Он виновато развел руками. – Сами видите, в лавке хоть шаром покати. Между нами говоря, торговля антиквариатом умирает. Спроса нет, предложения тоже. С годами мебель поломалась, фарфор и стекло разбились. Металлические изделия по большей части пошли в переплавку. Латунных подсвечников я не видел уже много лет.
Крохотную лавку и впрямь загромождал старый хлам, ничего мало-мальски ценного. Всю полезную площадь вдоль стен занимали пыльные рамы для картин, на окне стояли лотки с гайками и болтами, сточенными стамесками, перочинными ножиками со сломанными лезвиями, потускневшими наручными часами, даже не пытавшимися прикинуться исправными, и прочим старьем. Лишь столик был отведен под более стоящие: лакированные табакерки, агатовые брошки и тому подобную мелочь, – среди которых могло отыскаться что-то интересное. Уинстон заметил какую-то гладкую штуку, нежно мерцавшую при свете лампы, и взял в руки.
Это был тяжелый кусок стекла – округлый с одной стороны и плоский с другой, образующий полусферу. И в цвете, и в фактуре присутствовала необычайная мягкость, свойственная дождевой воде. В середине находился какой-то причудливый розовый завиток, напоминающий розу или актинию.
– Что это? – восхищенно спросил Уинстон.
– Коралл, – ответил старик. – Должно быть, с Индийского океана. Раньше их заливали прозрачным стеклом. Изготовлено не менее ста лет назад или даже больше, судя по виду.
– Красивая вещица, – проговорил Уинстон.
– Красивая, – одобрительно кивнул старик. – Сегодня это мало кто ценит. – Он прочистил горло. – Что ж, могу уступить за четыре доллара. Помню, когда-то за подобную вещицу давали восемь фунтов – сколько это не скажу, но очень много. Впрочем, кому сейчас нужны подлинные старинные диковинки?
Уинстон немедленно отсчитал деньги и сунул заветную вещицу в карман. Его привлекла не столько ее красота, сколько возможность обладать предметом из совершенно другой эпохи. Гладкое, похожее на дождевую воду стекло разительно отличалось от нынешнего. Особое очарование таилось в полной бесполезности этой безделушки, хотя, судя по весу, ее использовали в качестве пресс-папье. Карман она оттягивала сильно, зато почти не выпирала. При встрече с патрулем подобный предмет мог и скомпрометировать: все старое и тем более красивое неизменно вызывало подозрения.
Получив четыре доллара, старик заметно оживился. Уинстон понял, что мог бы сторговать вещь за три, а то и за два доллара.
– Не желаете взглянуть на комнату наверху? – предложил хозяин. – Вещей там немного, конечно. Если пойдем, понадобится свет.
Он зажег еще одну лампу, медленно поднялся по крутым стершимся ступенькам, прошел по короткому коридорчику и открыл дверь в комнату, выходившую окнами не на улицу, а на мощенный булыжником двор и лес дымоходных труб. Расставленная мебель придавала комнате жилой вид. На полу лежала ковровая дорожка, на стенах висела пара картин, у камина стояло глубокое, потрепанное кресло. На полочке над ним тикали старинные часы с циферблатом на двенадцать цифр. Почти четверть комнаты занимала огромная кровать с голым матрасом.
– Мы тут жили, пока жена не умерла, – сообщил старик, как бы извиняясь. – Сейчас я понемногу распродаю мебель. Прекрасная кровать из красного дерева, только бы клопов вывести… Хотя вы, наверное, сочтете ее излишне громоздкой.
Он держал лампу высоко, освещая всю комнату, и в теплом тусклом свете она выглядела на удивление уютно. У Уинстона мелькнула шальная мысль, что ее можно снять всего за несколько долларов в неделю. Идея, конечно, дикая, но комната пробудила в нем чувство ностальгии, что-то вроде памяти предков. Он легко представил, каково это: сидеть в кресле у открытого огня, закинув ноги на каминную решетку, и ждать, пока закипит чайник; совершенно один, в полной безопасности, без лишних глаз и приказов с телеэкрана, без лишних звуков, кроме пения чайника и мирного тиканья часов.
– Здесь нет телеэкрана! – невольно вырвалось у него.
– Ну да, – кивнул старик, – и не было никогда. Слишком дорого. Да и зачем он мне? Поглядите-ка лучше на тот славный складной столик в углу! Конечно, если надумаете использовать откидные доски, петли надо бы заменить.
В другом углу стоял маленький книжный шкаф, к которому Уинстона неодолимо влекло. Увы, сплошной хлам. В свое время книги методично выискивали и уничтожали, и эти рейды проделали в кварталах пролов такие же бреши, как и везде. Вряд ли во всей Океании уцелела хоть одна книга, изданная до шестидесятого года. Старик поднес лампу к картине в палисандровой раме, висевшей сбоку от камина, напротив кровати.
– Если вас интересуют старинные гравюры… – ненавязчиво начал он.
Уинстон подошел к репродукции. Это была гравировка на стали: впереди овальное здание с прямоугольными окнами и маленькой башенкой, на заднем плане – ограда и статуя. Уинстон задержал взгляд. Вроде бы место знакомое, только статуи он не помнил.
– Рама прикручена к стене, – сказал старик. – Если хотите, могу и снять.
– Я знаю это здание, – наконец проговорил Уинстон. – От него остались одни руины. В середине улицы возле Дворца правосудия.
– Верно. Неподалеку от Королевского суда. Его разбомбили много лет назад. Когда-то там была церковь Святого Климента Датского. – Старик виновато улыбнулся, словно сказал нелепость, и добавил: – Динь-дон, апельсины и лимон, с колокольни гудит Сент-Клемент…
– Как-как? – удивился Уинстон.
– Ах, это… Был такой стишок в моем детстве. Дальше не помню, только концовку: «Вот свечка, на пути в кроватку светить, а вот и палач идет – тебе головку с плеч рубить!» Мы под это танцевали. Дети поднимают руки над головой, ты идешь между ними, а на словах «вот и палач» они тебя хватают. В середине стишка просто перечисляются названия церквей Лондона – не всех, только самых главных.
Уинстон задумался, в каком веке могли построить ту церковь. Определить возраст лондонских строений непросто. Все крупные и величественные, если выглядят более-менее современно, автоматически считаются построенными после Революции, а древние на вид относят к неведомому периоду под названием Средневековье. Якобы за время существования капитализма люди не добились ничего. Изучать историю по архитектуре ничуть не легче, чем по книгам. Статуи, надписи, мемориальные плиты, названия улиц – все, что могло бы пролить свет на прошлое, целенаправленно переделывают.
– Не знал, что это церковь, – сказал Уинстон.
– На самом деле их осталось много, хотя им нашли другое применение. Так вот, детский стишок… как там дальше? Вспомнил!
- Динь-дон, апельсины и лимон,
- С колокольни гудит Сент-Клемент.
- За тобой три фартинга,
- В ответ бряцает Сент-Мартин…
Больше не помню. Фартингом называли мелкую монетку вроде нашего цента.
– А где был Сент-Мартин? – спросил Уинстон.
– Да он и сейчас стоит. Это на площади Победы, рядом с картинной галереей. Здание с треугольным крыльцом и колоннами, там еще много-много ступенек.
Уинстон прекрасно знал это место. Там находился Музей пропаганды, в котором выставляли модели ракет и плавучих крепостей, устраивали сцены из восковых фигур, изображавших зверства врага, и тому подобное.
– Раньше ее называли церковь Святого Мартина, что в полях, – добавил старик, – хотя никаких полей вокруг я не припоминаю.
Покупать картину Уинстон не стал. Слишком несуразное приобретение, к тому же домой ее нести нельзя, разве что из рамы вынуть. Он задержался еще немного и поболтал со стариком, которого звали вовсе не Викс (как значилось на вывеске лавки), а Чаррингтон. Мистер Чаррингтон, как выяснилось, был вдовцом шестидесяти трех лет и жил здесь уже три десятилетия. За минувшие годы он так и не удосужился поменять вывеску, хотя и собирался. Во время разговора Уинстон крутил в голове полузабытый стишок:
- Динь-дон, апельсины и лимон,
- С колокольни гудит Сент-Клемент.
- За тобой три фартинга,
- В ответ бряцает Сент-Мартин…
Удивительно, произносишь строчки про себя и слышишь звон колоколов забытого Лондона минувших дней, который все еще существует где-то, только его так просто не узнать. Казалось, одна призрачная колокольня вступает вслед за другой. Насколько Уинстон помнил, слышать церковные колокола ему не доводилось ни разу.
Уинстон попрощался с мистером Чаррингтоном наверху и спустился по лестнице один, чтобы старик не увидел, как он оглядывает улицу, прежде чем выйти. Он уже решил, что после долгого перерыва, скажем, через месяц, рискнет заглянуть сюда еще раз. Пожалуй, это ничуть не опаснее, чем прогуливать вечера во Дворце культуры. После покупки днвника ему вообще не следовало бы сюда возвращаться, к тому же он не знал, можно ли доверять хозяину лавки. И все-таки…