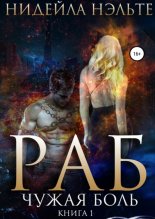Княгиня Ольга. Стрела разящая Дворецкая Елизавета

– Нет! – Хакон сжал мою руку и улыбнулся, но покачал головой. – Этому не бывать.
– Почему?
– После смерти Свенельда – мы же об этом говорим? – его преемник будет получать лишь треть от деревской дани и десятую долю торговых сборов. Все остальное пойдет в Киев. Никто, кроме Свенельда, не будет так самовластно распоряжаться этой землей и ее богатствами. Киевская дружиа Ингвара с трудом терпит это сейчас и не будет терпеть после его смерти ни одного лишнего дня.
– Ты точно знаешь? Ты говорил об этом с Ингваром?
У меня похолодело в груди. Не так чтобы я не поверила – это звучало весьма правдоподобно, – но на меня морозом повеяло предчувствие неизбежных бед.
И никакая я не ясновидящая. Не надо уметь раскидывать руны, чтобы предсказать приход зимы, когда закончится лето и осень.
– Ингвар сам сказал мне.
– И даже тебе, его родному брату…
– И даже мне, его родному брату. По той же причине, по которой мать не велит мне жениться. Ингвар не хочет и не может позволить, чтобы Дерева опять стали отдельной державой, пусть даже принадлежащей его брату. Это теперь его земля.
Я нашла глазами детей: Добрыня и Малфа с веселым визгом носились по лугу, все в бурых пятнах от цветков «заячьей крови», которыми бросали друг в друга. У меня кружилась голова. Этот летний день, ясный и солнечный, полный зелени, запаха цветущих трав, где мальчик и девочка в беленых рубашонках казались двумя живыми цветками – и то будущее, которого им почти не избежать. С самой свадьбы я знала, что мои дети будут рождены себе на беду! Меня выдали за Володислава ради мира между Деревами и Русью, но тем, что родились на свет, мои дети уже стали мешать своей могущественной родне.
Но что я могла изменить?
– И все же… я бы так хотела, чтобы ты остался здесь, – повторила я.
– Ты же понимаешь… – Хакон подавил вздох. – Хоть ты и женщина, но я вижу, ты с детства наслышана об этих делах… И здесь, и в Киеве разные люди хотят от меня совершенно противоположных вещей. Но распоряжается всем мой брат Ингвар, и его воля такова, что я не смогу исполнить желание никого из них. Никого. Но это меня не тревожит… вот разве что ты… и твои дети.
Хакон тоже посмотрел на них. Малфа наткнулась на бурую лесную лягушку и было испугалась, зато Добрыня отважно ринулся на врага и теперь пытался поймать, прыгая за ней, сам вроде большой лягушки.
Не сказать чтобы мой сын был очень красивым мальчиком. Его светлые волосы прямо лежали на голове, не вились, а на лице с простыми чертами, без румянца, с немного широковатым носом и упрямым лбом – как у отца – уже сейчас проглядывал будущий мужчина, упрямый и основательный. Он почти никогда не плакал, зато нападал на любого врага, какой попадался на глаза – пока в основном на собственных нянек. У него уже имелся пяток деревянных мечей, вырезанных точь-в-точь по образцу русских и печенежских, и он что ни день требовал, чтобы Вторушка и Мыльнянка «выходили биться». Они потом не шутя жаловались на синяки, но Володислав был в восторге от сына, да и я не могла его за это ругать. Воинский дух был самым лучшим даром, который мой сын мог получить от судьбы и богов.
– Единственное, что могу обещать, – проговорил Хакон, не отрывая от Добрыни глаз, – если тебе и твоим детям понадобится моя помощь, я сделаю для вас все, что только будет в моих силах. Я не для того в такие годы стал дедом, чтобы порастерять внуков!
Об этом я не рассказывала Соколине, пока мы с ней сидели возле котла и следили, чтобы вода не закипела. Горячий настой постепенно принимал все более густой красновато-бурый цвет, а я объясняла детям: отвар не должен кипеть, иначе цвет изменится. Потом я повела их мочить пасмы. Пусть это были чисто женские заботы, Добрыня и к ним относился с таким же увлечением и пылом, как к битве на деревянных мечах. Еще два года сын будет при мне, будет делить со мной и сестрой наши женские труды и забавы, а потом… Невольно я уже видела его взрослым: вот ему вручают меч, вот он сидит на коне, в хазарском шлеме, под которым я его едва узнаю…
– Мам, ты заснула? – Добрыня потянул меня за рукав, и я опомнилась. Эко куда залетела…
Встав на камни, мы стали мочить пасмы белых, тонко спряденных шерстяных нитей осенней стрижки: я пряла их всю долгую зиму. Мокрые мы клали в ведро; иной раз Добрыня нарочно позволял какой-нибудь уплыть и кидался в воду, чтобы ее поймать. Малфа бегала за ним и вопила, и когда мы вылезли на берег, они оба были мокрыми.
Только теперь, пока я глядела на них, у меня стало веселей на сердце. Когда-то и мы с Ростишей так же резвились на отмели днепровского берега… Правда, мой брат был тихим, болезненным мальчиком, и бегали в основном мы с Делянкой, а он сидел на песке, строя городки из песка и разных палок. Часто с нами ходили Дивиславичи: Соломка, Вестимка, Дивуля, Живлянка, а еще дети боярыни Уты – Улеб, Святанка, Держанка… Святша тоже приходил, хотя мы, девчонки, его не занимали, и он все норовил увести мальчишек в овраги играть в «осаду Цесареграда». Даже, помню, раз пытался рыбацкую долбленку на колеса поставить, чтобы по суше ехать под парусом и очень сердился, что не выходит. В другой раз играл в «аварский плен» и желал, чтобы «женщины», то есть мы с девчонками, везли его, запрягшись в волокушу. Мы, то есть я и две Дивиславны, тогда были уже невесты, но и маленькие дочки Уты везти волокушу не пожелали. Семилетний Святша (это было в год моей свадьбы) сердился и говорил, что раз есть такое предание, значит, надо. Улебушка тогда предложил сразу перейти к битве за освобождение пленниц и тем нас всех спас от аварской погибели…
И все же нам тогда было весело. Хотела бы я, чтобы все наши дети так же играли вместе, и эта ватага вышла бы куда больше. Но детей моей подружки Деляны я, наверное, не увижу никогда, уж слишком далеко она уехала – на другой край земли, на Волхов, в Ладогу. Это даже дальше Хольмгарда, откуда родом моя мать. А вот Дивуля, как мне рассказал Хакон, недавно родила четвертого мальца. С ее старшими мои уже могли бы играть, но увы: с мужем, воеводой Асмундом, она живет на Ильмень-озере… Как причудлива жизнь: будто играющий камешками ребенок, она берет людей из разных мест, смешивает в одну кучу, а то вдруг передумает и разбросает по разным концам белого света. А мы все помним друг друга, все надеемся, что когда-нибудь снова будем вместе…
Чада носились по песку, пока чуть не опрокинули ведерко с щелоком – я едва успела подхватить. Вторушка стала снимать с них рубашонки и вытирать своим подолом, а я побросала пасмы в котел с настоем. Соколина неподвижно сидела возле него, уставясь в огонь и даже не замечая нашей возни у воды – а в любой другой день она уже была бы такой же мокрой, как оба мои детки. От сумрачной думы ее крупные черты отяжелели, глаза потемнели.
– Что ты такая мрачная, тученька осенняя? – наконец спросила я. – Как там у вас мой родич? Не нашли, кто ему колючку под потник подсунул?
– Да эти два дурня подсунули, – угрюмо ответила Соколина.
– Какие два дурня? – Я постаралась улыбнуться. – У вас много таких, мне и невдомек – которые два?
– Ольта с Кислым! – гневно воскликнула Соколина и наконец посмотрела на меня. – Вот два балбеса! Думали, он с коня грохнется, вот им смеху будет! А если бы шею свернул? Отец их к Перемилу отсылает.
– И правильно…
– Только отец… ой, матушки, и сама не верю, что это все взаправду! – Соколина отобрала у меня длинную ложку и яростно помешала пасмы в котле. – Отец… я уж и не знаю, что думать… он и выпил тогда всего ничего… Всегда же говорил, что не отдаст меня замуж, пока жив, а теперь…
– Да ну! – ахнула я. Несмотря на вчерашний разговор с Хаконом, я не оставила эту мысль, и намек на то, что у Свенельда она тоже есть, меня обрадовал. – Неужели он думает тебя за…
– Кабы все так просто! Если бы думал… как люди… и то я… – Соколина бросила ложку на землю и стала расхаживать возле костра. – Очень мне надо! Подумаешь – солнце красное!
– Ладно тебе! – Я попыталась ее поймать и успокоить, но она оттолкнула мои руки. – Чем тебе Хакон не жених? Он княжьего рода, у него родня такая богатая, сильная, от Восточного моря до Греческого всеми землями владеет! А сам он и собой хорош, и всем взял! И ты будешь моей… – Я рассмеялась, так позабавила меня эта мысль. – Он – мой вуй, и ты будешь моей вуйкой!
– Он хочет, чтобы твой Пламень-Хакон его убил! – выпалила Соколина, отталкивая руки, которыми я хотела ее обнять на радостях.
– Что? – Я так и замерла с поднятыми руками. – Убил, ты сказала? Кто кого? Хочет?
– Отец мой хочет, чтобы Хакон его убил! – внятно повторила Соколина.
– Кого – его? – Я все не могла взять в толк, откуда у Свенельда вдруг взялся такой враг, ради избавления от которого он нуждается в помощи Хакона.
– Да отца моего!
Я, кажется, ни разу не видела, чтобы Соколина плакала. Даже упав, разодрав коленки, она лишь закусывала губу и гневно сверкала глазами, будто негодовала на свою боль. Но сейчас ее лицо так исказилось, словно она готова была разреветься.
Я потрогала свой лоб – как обычно. Потрогала ее лоб – немного горячее, но все же не жар.
– Ты захворала или я?
– Отец мой захворал. – Соколина снова села на бревно и уставилась в огонь.
– Кипит! – закричал Добрыня и кинулся расшвыривать поленья, чтобы уменьшить жар.
– Умница моя! – Я погладила его по голове, но глядела при этом на Соколину. – Чем таким воевода захворал, если дальше жить не хочет?
Только этого еще не хватало! Конечно, в такие годы никто здоров не бывает, и все Свенельдовы хвори я знала наперечет: прострел, грудная жаба, горлянки, пристающие к нему каждую весну и осень… Но от всего этого есть сильные зелья и нужные слова, и воевода вовсе не так мучился, чтобы не хотеть жить!
– Он желает умереть в битве, – устало выговорила Соколина. – Или на поединке, от руки достойного противника. Чтобы не дожидаться «соломенной смерти»[5] и не попасть в… ну, какое-то там дурное место. И он придумал: заставить Хакона биться с ним насмерть. И если Хакон победит, то отец пойдет в свою Валгаллу, а Хакон получит меня в жены и все наше добро. Я тоже не верила! – крикнула она, глядя в мои выкаченные от изумления глаза. – Думала, он шутит! А потом пошла к нему, когда он спать ложился. И он сказал: все правда! Сказал, он стар! Не хочет ждать!
– Но ведь раньше он говорил…
– Передумал! Сказал, от молодых мало толку, и лучше, чем этот, уже не дождаться! Этот хотя бы родной сын его драгоценного Олава конунга! Сказал, многие достойные люди в древности делали так… ну, умирали на войне, которую сами затеяли. Харальд Боезуб и еще какой-то…
Про Харальда Боезуба я знала. Он был предком нашего материнского рода, и мать рассказывала нам с Ростом о нем и о битве при Бровеллире, еще пока мы были совсем маленькие. И мы слушали об этом столько раз, что теперь я без запинки пересказывала эту повесть и моим детям. И о Хедине я тоже знала, который каждую ночь бьется с Хагеном, похитителем его дочери Хильд. Всякий раз они поражают друг друга насмерть, но Хильд колдовством оживляет их, и смертельная схватка повторяется снова… Жуткое сказание, но Добрыня его очень любит. Мне вдруг представилось: Хакон и Свенельд, израненные, окровавленные, стоят друг против друг с мечами и щитами, а поодаль – Соколина с поднятыми руками, творящая волшбу… Никакой волшбы она, конечно, творить не умела, кто бы ее тут научил, но все это было так дико, что я содрогнулась. Просто немыслимо!
– Я не верю! – вырвалось у меня. – Блажит воевода, морочит вас!
Соколина не ответила, но по ее лицу было видно: она хотела бы со мной согласиться, да не может.
– У вас опять все кипит! – раздался вдруг рядом голос моего мужа.
И поразил меня как громом. Откуда тут взялся Володислав? Я обернулась: он стоял у меня за спиной и смотрел в костер.
Котел и правда закипал: предательские пузырьки тянулись снизу вверх в буром отваре и издевательски лопались у поверхности.
– Я увидел со стены, как ты пытаешься утопить моих детей, и пришел их спасать! – Володислав подхватил на руки подбежавшую к нему Малфу и подкинул в воздух.
Я охнула и принялась торопливо ворошить поленья. Пора добавлять квасцы. Но если я уже успела все испортить, то вместо красновато-коричневого получится просто бурый…
Мне грозило загубить немалую долю зимних трудов, но я едва соображала, что делаю. Все казалось, я сплю, потому что наяву всего рассказанного Соколиной ну никак не могло быть!
На берегу мне было лишь стыдно перед мужем, что я чуть не проворонила покрас. Не обратила внимания на то, что он слышал часть нашей беседы с Соколиной, и не подумал, что из этого может выйти. И не узнала бы, если бы в тот же вечер не рассыпала снизки.
Это было мое любимое ожерелье: его мне оставила мать, когда уезжала из Киева. Сама она его привезла из Хольмгарда в числе своего приданого. Когда-то оно состояло из тридцати трех стеклянных бусин, черных, одни с белой волной, другие – с белыми, синими, зелеными «глазками» и «ресничками». С тех пор я, криворукая, его уже роняла, четыре «глазка» раскололись. Вместо них я в последние года повесила узорные бусины из серебра, которые мне отец присылал из Моравии, так что все равно было очень красиво.
Но когда бусин так много, ожерелье получается тяжелое, и рано или поздно любой шнур или ремешок рвется. Наступал вечер, пора было собирать ужин, но сначала покормить и уложить детей. Они догуливали с Вторушкой и Мыльнянкой у реки, я послала за ними, а сама пока стала одеваться – тут ремешок и оборвался. Часть бусин закатилась за мою самую большую укладку – в ней я привезла приданое, и до сих пор там хранилось самое ценное мое платье и прочее добро. Я присела, заползла за угол укладки и впотьмах стала шарить по полу – черные бусины плохо видно.
Скрипнула дверь, кто-то вошел. Я подумала, что это Мыльнянка вернулась, хотела позвать ее на помощь и попросить огня, но не сразу смогла встать: уже собранные бусины я складывала в подол. А потом раздался голос:
– Да как ты сделаешь, чтобы он один без дружины остался?
Это был голос Маломира. Сперва я просто постыдилась предстать перед ним в таком виде – сидя на полу и с бусинами в подоле, – но потом до меня дошло…
– Не выйдет, – продолжал он. – Вот если на тропе ловушку поставить, то он и попадет – у него конь-то лучше, чем у его людей, я вчера посмотрел. Веревку натянуть поперек… Может и убиться. Или покалечиться как.
Тут уже я присела пониже и застыла. Дружина? Ловушка? Мне мгновенно пришел на ум Хакон.
– Все бы хорошо, но как его заставить по той самой тропе скакать? – раздался в ответ голос Володислава. Он говорил приглушенно, видимо, продолжая разговор, начатый где-то снаружи и ставший слишком неподходящим для чужих ушей. – Будет гон. Как знать, куда дичь побежит? Через весь лес веревку не натянешь.
Они помолчали. Скрипнула скамья: кто-то из них сел к столу.
– Если бы его как-то от дружины оторвать… – опять заговорил Володислав. – По голове дубиной дать, из седла вынуть, а ногу в стремени оставить. Да и хлестнуть коня! Потом, когда поймают, там от головы такое месиво останется, что уж ни Ингвар, ни сам леший не докажет, что было…
– А как ты его от дружины оторвешь?
Они помолчали. Я едва дышала.
– Ладно, думай! – Судя по звуку, Маломир встал.
За дверью послышался веселый гомон. Я облилась холодной дрожью: дети меня вмиг найдут, и эти двое узнают, что я все слышала!
К счастью, Маломир уже шел к двери: с детьми он встретился за порогом, я слышала, как они весело приветствуют дедушку и показывают какой-то особый камешек с берега. «Ты у мамки тесемку возьми да на шею повесь – будет тебе оберег!» – наставлял Добрыню тот.
– Стой, дядька! Придумал! – вдруг закричал Володислав и побежал за ним. – С нами же девка поедет!
Дети с двумя челядинками ввалились в избу, и мужчины никак не могли продолжать свой разговор здесь. На мое счастье, они отошли уже достаточно далеко и не слышали криков чад, обнаруживших меня на полу за ларем.
Я оставила их собирать бусины, а сама, сжимая свою добычу в кулаках, села к столу. Меня не держали ноги – не то от ужаса, не то от того, что я слишком долго просидела скрючившись. Они не назвали имени, но замысел был совершенно ясен. На кого они умышляли – на Свенельда или на Хакона? Почти наверняка на Хакона – к Свенельду они как-то притерпелись за много лет, а вот в его возможном преемнике увидели нешуточную угрозу. Володислав сразу заподозрил, что Хакон прислан сюда Ингваром неспроста – да и что между древлянами и полянскими русами может быть спроста! А теперь… мы утром говорили с Соколиной о том, что Свенельд задумал уступить Хакону свое место… и Володислав это слышал!
Было трудно дышать, и я знаком велела Вторушке подать воды. Прижала руку к груди, но там теснило, будто навалилась на сердце большущая черная жаба. И протянула липкие лапки к моему горлу.
Меня разрывало на части: хотелось немедленно вскочить и мчаться куда-то со всех ног, чтобы все это предотвратить, но иная сила требовала сидеть на месте, не подавая вида. Дать себе время как следует подумать, прежде чем произнести хоть одно слово.
Выпив воды, я стала глубоко дышать.
– На солнце перегрелась, – пояснила я в ответ на удивленный взгляд Вторушки.
– Мама заболела! – завопила Малфа и обхватила меня.
Я подняла ее и посадила на колени, обняла, чмокнула в висок. Это помогло мне прийти в себя. Дети. В этом деле надо поворачиваться очень и очень осторожно, чтобы ради сильных вооруженных мужчин не подставить под удар тех, кто не может за себя постоять.
Чего они хотят – понятно. Не такое уж диво, если человек гибнет на охоте. Когда несешься по лесу вскачь за косулей, жизнь твоя ничего не стоит – споткнется конь о коряжку, полетит кувырком, вышвырнет из седла, и готово… Бывает и так, что конь волочит за собой всадника с застрявшей в стремени ногой. Как пересчитает головой все стволы и камни, его потом свои не признают… Даже если выживешь при падении, можно покалечиться… а уж опозориться – это самое малое. Свенельд ведь говорил о состязании…
Девка! При мысли о состязании мне пришли на память последние слова мужа: «С нами девка поедет». Да, Соколина собирается на лов с отцом, Хаконом и Володиславом. Ей-то ничего не стоит скакать по лесу во весь опор – ну, у нее же нет детей… Но не может быть, чтобы она что-то знала о замыслах моих мужчин!
В этот вечер у меня все валилось из рук. Даже Володислав, когда пришел с Житиной и Званцем ужинать, заметил, что со мной что-то не так. Пришлось и им сказать, что на солнце перегрелась, и уйти в свой кут за занавеску. Там я села на лежанку и взялась за голову, которая чуть не лопалась от мыслей, опасений и порывов.
Когда мне было девять или десять лет, я пережила войну моего родного дяди с моим же отцом. К счастью, все случилось быстро, обошлось без больших погромов, меня и мать не затронуло. (Много лет спустя я уразумела, что за быстроту и хорошую подготовку смуты надо благодарить того же Свенельда и его сына Мистину, в доме которого я провела последние года перед замужеством). Но с тех самых пор я поняла: бывает и так! Потом родители уехали, а меня оставили: я уже была обручена с Володиславом и отец считал нужным сохранить уговор и сдержать слово. Дальше я росла сначала у Эльги, потом у ее сестры Уты, среди детей – своих и приемных, то есть Дивиславичей, осиротевших в ходе войны Ингвара с ловатичами. Они видали кое-чего похуже, чем я. С тех пор я знала, что бывает и похуже… Четырнадцати лет меня отвезли в Дерева, и хотя жизнь моя протекала здесь довольно мирно, я постоянно помнила, что этот мир – лишь блестящая поверхность глубокой, холодной и опасной реки.
И вот впереди заиграл водоворот. И дело было даже не в Хаконе. Я уже любила моего дядю, но думала сейчас не столько о нем, сколько о детях. Если он погибнет у моего порога, Ингвар этого так не оставит. Именно сейчас, когда Свенельд стар и ему нужна замена, князю руси особенно важно показать окрестным родам: он в прежней силе и хватка его не ослабла. А если мой дядя пойдет ратью на моего мужа… Что будет со мной и детьми?
На этом мои мысли останавливались, будто впереди были две льдины, неумолимо грозившие сомкнуться над нашими головами. И чтобы этого не случилось… Хакон должен изловчиться, чтобы проскользнуть между ледяными горами и уйти отсюда живым.
Давно уже рассвело, солнце высушил росу, белесые полосы тумана рассеялись над ближним ельником. Пора было трогаться в путь, и Кислый уже не раз заглядывал во двор из-за ворот, где ждал с лошадью. Поскольку их отсылали в наказанье, Сигге велел дать Ольтуру и Кислому всего одну лошадь на двоих: пожитки везти и ехать по очереди, если уж очень притомятся. И это оскорбление Ольтур тоже не намерен был прощать рыжему красавцу, которого числил во всем виноватым.
И хотя час был уже не ранний, Ольтур упорно сидел под навесом у воеводской избы. И ждал. Не было сил уехать, не повидав ее на прощание.
Наконец дверь скрипнула и отворилась. Вышла Соколина. Нагнувшись под низкой притолокой, она не заметила Ольтура, но он выбросил руку и схватил ее за ногу под самым краем зеленого подола. Соколина взвизгнула и отшатнулась.
– А в лоб? – с негодованием воскликнула она, но шепотом, и плотно прикрыла дверь, чтобы не услышал воевода. – Ты чего тут сидишь, будто пес? Я думала, ты уже за три поприща уехал!
– И не жаль тебе было, что не повидала меня на прощание? – Ольтур встал на ноги.
– Чего жалеть? – Соколина уколола его взглядом, теперь уже снизу вверх. – Или я за десять лет на тебя не налюбовалась?
– А теперь тебе и без меня есть кем любоваться, так? – Ольтур оперся о стену возле ее головы, нависая над ней, но Соколина не сдвинулась с места.
Вместо этого она повернулась к стене, оперлась на нее ладонями и уткнулась в них лицом, всем видом выражая решительное нежелание смотреть на белый свет.
– Ну… ты чего? – Ольтур нерешительно тронул ее за плечо, но она дернулась, сбрасывая его руку.
– Никого вас видеть не хочу! – простонала она глухо. – Что вы все как с ума посходили? Будто леший какой всех разом обморочил. Корнями обвел! И тебя, и отца…
– Знаю я этого лешего! – Ольтур сердито сверкнул глазами в сторону гостевой избы, где еще почивал Пламень-Хакон со своими людьми. – Уж будь моя воля, я бы его пинком под зад отправил… обратно в лес! Ну, Соколина! – Он все же взял ее за плечо и попытался повернуть. – Ну, хоть взгляни на меня! Увидимся ли еще? Или увидимся, когда ты уже…
Он не сумел выговорить «замужем будешь», только бросил на гостевую избу еще один негодующий взгляд.
– Рано еще меня хоро… снаряжать! – Соколина повернулась, прижалась спиной к стене. Лицо ее выражало привычную решимость. – Отец ведь сам сказал: сперва он должен меня одолеть. Сказал, и дружина слышала. Вот пусть и одолеет. Много чего придумать можно: стрельба, скачка… На моей Аранке меня не всякий и мужчина догонит! – Она глянула на Ольтура, который в таком же случае ее не догнал, и повеселела. – Вот на лов поедем – посмотрим, кто из нас больше дичи настреляет! Меня ведь тоже не в дровах нашли – с позором этот женишок от нас уберется!
– Ты уж смотри… – Ольтур взял ее за плечи и заглянул в лицо. Она стряхнула его руки, но он продолжал: – Постарайся! Не давайся ему!
– Ты! – Соколина вдруг сама повернулась и крепко взяла его обеими руками за рубаху на груди, будто собиралась бить. Но Ольтур даже не дрогнул. – Ты меня учить будешь? – с сердитым напором продолжала Соколина. – Постарайся! Да уж я постараюсь! Тут не обо мне речь! Отец ведь не шутит! Если Хакон меня одолеет, отец сам с ним будет биться! Ну-ка, прикинь: Хакон моложе вдвое, кто одолеет? Вот так-то!
Она прочла по лицу парня наиболее вероятный исход, который и сама прекрасно знала. Хакон сын Олава был высок ростом и находился в самом расцвете сил. Свенельд мог противопоставить этому только опыт, но этого уже было мало. И волю богов, на которую Соколина не собиралась во всем полагаться.
– Не за себя, за жизнь отца моего я буду стараться! – шипела она в лицо Ольтуру, чтобы Свенельд в избе как-нибудь не услышал. – И уж не тебе меня учить! Убирайся!
Она оттолкнула его и пошла через двор к погребу. Ольтур посмотрел ей вслед, и по лицу его расплывалась улыбка. Едва ли он мог надеяться, что она поцелует его на прощание, но услышанное и увиденное вдохновило его едва ли меньше поцелуя.
Вскоре они с Кислым, ведя в поводу престарелую лошадь, свернули под сень густого леса. На полянах уже припекало, но здесь висела утренняя прохлада. Кислый вздыхал время от времени, вовсе не радуясь ни предстоящему пути, ни службе под началом боярина Перемила. У того тоже имелась дочь-невеста, но она не шла с Скоколиной ни в какое сравнение.
Ольтур молчал. Перед глазами у него стояла Соколина, и он ощущал ее так ясно, как будто она шла с ним бок о бок и одновременно глядела ему в глаза. И он всем сердцем жаждал сохранить это драгоценное ощущение как можно дольше, даже не хотел разговаривать, чтобы его не расплескать.
Сквозь птичий щебет раздался негромкий, осторожный свист. Оба парня замерли, потом быстро огляделись: один налево от тропы, другой направо.
Слева из-за кустов показался человек. Был он не вооружен, и оба узнали Гляденца – человека боярина Житины.
– День добрый! Что-то долго вы добирались, с белой зари вас ожидаю!
– Чего это тебе нас ожидать? – с подозрением спросил Ольтур. – Перемилу поклон, что ли, передать?
В нынешние дни у Свенельдовых людей с Маломировыми не имелось свежих и нерешенных раздоров, тем не менее оба слегка напряглись.
– Просит вас боярин мой на беседу.
– В Искоростень не пойдем! – Ольтур решительно помотал головой. – И так поздно уже.
– В городец и не надобно. Он тут ожидает, поблизости, – Гляденец кивнул в сторону Людининых выселок из двух дворов, спрятанных в лесу.
– Чего ему надобно-то?
– А вот узнаешь. Да не бойся ты! – Гляденец снисходительно усмехнулся. – Делать князьям да боярам нечего, кроме как на вас умышлять!
Но Ольтур не спешил сходить с тропы, ибо никак не мог вообразить такого дела, которое к нему может иметь ближний человек Маломира, да еще тайное.
– Слышно, будто у вас состязание затеялось, – снова усмехнулся Гляденец и заметил, как переменился в лице Ольтур. – Ясный сокол ловить будет белу лебедушку. Так вот дело наше такое, чтобы не поймал! Идете?
– Идем! – разом решившись, Ольтур шагнул к нему.
Той ночью я почти не спала, но старалась не ворочаться, чтобы Володислав не заметил. Встала я, как обычно, раньше него; мне хотелось прямо сейчас, едва умывшись и прибравшись, бежать на Свенельдов двор, но чем бы я объяснила свою поспешность? Княгиня, чай, не вольно мне взбесяся бегать… Да и Володислав, уж конечно, присматривает за мной. Он сам хотел, чтобы я поближе сошлась с Хаконом, и после каждой нашей встречи дотошно расспрашивал меня о наших беседах. Рассказывала я ему не все. Ведь ясно: чем больше он знает о моем дяде, тем легче найдет оружие против него. А сколько бы за последние шесть лет мне ни вбивали в голову, что полянские русы – наши враги и враги моих детей, я не могла забыть о том, что из них происходит моя мать и вся ее родня и дружина, среди которой я родилась и выросла. Древляне были убеждены, что у руси нет иной цели, кроме как унижать их и портить им жизнь, но я знала: это не так. Однако им, сидящим между Ужом и Тетеревом, сложно было вообразить цели руси, раскинувшей крылья от Ютландии до Серкланда.
– А что, подружка твоя придет к нам сегодня? – спросил Володислав, когда я подала ему и детям завтрак.
Сама я тоже села, но каша не лезла в горло, и я только допила за Добрыней молоко.
– Не знаю, – я подняла на него глаза, чуть ли не в первый раз со вчерашнего вечера.
Но тут же снова опустила взгляд.
– Тебе все нездоровится?
– Немного. А что тебе Соколина?
– На состязание вызвать хочу! – Володислав рассмеялся. – Не только же с тем рыжим ей наперегонки скакать, у нас тоже молодцы имеются!
– Да неужели думаешь одолеть? – я тоже попыталась засмеяться, не подавая вида, как меня задели его слова. – То-то Свенельд обрадуется!
Боги, ну почему все сразу? Мой муж с юных лет, то есть почти с нашей свадьбы, сделался весьма женолюбив. Не было на моей памяти ни одного весеннего гулянья, чтобы он не гонялся за девками – чем кончались эти погони в глубине леса, я не спрашивала и не желала знать, хотя он и не скрывал от меня своей удали. И на Соколину он глаз положил давным-давно: такую девку и слепой заметит, не то что мой «коршун». Правда, Соколина была выше него ростом и только смеялась в ответ на его намеки. А ссориться из-за девки одновременно со мной и Свенельдом Володислав не решался.
– А что бы мне и не выиграть? – Володислав вскинул голову, будто эта мысль пришла ему только сейчас. (Потом я заподозрила, что сама-то ему ее и подала.) – Свенельд сказал: кто над девкой верх возьмет, тот ее и получит. Сказал при дружине, все знают. Да и сама она вчера говорила. И если не русин верх возьмет, а я, – стало быть, и девка моя. Старику не отпереться, от своего слова не отказаться.
– Тебе нужна Соколина? – я придвинулась ближе и уперла руки в бока. – Или тебе одной жены мало? И девок мало, за какими все весну по лесу носишься? Детей тебе мало – вон мои двое, у Сеченихи твой, у Жалейки твой. Еще перечислить?
– Дура ты! – Володислав быстро встал, чтобы не смотреть на меня снизу вверх. – Мальцов только чужих считать умеешь! А того тебе невдомек, что кому девка, тому и… Заберу я его девку себе, не будет у старика иного зятя! С девкой вся его дружина ко мне отойдет, и посмотрим тогда…
Он осекся, но мысль я уже ухватила.
– Ну, Славуша, что ты взбеленилась? – Он обнял меня, кажется, поняв, что сам сглупил. – Чего там эти девки, я же тебя одну люблю! Ты – моя княгиня, и другой не будет никогда! И Соколина… хороша она, а все же – холопкина дочь. Рядом с тобой ей не стоять и не сидеть. Ты ж сама ее по доброте сердца привечаешь, а ей ведь подле тебя, княжьей дочери, не место…
Но я высвободилась из его рук и пошла из избы. И вожделение его к моей подруге, и поношение ее рода были мне противны.
– Пошли за ней вот хоть сейчас! – крикнул Володислав мне вслед. – Да ладно, я сам пошлю.
Когда Соколина пришла, Володислава поблизости не было. Я сразу увела ее в овин, где на жердях длинным рядом сушились выкрашенные вчера пасмы – ну точно, как спящие вниз головой ночницы[6]. Несмотря на треволнения, покрас, в который я вовремя добавила щелок, получился хорош – красновато-коричневый, как осенние ягоды переспелого боярышника. Разглядывая их, мы даже на время забыли обо всем прочем. Но ненадолго.
– Так ты будешь состязаться с Хаконом? – спросила я, когда мы принялись выворачивать пасмы другой стороной наружу, чтобы лучше сохли.
– Еще как буду! – с ожесточением ответила Соколина. – Пусть не думает, ему тут все на хвалынском блюде принесут!
– Но неужели он тебе совсем не нравится? – Я подошла и прикоснулась к ее плечу, чтобы заставить посмотреть на меня.
Зачем я так сказала? Ведь понимала уже, что этот брак сломает наш устоявшийся мир и принесет всем одни беды. Но они были бы такой прекрасной четой! Оба такие рослые, сильные, красивые, отважные… Как бы я хотела увидеть их рука об руку!
– Я не пойду замуж! – Соколина повернулась и с вызовом взглянула на меня. – Ни за него, ни за Перуна самого, хоть он сейчас ко мне на порог спустись! Ты же слышала: отец хочет меня выдать за него, а сам… умереть. Моя свадьба – его тризна. Я этого не позволю!
– Но, ягодка моя! – я стиснула руки в отчаянии. – Тебе нужен муж! И ты уже девка давно взрослая, и Свенельд не вечен. Когда-нибудь…
– Вот «когда» настанет, тогда и будем плакать! – прервала она меня. – Да нет, я и тогда не буду! В поляницы уйду! Возьму дубину, буду по степи скакать и печенегов бить!
Она засмеялась, а я зажала себе рот ладонью.
– Были же раньше девки, что на рать ходили, не хуже парней! Помнишь, твои моравы приезжали, рассказывали про Любушу, у которой своя девичья дружина была? Я тоже себе девок наберу и дружину снаряжу! А если у нас такого не бывает, к моравам уеду, буду там угров воевать!
Я даже не знала, что ответить на эти лихорадочные речи с явственным привкусом безумия. Да, и у полян, и у норманнов, и у моравов есть предания о девицах-поляницах, валькириях и девичьих дружинах. Я даже от грека одного слышала, будто была где-то в степях целая держава, где жили одни баба да девицы, совсем без мужей… но греки не то еще сбрешут.
Однако где мы, и где предания? Сколько ни мечтай, а жить приходится в этой вот жизни, которую можно потрогать…
– Ты как дитя, – горестно сказала я. – Добрыня тоже хвалится: вот пойду в чисто поле, Змеище-Горынище убью, двенадцать голов снесу, всех змеенышей конем стопчу, весь полон на волю выведу. Ему-то я отвечаю: само собой, Добрынюшка! Кашу доедай, чтобы сил набраться, и поедем в чисто поле. По кочкам, по кочкам… Но он-то – малец по шестому году. А ты куда собралась?
Соколина крепко сжала губы и уставилась куда-то в стену. Она была не так глупа, чтобы не понимать, какие глупости несет. А все из-за несбыточного желания, чтобы все в жизни оставалось как есть и никогда не менялось в худшую сторону.
Мне пришлось с этими мечтаньями расстаться девяти лет от роду. А ей было уже все семнадцать. До сих пор жизнь ее баловала, а чем позже, тем труднее привыкать.
На миг мне захотелось взять ее на руки, как Малфу, прижать к себе, приласкать, утешить… Да где – здорова, не подниму…
– Вот вы где заховались! – Дверной проем потемнел, заслоненный человеческим телом, и вошел Володислав. – Что, Свенельдовна, кобылку-то свою золотую оседлала? Луки твои напряжены, стрелы изострены?
И тут я чуть не застонала от досады. Вот же я дура! Надо же было сказать ей – передать, что я вчера слышала, сидя на полу за укладкой. Предупредить, чтобы остерегалась, а лучше и вовсе не ездила на этот проклятый лов.
Но поздно, время упущено. При Володиславе я ничего такого уже не скажу.
С досады я застонала про себя и укусила согнутый палец, но муж, к счастью, смотрел не на меня. Он широко и дружелюбно улыбался Соколине, в его светлых глазах под широкими бровями-крыльями было знакомое мне шальное выражение, говорящее о том, мой «коршун» нацелился на добычу. Чтобы он там мне ни врал, мысль заполучить ее нравилась ему сама по себе, не ради Свенельдова наследства.
Да тут нашла коса на камень. Несчастное выражение на лице предводительницы девичьей дружины сменилось надменностью и вызовом.
– Мою Аранку и ветру не догнать! – Она взглянула на Володислава так, будто это она была здесь княгиня.
– А вот я и попробую! – усмехнулся он. – Примешь меня в супротивнички?
Соколина удивленно посмотрела на меня: ей раньше не приходило в голову, что одним Хаконом дело не ограничится.
– Как же мы состязаться будем?
– А вот так: дичь поскачет, мы за ней. Ты смотри на меня: как я тебе свистну, скачи за мной. Кто первый дичь настигнет да подстрелит – того и верх. Идет уговор?
– Не сама я себе супротивников выбираю, – подавляя досаду, ответила Соколина. – Кого отец укажет, тот и будет.
– Идем к отцу! И с ним потолкую, и с Якуном вашим. Идем!
Володислав хотел приобнять ее за плечи и повести из овина, но она увернулась и пошла вперед него к светлому дверному проему. Они ушли в сияющий летний день, а я осталась стоять в полутьме. Ничего я тогда не понимала. Володислав, казалось, забыл о Хаконе и всем сердцем предался мечте завоевать Соколину. Не сказать чтобы я очень беспокоилась об этом, хоть речь и шла о моем муже. На пути к этому замыслу стояла такая гора каменная – воевода Свенельд, – что я могла об этом сердца не тревожить. И все же не оставляло чувство, что где-то меня обошли. Где, ёжкина кость?
С отъездом Ольтура молодая дружина поуспокоилась. И в этот день, и на следующий Логи-Хакон уже не ловил на себе столько вызывающих взглядов. Иные обращались с ним дружелюбно, расспрашивали о северной державе старого Олава: у иных оттуда происходили отцы, старые оружники Свенельда, но сами они тех земель никогда не видели. К их числу принадлежал и Бьольв сын Гисмунда – учтивый, неглупый молодой мужчина. Довольно рослый, худощавый, с продолговатым лицом, небольшими светлыми, с легкой рыжиной усами, не достигавшими маленькой светлой бородки, опушившей подбородок. Черты лица у него были довольно привлекательные, на чуть длинноватом носу имелась небольшая горбинка – след перелома. Брови и полудлинные волосы, которые он носил опрятно собранными в хвост, были чуть темнее бородки. Одевался он хорошо, в гридницу на ужин являлся в крашеной одежде, но и по утрам во время упражнений не ходил в рванье, в отличие от некоторых других. Не шее носил небольшой серебряный «молоточек Тора», а по бокам его два волчьих клыка – намек на его имя[7]. По всей его речи и повадке было видно человека хорошего рода.
Разговорившись утром во дворе, он повел Логи-Хакон смотреть кузницу, где изготавливалось и чинилось все вооружение дружины. На большом дощатом ларе лежали в ряд с десяток новых наконечников копий и рогатин: здесь были подходящие для охоты «крылатые» наконечники с упором под лезвием, чтобы не входили в тело жертвы слишком глубоко.
– Возьми себе какой-нибудь! – улыбнулся Бьольв. – Я знаю, у тебя есть, но раз уж мы поедем завтра на лов все вместе, пусть у нас будет одинаковое оружие. Мы ведь друзья… я хочу сказать, друг нашего вождя может рассчитывать на нашу поддержку.
Бьольв был не настолько знатного рода, чтобы набиваться в друзья сыну и брату князей, и Логи-Хакон оценил его приветливость и умение знать свое место.
– Я буду рад, если у нас у всех будет одинаковое оружие, – улыбнулся он в ответ. – Тогда никто не сможет сказать, что мы находились в неравных условиях и поэтому наше состязание было нечестным.
– Мы и не сможем… – Бьольв на миг опустил глаза, – когда-либо стать в равные условия. Ведь ты – сын конунга, а среди нас никто не может похвалиться особенно высоким происхождением. Почти все мы – сыновья свободных и честных отцов, но едва ли хоть в ком-то из нас, кроме самого Свенельда, сыщется капля королевской крови.
– А этот пышноволосый… Ольтур, кажется, его зовут? – Логи-Хакон едва ли обманывался насчет природы чувства, которое упомянутый отрок к нему питал.
– Ольтур… Он сын торговца, проданного в холопы за долги. Свенельд – мы все тогда еще жили в Киеве – взял его к себе и тем спас от такой же участи. Ему тогда не было и двенадцати, но Свенельд видел, что из него выйдет толк. Поэтому Ольтур так предан ему… и для нашего вождя ему все кажется недостаточно хорошим! – улыбнулся Бьольв.
Логи-Хакон понял, что тот хотел сказать. Конечно, им всем неприятно видеть того, кто может заполучить лучшее Свенельдово сокровище. Логи-Хакон отлично помнил, как обожала отцовская дружина его сестру Альдис, старше него на четыре года. Все ее отрочество и юность прошли у него на глазах, и он каждый день видел, какие взгляды на нее бросают юные отроки и даже зрелые хирдманы Олавовой дружины. Над кем-то они смеялись, кому-то старший брат Тородд давал в зубы, чтоб не забывался, кому-то Альдис улыбалась украдкой… до тех пор пока, через год после женитьбы Ингвара на Эльге, не приехали плесковские бояре и не увезли Альдис в жены младшему княжичу Судимиру. И так бывает всегда и везде, когда у вождя имеется семья с дочерьми. Поэтому Логи-Хакон находил совершенно естественным то, что молодая дружина Свенельда сохнет по его дочери и волками смотрит на того, кому вождь подумывает ее отдать.
Вот только была между Альдис и Соколиной некая разница, которую Логи-Хакон понимал, а эти парни, кажется, нет…
– Возьми вот этот, – Бьольв взял один наконечник с ларя, повертел в руках, бросил обратно. – Или вот этот. – Он взял другой, потом еще один. – Какой тебе больше нравится?
Он протянул Логи-Хакону оба – на выбор. Наконечники блестели, хорошо отшлифованные и остро отточенные. Оставалось только насадить на древко.
– Вот этот, – Бьольв подал ему один. – Нравится?
– Хорош, – согласился Логи-Хакон. – Спасибо.
У него имелось в достатке хорошего оружия на любой случай, но он не желал обидеть отказом этих людей. Он, правда, не собирался становиться их вождем, но это не значит, что с ними можно ссориться. Его судьба неразрывно связана с судьбой брата Ингвара, а эти люди входят в «большую дружину» потомков Олава. И только Один ведает, когда им придется встать в общий строй против кого-то из многочисленных врагов Русской державы.
За день собственные хирдманы Логи-Хакон раздобыли подходящую жердь и насадили подаренное копье. алльгрим вручил его Логи-Хакону, когда тот собирался в гридницу на ужин, и тот взял рогатину с собой: пусть Свенельдовы люди видят, что он ценит их дар и хочет быть с ними в дружбе, насколько это зависит от него.
И они это заметили. Когда Логи-Хакон прислонил копье к столбу возле своего места, к нему сразу устремились десятки глаз. Перехватив иные из этих взглядов, он даже удивился про себя: непохоже, что они оценили его дружелюбие. Но Бьольв улыбнулся, а больше никто ничего не сказал: похоже было, что с отъездом Ольтура Бьольв занял место вождя молодых, и никто не смел идти ему поперек.
Свенельд тоже заметил у гостя обновку.
– Вижу, уже снарядился? – хмыкнул он. – Не терпится пуститься за моей косулей?
– А мне казалось, князь приглашает нас в свои угодья. – Логи-Хакон прикинулся, будто его не понял. – И нам предстоит гнаться за его косулями.
– Я сочту тебя дураком, если ты вздумаешь гоняться только за теми, что на четырех ногах! – Добродушная шутливость Свенельда мигом превратилась в досаду. – Или нам тут нечего есть? Или нам не хватает мяса и мы затеяли все эту хлопотню ради кабаньей ляжки? Нет! Мы это затеяли, чтобы посмотреть, хватит ли у тебя силенок догнать мою дочь! Ну-ка, дайте мне это копье!
С застывшим лицом Логи-Хакон кивнул Халльгриму. Тот взял копье и пересек гридницу, чтобы вручить его Свенельду. Тот осмотрел новый наконечник и такое же новое древко.
– Видно, еще не бывало в работе? – Держа оружие на коленях, он глянул поверх него на гостя. – Не пробовало ничьей крови?
– Нет, мне лишь сегодня поднесли его в дар твои люди.
– Мои люди… Стало быть, нельзя сказать, удачливо ли это оружие.
– Я привык считать, что удачливой бывает рука. Знаешь, верно, как говорят: смелый одержит победу и неточеным мечом.
– Нет, так не пойдет! Если прямо сказать, я и твою-то удачу пока в глаза не видел! Не хочу, чтобы потом ссылались, мол, оружие оказалось неудачливо!
– Я не намерен ссылаться на неудачливость оружия! – При всех стараниях сохранять спокойствие Логи-Хакон начал закипать. Со стариком не было сладу. – Я сам отвечаю за свои удачи и неудачи и не позволю…
– Ты у меня в доме! А значит, моя удача скажется во всем, что здесь произойдет! Поэтому ты поедешь на лов вот с этим!
Свенельд махнул рукой, и кто-то из его отроков снял со стены старую рогатину – с наконечником, хорошо отчищенным, но уже заметно сточенным за многие годы, с потемневшим, потертым древком, на котором ясно отразилась долгая служба. Возле втулки виднелись глубоко врезанные в дерево, но уже полустертые и плохо различимые рунические знаки. Логи-Хакон разобрал только руну Соулу: видимо, для привлечения побед. Наносить руны на оружие – старинный обычай, который сейчас уже редко встречается. Олав конунг, например, имел хороший меч, на котором была сделана простая надпись «Гуннар сделал меня, Олав владеет мной», как принято теперь.
– Уж это оружие никого не подведет! – продолжал Свенельд. – За него могу поручиться я, да и мой отец, уж лет сорок сидящий с Одином, не даст соврать!
Чуть дрожащей рукой он приподнял свой драгоценный кубок и коротко глянул в кровлю, будто предлагал обитателям небесных палат выпить с ним заодно.
– Это удачливое оружие. – Старик отпил из кубка, чтобы промочить горло. – Дальше все зависит только от тебя. И если уж ты не управишься, значит, не хватило удачи тебе самому! А я возьму вот это! – Он кивнул на новую рогатину, прислоненную к столбу его сидения. – Уж у меня накопилось столько удачи, я не сплошаю с любым ковырялом, что попадется в руки!
Даже если кто-то из сидевших за длинными столами для дружины при этих его словах переменился в лице, то ничьего внимания это не привлекло. Даже если кое-кто и обменялся потрясенными взглядами, то никто не усмотрел в этом ничего необычного.
– Видно, это прекрасная вещь! – Логи-Хакон улыбнулся, чувствуя: пора объясниться напрямую. – Было бы обидно потревожить такое заслуженное оружие напрасно. Но случай, мне представляется, не так уж важен, чтобы ставить на кон удачу всей жизни человека. Я могу пообещать, что постараюсь раздобыть как можно больше дичи, дабы мы и наши люди могли устроит пир и повеселиться. Но едва ли это состязание повлечет иные последствия.