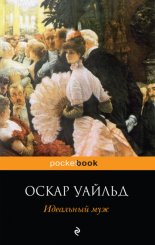Розанов Варламов Алексей
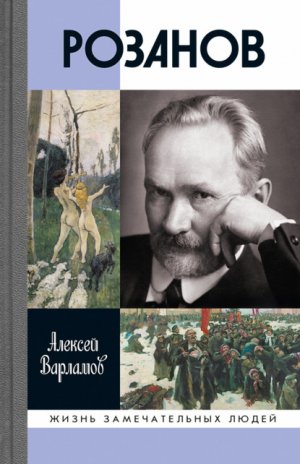
«Дорогой моей Наде, когда она будет большая, любящий отец 22 июля 1893 года.
С. Петербург, Петербургская сторона, Павловская улица, дом 2. Кв. 1 В. Розанов.
Заповеди же ей
1. Помни мать. 2. Поминай в молитвах отца мать. 3. Никого не обижай на словах и паче делом. 4. Поминай в молитвах бабушку Александру, которая приехала к твоим родам и выучила тебя аукать и подавать ручки. 5. Помни сестру Александру и тетку Павлу, которые любили с тобой возиться и играть и баловать тебя. 6. Береги свое здоровье. 7. Ума будь острого, учености посредственной, сердца доброго и простого. 8. Ничего нет хуже хитрости и непрямодушия, такой человек никогда не бывает счастлив.
Ну прощай, 11 ч. ночи, писать пора.
Мама твоя читает “Петербургский листок”. Все мы счастливы; что-то будет потом.
Еще раз твой любящий отец
Василий
Все говорят, что ты и я сняты тут точь-в-точь похожи, и что ты всегда бываешь такая, когда я держу тебя на руках (люблю с тобой обедать и чай пить).
Это написал тебе на память, если буду жить или умру».
Умерла она, не дожив до годика, и девочку похоронили на Смоленском кладбище близ могилы Ксении Петербуржской, а у Розанова началась никакая не фиктивная, как ему было обещано, но самая настоящая чиновничья жизнь в Госконтроле (аналог современной Счетной палаты – контроль за госзакупками, борьба с коррупцией и т. д.), скудная, трудная, кропотливая, для которой он годился немногим больше, чем для преподавания. «В голове стучат шурупы с полукруглыми головками, плоское и круглое железо, шпингалеты и все прочее, что приобретает Главное Общество Российских железных дорог и на чем ворует, а я предполагаюсь в роли его учителя и поимщика; но я никогда не мог уличить кухарку в воровстве говядины, – как же уличу Главное общество в воровстве шурупов?»
Впрочем, его новый начальник полагал, что этот радостный стук может оказаться для молодого писателя весьма и весьма полезным, ибо «сообщит точность его суждениям и выражению мыслей, в чем он более всего нуждается», а также «даст ему возможность сократить размеры собственно писательского труда к несомненному улучшению его качества». Но Розанов был слишком независим и горд, чтобы позволить кому-либо рассуждать и о качестве, и о количестве своего письма.
К тому же он уже тогда считался восходящей звездой, о чем знал даже граф Лев Николаевич Толстой, коему Страхов писал 29 июня 1893 года из Эмса, не вникая в «терки» своего подопечного с Филипповым: «Потом, перед отъездом из Петербурга, меня очень занимала “колония славянофилов”, которую я открыл на Петербургской стороне. Т. И. Филиппов, Госуд[арственный] Контролер и известный ревнитель православия, набрал к себе в Контроль целую толпу писателей. 1. Аф. В. Васильев, 2. Каблиц, 3. Т. Соловьев, 4. Н. Аксаков, 5. Романов, 6. В. В. Розанов. О последнем Вы кое-что знаете, и он-то, перебравшись недавно в Петербург, свел меня с некоторыми из них. Какие умные, чистосердечные и скромные люди! Розанов во всех этих отношениях – звезда между ними. Мне придется, кажется, больше всего внушать им всякое вольнодумство: они почти все с таким же жаром отдаются консерватизму, с каким когда-то нигилисты бросались в нигилизм. Во всяком случае, кружок мой заметно изменился и оживился. Розанов – удивительное милое существо».
«Я был какая-то “начинающая знаменитость из провинции”, – подтверждал свою репутацию и сам В. В., делая, однако, акцент на делах денежных, – и вот, после “нехорошей встречи” с Тертием (сразу оба не понравились друг другу, необъяснимо – почему) началось “спускание меня по государственной службе”, где кусательную сторону составляло конечно жалованье: после 150 р. в Белом, где я за квартиру в 8 комнат платил 25 р., я получил “прикомандированный к Афоньке” – 100 р., с квартирой в 37 р. из 4 комнатушек “во двор”. Ну, и провизия – уже не как в Белом, где пара “рябцов” (рябчики) неизменно стоила 30 коп., т. е. 15 к. рябчик, и говядина – 10 к. “черкасская”, и молоко – латышка Штэкмо носила – почти даром. А жалованье убавилось на 50 р.».
«Была в доме бедность. Такая невидная, чистенькая бедность, недостача, стеснение. Розанов тогда служил в контроле. И сразу понималось, что это нелепость», – вспоминала Зинаида Гиппиус.
Особенно остро эту нехватку ощущала хозяйка дома, но никогда не роптала, мужа ни в чем не обвиняла, терпеливо неся свой крест (и при этом наверняка не раз поминала одну тысячу рублей, взятых с ее мужа за по сути бесполезное венчание в Ельце). «Перед праздником, – с горечью вспоминала В. Д., – прибегает девочка дворника; если не заплатите за квартиру, дров не принесем! а у нас нет ничего, Вася в Контроле служил».
Он не ошибся в жене. Аполлинария бы так, скорей всего, не смогла и принялась бы изводить мужа бесконечными жалобами и называть в очередной раз ничтожеством. А Варя…
«И она, пока я считал в Контроле, сносила все в ломбард, что было возможно. И все – не хватало. Из острых минут помню следующее. Я отправился к Страхову, – но пока еще не дошел до конки, видел лошадей, которых извозчики старательно укутывали попонами и чем-то похожим на ковры. Вид толстой ковровой ткани, явно тепло укутывавшей лошадь, произвел на меня впечатление. Зима действительно была нестерпимо студеная. Между тем каждое утро, отправляясь в Контроль, я на углу Павловской прощался с женой, я – направо в Контроль, она – налево в зеленную и мясную лавку. И зрительно было это: она – в меховой, но короткой, до колен, кофте. И вот увидев этих “холено” закутываемых лошадей, у меня пронеслось в мысли: “Лошадь извозчик теплее укутывает, чем я свою В……. такую нежную, никогда не жалующуюся, никогда ничего не просящую”. Это сравнение судьбы лошади и женщины и судьбы извозчика и “все-таки философа” (“О понимании”) переполнило меня в силу возможно гневной (т. е. она может быть гневною, хотя вообще не гневна) души таким гневом “на все”, “все равно – на что”, – что… можно поставить только многоточие. Все статьи тех лет и, может быть, письма тех лет и были написаны под давлением единственно этого пробужденного гнева, – очень мало, в сущности, относимого к тем предметам, темам, лицам, о которых или против которых я писал». И в другом месте: «Я считаю все эти годы в литературном отношении испорченными».
Едва ли это была справедливая оценка, он становился все известнее, и его позиция вырисовывалась все отчетливее. В том числе общественно-политическая, близкая к революционности, но не социалистической, не левой, а, напротив, ультраконсервативной, ультрамонархической и при этом действительно очень эмоциональной, гневной, возмущенной, уже тогда провокационной. «Отец был спокойно-консервативно настроенный человек», – вспоминала Т. В. Розанова, однако согласиться со словом спокойно в этом суждении едва ли возможно. По крайней мере если говорить о его первых петербургских зимах, когда в статье о Ходынке как народной расплате за убийство Александра Второго В. В. писал: «Да будет же благословенно 18 мая 1896 года! Да будет благословенна пролившаяся там кровь! Бог спас нас. Невозможно представить себе, как восстановилось бы прежнее чувство в государях наших. Нужно было нечто столь же интимное, столь же ужасное, трогательное, но только обратное по смыслу первому марта (1881 года, убийству Александра II. – А. В.); и, конечно, мы не могли бы ни придумать, ни сделать этого; для рук человеческих это и вообще было неисполнимо. Нужно было произойти великому, неслыханному несчастию, – несчастию на глазах, или почти на глазах, Государя, с этим именно, отвергшим любовь Его, человеческим стадом, и, наконец, несчастию во имя любви к Нему, в миг высказывания этой любви. Только в таком особенном сочетании, не рассчислимом, не предугадываемом, не построимом даже в воображении, факты могли затереть кровавое пятно первого марта, точнее: вдруг как бы снять скорбь и чувство отделенности от народа с сердца Государева. И это именно 18 мая совершилось…»
Не приемля слабое, беззубое и вместе с тем «атеистическое и революционное», состоящее «сплошь из дурачков» правительство, отрицая подлую печать, которую «захватили нигилисты» и которая обманывает общество и не повинуется народному духу, Розанов писал своему будущему издателю Петру Петровичу Перцову: «Вот отчего мы призываем очищающую атмосферу от миазмов грозу; мы зовем черную, монашескую, старо-русскую, церковную революцию против революции хлыщей и пижонов, вальсирующих и канканирующих над задавленною, оплеванною ими Россией».
Разумеется, это все не могло пройти незамеченным, и понятно, как воспринималось либерально мыслящей интеллигенцией, задающей тон общественному мнению в России. У В. В. стало больше и друзей, и врагов, иногда – что очень по-розановски – менявшихся местами. «Вот, значит, о Вас говорят, интересуются, пожалуй, ругают, но во всяком случае творят Вам известность без малейших к тому с Вашей стороны усилий», – справедливо отмечал в письме Розанову его новый друг и единомышленник, «гениальный тунеядец» Иван Федорович Романов (Рцы). А В. В. в это же время сам то ругался, то мирился с философом Владимиром Соловьевым, который после полемики на религиозные темы обозвал своего оппонента Иудушкой, и прозвище это надолго к нашему герою приклеилось. Розанов позднее писал, что не воспринял его как убийственное оскорбление, хотя в ответ назвал своего обидчика «танцором из кордебалета», «тапером на разбитых клавишах» и «блудницей, бесстыдно потрясающей богословием». Это не помешало их личному, по инициативе Соловьева, знакомству и общению, однако за своего ученика оскорбился его старший товарищ.
«Ничего не понимаю в том, что вы рассказываете о Соловьеве, – писал Розанову Рачинский. – Быть у вас ему следовало, но не иначе, как с повинною в брани, коею он вас осыпал в угоду редакции “Вестника Европы”. Но и этого мало: в этой брани он должен был покаяться печатно. Одно из двух: или вы – Иудушка, и в таком случае вам и руки подать нельзя. Или назвавший вас этим именем недостоин, чтобы руку подали ему вы, пока не снимет он с себя позора, которым он себя покрыл. А то пришел, как ни в чем не бывало, с визитом, попросить книжечки, побеседовать об антихристе… (Кстати, то, что вы говорите о последнем, очень умно.) Хороши, нечего сказать, наши литературные нравы fin de siecle! И вспомните, что Соловьев, каков бы он ни был, не заурядный фельетонист по стольку-то за строчку. Мысль его вращалась в самых высоких сферах философии и богословия; вырос он в среде нравственно чистой; ему было доступно общение с лучшими людьми России… Печально и страшно!»
Но Розанова больше задевало другое, о чем позднее рассказывал в «Кукхе» А. М. Ремизов. «В Контроле когда-то служил и Розанов. Невесело вспоминает: “Едешь, бывало, на конке наверху. А Вл. С. Соловьев в коляске катит. Нет, вы этого никогда не поймете, никогда, никогда!”».
Жизнетворец
Итак, наш герой пострадал за идею, назвав впоследствии поворот, случившийся в его жизни в 1893 году, «изуверским», а последовавший за ним период – «Леонтьевско-Катковским», но потом между ним и славянофилами пробежала черная кошка, впервые объявившаяся в просторном кабинете Т. И. Филиппова. Это было неизбежно. При том что «наши» и между собой не могли зачастую найти общего языка, и у них «своя своих не познаша» (так, например, Рачинский «физиологически» не выносил своего однокурсника Леонтьева), но уж Розанов-то точно был другим, иной породы и природы, абсолютно беспартийным – сам себе партия! – человеком, не способным следовать никакой общей, пусть даже достаточно размытой идеологии.
«Они все, Тертий, Аксаков, Афанасий (тоже длинная борода) – были тусклы, скучны, невыносимы и неудачны в литературе: и это их как-то “связывало” и объединяло, внутренне дружило и “сердце сердцу весть подавало”, – писал В. В. много лет спустя П. П. Перцову в пору нового разлада с уже другими «нашими». – И вот – славянофилы. Захлебываются Хомяковым, И. С. Аксаковым и “всеми Аксаковыми, сколько их не писало”, Самариными – и тоже “сколько их ни писало”: и с какою-то адскою злобой, не нужно им и беспричинно, без вызова с его стороны (так, “молчу”) – прямо ненавидят одного только Розанова, и по той причине, что (кроме одного Рцы) он скучает с ними и “речь не плетется”. Но я бы пожелал видеть человека, у которого “плелась бы речь” с Афанасьем».
Скорей всего, он даже не считал нужным свое пренебрежение скрывать. Он был звездой, они – нет. А значит, ему не пара, и Розанов пошел по свету искать себе равных, хотя бы в приближении. Причем он не просто ушел, а ушел сердито, расплевавшись. Да что там расплевавшись? Кроткий, безвольный, боязливый, вечно ведомый, упорный только в мечте В. В. двинулся открытой войной против «заединщиков» конца XIX века.
«Мои убеждения тогдашние – все плод рикошета; личного отталкивания от петербургского славянофильства (несколько вовсе неизвестных литературных имен)… контроль, чванливо-ненавидяще надутый Т. И. Ф., редакции “своих изданий” (консервативных), не платящие за статьи и кладущие “подписку” на текущий счет, дети и жена и весь “юридический непорядок” около них, в душе – какая-то темная мгла, прорезаемая блёсками гнева: и я, “заворотив пушки”, начал пальбу “по своему лагерю” – всех этих скупых (не денежно) душ, всех этих ленивых душ, всех этих бездарных душ. Пальбу вообще по “хроменьким, убогеньким и копящим деньжонку”, по вяленьким, холодненьким и равнодушным».
«Озираясь на все это, на этих людей, которые противны, как гробы, я думаю как-нибудь отречься от славянофильства (т. е. печатно)!», – писал он в августе 1895 года Рачинскому. «Вам, батюшка, надо выплюнуть все славянофильство, особенно в заключительной его фазе, с безголовым болтуном Ив. Аксаковым во главе – иначе Вы не вступите в самонужнейшую фазу истории нашей, фазу собирания сил, сосредоточия мысли, крепости мышц и решимости», – давал напутствие Розанов Перцову, а на самом деле – себе.
«Я сам был славянофилом, и не помню ни дня, ни часа, ни года, когда перестал быть славянофилом… Славянофильство как-то выпарилось, выпахло из меня, как из пузырька без пробки – духи, остаток духов, духи на донышке. Может быть, вообще славянофильство – испаряющаяся пахучесть? Может быть. Это было бы приятным “надгробным утешением”. Я думаю, славянофильство потому “погибоша аки обры”, что у них “стрела не звенела”. Они были чрезвычайно “травоядны” и уже до чрезмерности не хищны. Ни коготка, ни клювика. Точно дьякон Псалтырь читает. Слушали, слушали. Потом перестали слушать. Потом он перестал читать. И нет ни дьякона, ни Псалтыри, один резонанс…» – писал он в 1901 году, а три года спустя в нововременской статье «Поминки по славянофильстве и славянофилах» вскользь обронил: «Все вообще славянофильство похоже на прекрасно сервированный стол, но в котором забыли посолить все кушанья. И все они, от этой одной ошибки повара, получили удивительно сходный, однообразный и утомительный вкус; попробовать еще – ничего, но есть по-настоящему – невозможно. Таковы их стихи, рассуждения, пафос, негодование. “Не солоно! Ни капельки соли!” И всякий кладет ложку; или, переходя от сравнения к делу – редко кто славянофильскую книгу дочитывает до конца или даже до середины. Горестная судьба!»
Однако важнейший его пункт, розановский протест, вопль был связан не с травоядностью славянофилов, не с тем, что их соль утратила силу, а может, и солью-то никогда не была, не с идеологией и историческими фазами и даже не с тем, что эти «архилакеи ходят в поддевках и лижут ж-пу у Тертия», но с делами личными, семейными, с тем, что он выше назвал «юридическим беспорядком», а именно – его жена не считалась его женой, его дети – а у него в 1895 году родилась дочь Татьяна, затем в 1896-м – Вера, в 1898-м – Варвара, в 1899-м – сын Василий и последняя в 1900-м – Надежда – не считались его детьми и были записаны на имена своих крестных родителей.
Подобных случаев в империи было много, очень много, в том числе и в литературной среде, но все же важно заметить, что таких многодетных отцов, как герой этой книги, в русской литературе Серебряного века не было. Кого бы из крупных писателей мы ни вспомнили – Горького, Брюсова, Вяч. Иванова, Волошина, Леонида Андреева, Блока, Белого, Сологуба, Бальмонта, Анненского, Бунина, Ремизова, Куприна, Корнея Чуковского, Алексея Толстого, Ивана Шмелева, Бориса Зайцева, Чулкова, Ходасевича, Георгия Иванова, не говоря уже о Гиппиус с Мережковским или Клюеве и Кузмине – это всё были люди бездетные, либо – один-два, максимум три ребенка и в таком случае, как правило, от разных жен. Розанов и здесь оказался уникален: по сути дела, он стал вторым после Льва Толстого многодетным отцом в истории большой русской литературы[24], и именно его многодетность, его семейственность предопределили в его жизни практически всё, и в том числе авторскую стратегию, внимание к этим, а не другим темам. Причем дети в семье появились на свет в тот период жизни, когда ее глава еще не был ни относительно богат, ни безусловно знаменит, и вряд ли то был акт жизнетворчества, претворения в жизнь ветхозаветных патриархальных теорий, стремление кому-то что-то доказать и отличиться. Нет – они с Варварой Дмитриевной вопреки обстоятельствам и болезням жены рожали одного за другим детей, считая это единственно возможной, естественной, нормальной формой супружеской жизни, и тем, кто сегодня любит безапелляционно рассуждать о розановском «антихристианстве» и выносить писателю моральный приговор, это не худо бы иметь в виду. Все было много сложнее и запутаннее и в его жизни, и в его смерти.
«Благословение же Божие нашему союзу я вижу в непрерывном Варвары чадородии, в безупречном нашем счастье, в непоколебимой верности; и когда “волос человеческий” без воли Божьей не падает, столь огромные дары не суть без воли Божьей», – писал Василий Васильевич с полной внутренней убежденностью в 1899 году в своем втором завещании, и то, что ни государство, ни Церковь не могли, не хотели этих детей, эту семью признать и узаконить, когда Сам Господь за нее, выглядело в его глазах абсурдным, несправедливым, неправедным, раздражало, унижало и оскорбляло его более всего на свете. Но обижался он не только и не столько за себя.
«Знаете, главный мотив, и слава Богу, былой вражды к Церкви, что она обидела Варю, и как все это было в тайне – но онтологически обидела, – объяснял Розанов много лет спустя о. Павлу Флоренскому. – Варя же никого в жизни не обижала, и, больная, ежедневно читала (и все один его) Акафист Скорбящей Бож. Мат. Это сопоставление вечно молящегося человека (как никто) с “дисциплинарным” (ц. термин) отражением ее точно сожгло мою душу, это было 15 лет сжения в одну точку. Варя за это не имела ни гнева, ни горечи, а лишь скорбь за несчастие, а у меня перешло в гнев».
Так оно и было, и на «квадратных славянофилов», на консерваторов, на православных, на церковных, на тех, у кого «бороды лопатой», он был разгневан особенно. «А, так вот откуда мое несчастие, вот от каких благочестивцев, старающихся о возрождении Руси, о сиянии православия, – и благовествующих, что настало, с ними и с их “церковной школой на Руси”, благодатное царство на земле. Эта догадка через несколько лет дала мне (в 1897 г.) толчок повернуть все “к язычеству”. “Лучше танцующая Дункан, чем ваши мякинные и со вшами бороды лопатой”. Больше в Дункан правды, больше ясности, стократно больше доброты: потому что с ней – природа (язычество). А вы – всего только мертвецы с нашитыми по позументу крестиками (орнаментация одежд)».
Дункан, впрочем, появится в столице лишь в 1912 году, когда и Розанов станет совсем иным и много всякого разного про церковь понапишет. А на тот момент он был еще стойкий консерватор, не уклонившийся покуда ни в ереси, ни в соблазны, – и ему не могут пойти навстречу, сделать для него исключение и изменить закон, чтобы не человек был для субботы, но суббота для человека, когда и вола, упавшего в яму, вытащить не грех?
А тут:
«Задавило женщину и пятерых детей.
Тогда я заволновался и встал».
Кстати, позднее это состояние розановского надрыва очень хорошо почувствовал и понял двадцатитрехлетний Александр Блок, который ничего про положение дел в семье Розанова не знал, но писал о В. В. в письме Андрею Белому: «…вся пружина его громадного (по-моему) творчества держится на трагедии (т. е., как всегда – борьбе, страдании и беспокойстве)».
Розанов искал любые способы, как переломить ситуацию в свою пользу, как узаконить брак, какую найти юридическую лазейку. Можно предположить, что именно тогда и возникла в его голове идея подправить историю взаимоотношений с Аполлинарией Прокофьевной, сдвинув даты и задним числом обвинив первую жену в том, что за пять лет до его второго венчания она изменила ему с евреем Гольдовским, а потом и вовсе мужа бросила и, несмотря на его неоднократные слезные просьбы, не пожелала возвращаться. А стало быть, его новый брак – законен и справедлив. Он, как уже говорилось, написал преподробное прошение митрополиту Петербургскому Антонию, все рассказав и про злую первую жену, и про милосердную вторую, и про беззаконное венчание (заметим в скобках, что обвенчавший его с Варварой Дмитриевной священник к тому времени уже скончался), и про деточек, которые ни в чем не виноваты, и про христиан, которых он боится, ибо они суть люди «жестокие или уклончивые». «Наша хата с краю – ничего не знаем»; «тебе, батюшка, крест – ты и неси».
А кроме того, В. В. попробовал действовать через Анну Григорьевну Достоевскую, с которой был знаком еще с 1893 года, когда в знак благодарности за «Легенду о Великом инквизиторе Достоевского» она прислала ему в дар собрание сочинений покойного мужа, и между нею и Розановым завязалась переписка.
Считавший себя «наиболее упорным толкователем мыслей» Достоевского Розанов не раз вместе с Варварой Дмитриевной навещал в Петербурге вдову писателя, и однажды речь зашла о его бедственном семейном положении. Несложно представить, как поразила Анну Григорьевну история с участием женщины, к которой она когда-то ревновала своего супруга, опасаясь, что он уйдет от нее к разлучнице, к своему «вечному другу» Полине[25]. И вдруг много лет спустя демоническая, фантастическая Аполлинария Прокофьевна как призрак прошлого вновь появилась на ее горизонте, да к тому же в таком странном качестве, словно кто-то писал про них про всех роман.
Больше того. Выскажу предположение, что именно она, Анна Григорьевна Достоевская, и раскрыла самому Розанову или же Варваре Дмитриевне (что было ей по-женски проще) подоплеку взаимоотношений Аполлинарии Прокофьевны с Федором Михайловичем, прояснила и дополнила ее недостающими деталями и подробностями. И если это так, то лишь в конце девяностых годов, давно расставшись с Сусловой, В. В. и узнал, что, оказывается, в свое время «женился на Достоевском», мистически соединился с ним, приобщился, познал через тело Аполлинарии и пр. и пр., и вся его последующая «достоевская» мифология, все сравнения «Суслихи» с героинями Достоевского, пошли тогда и отсюда.
«Розанов, тесно сотрудничавший с Мережковскими в начале века, отличался от остальных членов их ближнего круга, отчасти потому что не принадлежал к атмосфере fin de siecle с ее утопическими прожектами: ему не хватало искусно сконструированной биографии с мифологическим потенциалом – необходимого условия символистского жизнетворчества», – в принципе очень верно написала Ольга Матич, но на это как раз и можно возразить: вот он, пример такой конструкции!
Поэтому еще раз подчеркну: знал или нет изначально В. В. о характере отношений Федора Михайловича и Аполлинарии Прокофьевны, он в ту пору этому значения не придавал и влюбился и женился на ней вовсе не по той причине, что она была возлюбленной его кумира. И точно так же ни Страхову, ни Рачинскому он не сказал о сем факте ее биографии ни слова просто потому, что это все было для него тогда не важно, а вот Мережковскому, Гиппиус, Брюсову, в их разговоры, в их дневники, в письма, в их воспоминания, чтобы передалось всем будущим розановедам, филологам, философам – это было в самый раз![26]
Конечно, доказать, что все обстояло именно так, я не могу и категорически на своей версии, которая разрушает множество других остроумных филологических построений, не настаиваю. Но что можно утверждать наверняка – вдова Достоевского была настолько переполнена как собственными женскими воспоминаниями, так и сочувствием к молодой многодетной паре и так жаждала ей помочь, а к тому же была хорошо знакома с обер-прокурором Синода Победоносцевым (который, как мы помним, Розанова тоже знал и, несмотря на темный стиль, ему пока что симпатизировал), что шанс выручить из беды «униженных и оскорбленных» родителей и их детей был велик как никогда…
Фрагменты переписки Василия Розанова и Анны Достоевской, относящиеся к этому сюжету, есть смысл процитировать как эпистолярную новеллу.
Бедные люди
В. В. Розанов – А. Г. Достоевской
до 4 февраля 1898 года
«Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!
Не знаю, как Вас и поблагодарить за участливость, с которою Вы выслушали вчера Варю правда об очень тяжелом нашем положении. Иногда я представляюсь себе несчастным по всем жизненным линиям: нужда – но разве она одна; Варя Вам рассказала, оказывается, о Сусловой: каково же ее положение, т. е. Вари, и положение детей. Сколько хотел я раз написать Победоносцеву, но именно то, что характер моих сочинений несколько религиозный, мне было мучительно стыдно пред ним сознаться в том, что все так жестоко и несправедливо называют “блудом”. Варя есть само самопожертвование, и она так же целомудренна, как Суслова, по справедливой Вашей догадке, цинична (я женился на ней на 3-м курсе университета; она уехала от меня, влюбившись в молодого еврея, через 6 лет нашей жизни, и жива еще – живет в Нижнем в своем доме). Раз Вы знаете о Сусловой, не можете ли Вы, дорогая и добрая, заикнуться Победоносцеву и о положении моих детей. За что малолетние страдают – непостижимо, и конечно они страдают не по Христу, а по суемудрию человеческому; почему жена, бросающая мужа, имеет все гражданские права; почему женщина, которая как самарянка склоняется над израненным и кинутым человеком – не имеет никаких прав? Все это не по Христу. Когда я думаю об этой несправедливости, у меня голова идет кругом, и я чувствую величайшее в себе раздражение; просто чувствую, что от этого весь мой характер и вся литературная деятельность исказились. И при этом нужда, доходящая до самых унизительных форм, и при непрерывной почти слабости жены (малокровие, нервы, женские болезни). Что же я оставлю своим трем дочерям малолеткам: пенсии – нельзя, они не “мои”, а какие-то “Николаевы” и “Александровы” по чудовищному закону, отнимающему детей от родителей; какая же их судьба ждет? Проституция? – вот заря будущего для меня, и награда за поистине тяжкий, безысходный труд, в каком я живу, не ложась спать раньше 4-х часов ночи, и совершенно изнеможенный нервами. И когда я оглянусь на эту темь несправедливости, я очень, очень начинаю понимать самые радикальные тенденции и порывы. Помилуйте, все злое наверху и вас душит; а все доброе под низом…
Крепко жму Вашу руку и еще раз благодарю Вас горячо, горячо. Глубоко Вам преданный
В. Розанов».
А. Г. Достоевская – В. В. Розанову
4 февраля 1898 года
«Глубокоуважаемый Василий Васильевич!
Прочла Ваше письмо и вижу, что Вы находитесь в тяжелом настроении. Мне от всего сердца хотелось бы помочь Вам, но только укажите, как это сделать. Но прежде чем будем говорить о делах, позвольте мне сказать Вам несколько слов: Простите меня, но мне представляется, что Вы слишком трагически смотрите на Ваше положение и на будущность Ваших малюток. Я вполне понимаю, что Вы страдаете от того несчастного положения, в которое поставлены, страдаете не только за себя, но еще больше за детей и за милую Варвару Дмитриевну. Я вполне понимаю всю несправедливость Вашей судьбы и согласна, что Вы страдаете “не по Христу, а по суемудрию человеческому”. Но что тут поделаешь, раз установившиеся законы таковы и трудно ждать их изменения. С этим обстоятельством надо примириться, и Варвара Дмитриевна показывает в этом случае добрый пример. Она говорила мне, что вполне счастлива; что ее ложное положение не было бы для нее тяжело, если б оно не отражалось так на Вашем здоровье и настроении, если б Вы не придавали этому обстоятельству такого трагического значения. Ведь Ваше ложное положение есть несчастное стечение обстоятельств и каждый человек с душою может только жалеть и сочувствовать Вам. – Вас мучает будущность Ваших девочек. – Но ведь это еще можно поправить, их можно узаконить или приписать (не знаю, как называется это в законах). За последние годы вышло несколько законоположений, благодаря которым родители могут узаконить своих незаконнорожденных детей, и для этого не требуется ни больших влияний, ни больших средств. Если для узаконения их потребуется влияние Победоносцева, я с удовольствием берусь хлопотать у него об этом. Я знаю две семьи, где были узаконены дети и получили фамилию отца. Я непременно разузнаю все подробности, как совершаются узаконения детей, и Вам сообщу в непродолжительном времени. Очень возможно, что Вы устроите узаконение Ваших малюток и тогда они будут Вашими наследниками и в пенсии, если бы Вы (чего Боже избави) скончались, не успев их воспитать и поставить их на ноги. Но допустим, что узаконение малюток Вам не удалось (а оно наверно удастся), то и тогда не следует вперед так мучиться судьбою их. Будьте убеждены, что в случае несчастья Бог поможет деткам, чужие люди придут им на помощь и устроют их дальнейшую судьбу…
Искренне преданная А. Достоевская».
В. В. Розанов – А. Г. Достоевской
9 февраля 1898 года
«Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!
Воистину – Вы ответили мне как сестра, горячо, быстро и открыто… Спасибо Вам горячее и за доброе чувство к Варе: она не избалована им; и слишком, слишком нуждается в ласке. Разве все такие как Вы? разве она не чувствует, что право оскорбить ее – остается у всякого? и хоть грубые люди – но разве не пользовались, даже иногда не нарочно, и она бедная вся дрожит, когда мельком, в разговоре, кто-нибудь упомянет слово “наложница”. Это слово (она ужасно неопытна) стало ее кошмаром, гонящимся за нею звуком: и сколько, сколько раз я ее убеждал не думать, что чуть она имелась в виду, или что они “что-то знают” о ней. Верно она Вам говорила (я говорил Ник[олаю] Николаевичу] Стр[ахо]ву), что мы все-таки повенчаны, без чего ее старушка мать не хотела ее отдавать: “мне легче живой лечь в могилу, чем видеть свою дочь потерявшею себя”; и обвенчал ее деверь, брат покойного ее мужа, а теперь старушка ее мать только и дышит нами, обоих нас без памяти любя. И вот, подите же, судьба какая: именно эта встреча и сделала меня религиозным писателем, т. е. пробудила отвращение ко всему светскому и суетному, и обратила мысль к вечным основам жизни, и к вечным человеческим чувствам…
Ваш преданный В. Розанов».
В. В. Розанов – А. Г. Достоевской
13 марта 1998 года
Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!
Боюсь, не захворали ли Вы?
Пишу это письмо Вам, чтобы напомнить о предложении Вашем по истечении 3-ей недели Великого поста съездить к Победоносцеву и поговорить о моих детях. Зная Вашу точность и деловитость, и что слово Ваше “мимо” не идет, я и не хотел Вам писать, но Варя тревожится, а я ей объясняю, что у Вас самой что-нибудь не ладно. Да хранит Вас Бог. Варя Вам кланяется.
Преданный Вам В. Розанов.
А. Г. Достоевская – В. В. Розанову
16 марта 1898 года
«Глубокоуважаемый Василий Васильевич!
Я не писала Вам потому, что, к большому моему горю, не могу сообщить Вам что-либо утешительного по поводу беспокоющего Вас обстоятельства. Но расскажу все по порядку. Мне необходимо было повидаться с К[онстантином] П[етровичем] П[обедоносцевым] по делу моего сына и чтобы застать его наверно, я пошла к нему в приемный день. Разговор наш затянулся, и я не успела перейти к Вашему поручению, как дежурный чиновник доложил о приезде какого-то высокопоставленного лица, которого надо было принять немедля. Тогда я сказала К. П., что подожду его, потому что имею другое дело, относящееся до незнакомого ему лица. “Какое дело?” – “По поводу усыновления детей”. – “В таком случае, пока я занят, поговорите с моим помощником-юристом, с которым я всегда советуюсь, и передайте мне, что он Вам скажет”. (Надо Вам сказать, что в приемные дни у К. П. всегда присутствуют специалисты по различным вопросам, с которыми он советуется или к которым он направляет своих посетителей для объяснения больших подробностей.) Я обратилась к указанному мне юристу и рассказала ему Ваше дело (конечно, не называя Вашего имени) и получила ответ, что приписать детей в формуляр отца при существующих условиях – дело невозможное, беспримерное, и что не только К. П., но и сам Государь не в праве этого сделать, так как это противозаконно. Юрист предложил мне такой исход: обратиться к чувствам великодушия и доброты Вашей жены (Аполлинарии Прокофьевны), описать ей печальное положение дел и просить, чтобы она, одновременно с Вами, обратилась в Суд – и выразила желание удочерить Ваших девочек, сделать их своими приемными дочерьми. Окружной Суд, получив просьбу Апол. Прок. и Вашу, постановит благоприятное решение, девочки Ваши получат Вашу фамилию и следовательно могут быть записаны в Ваш формуляр. Очень возможно, что Апол. Пр. и не отказалась бы подать такого рода просьбу, так как, почем знать, может быть, в ее душе и существуют великодушные чувства; может быть, она и сознает свою вину пред Вами и желала бы что-либо сделать доброе для Ваших детей.
Но тут возникает другой вопрос. Представьте себе, что Суд признает Апол. Пр. приемною матерью Ваших девочек, и вот Ап. Пр., как женщина взбалмошная, захочет воспользоваться своими правами приемной матери, захочет взять одну из девочек к себе на воспитание. Вам придется отстаивать своих девочек от ее попечений. По-моему, этот исход не годится; если он и доставит законность Вашим детям, зато он подвергнет их и Вас и милую Варвару Дмитриевну таким неожиданностям и неприятностям, что лучше отказаться от этого намерения.
Второй исход, предлагаемый юристом – это развод, на кот[ор]ый, может быть, Аполл. Пр-а и согласилась бы, разумеется, с тем, что Вы возьмете вину на себя. Почем знать, может быть, Ап. Пр. желала бы быть свободной, чтобы вновь выйти замуж (она так фантастична), и согласилась бы на развод. Тогда, сделавшись вновь свободным, Вы могли бы просить Окружной Суд о признании Ваших девочек Вашими приемными дочерьми, и они получили бы законность и Ваше имя. Но развод стоит больших хлопот, а потому трудно осуществить.
Когда я спросила юриста, нет ли третьего исхода, он ответил: “Вы говорите, что жена значительно (на 20 лет) старше своего мужа, значит есть вероятие, что она умрет ранее его и таким образом дело уладится само собою”. Затем я спросила юриста, как поступить в случае смерти Ап. Пр.? (что так возможно, ей теперь лет 58–59, а в эти годы почти всегда умирают женщины, проводившие бурную жизнь). Он ответил, что следует обвенчаться вновь вторично, а тогда узаконить детей не представит особого затруднения. Когда же я ему сказала, что ведь брак был уже совершен, то он посоветовал (в случае смерти первой жены) заявить Окружному Суду о том, что в таком-то году, в таком-то городе был совершен брак таким-то священником, но по недосмотру его не записан в церковную книгу. Тогда произведут дознание, и если найдутся свидетели брака (диакон, дьячок, шафера, сторож или кто-либо), то брак будет признан законным, а следов[ательно] и дети законными.
Я знаю, что желать смерти ближнему – не христианское дело, но когда я подумаю, сколько зла принесла разным людям Ап[оллинария] Пр[окофьевна], то, право, не могла бы огорчиться, узнав о ее смерти. Но не нам судить. Будем надеяться, что Господь устроит так или иначе Ваше семейное счастье.
К тому же, стоит ли огорчаться, что Ваши девочки не носят Вашу фамилию: вырастут, выйдут замуж, и это обстоятельство не повлияет на их счастье и будущность. Вся задача лишь в том, чтоб поднять деток, вырастить и воспитать их, а для этого Вам надо беречь себя, беречь свое здоровье и не беспокоить себя печальными мыслями. Вы христианин – положитесь на Господа. Он устроит Вашу судьбу и судьбу Вашей семьи!..
Искренно Вас уважающая и преданная А. Достоевская».
В. В. Розанов – А. Г. Достоевской
вторая половина марта 1898 года
«Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!
Сердечно Вас благодарю за умный, осмотрительный и внимательный опрос юрисконсульта Победоносцева; да, мудреная это вещь, но расторжение связи отца с ребенком есть столь явно демоническая тенденция, что она крайне опасна для существа религии и церкви, если только содержится в ее принципах. Победоносцев с сердцем и далеким, проницательным умом; он полон жажды мира; и знает, что до времени скрывающиеся под водою камни обнаруживаются в полую воду. Религия и церковь вся держится на твердынях родительских чувств; и противополагать их, – повторяю, не столько для них, сколько для существа церкви, существенно опасно. Конечно, моих детей я никогда не брошу, не пойду “в путь века сего”; но что косвенно, через переименование их в “Николаевых” и “Александровых”, когда они по плоти “Розановы”, мне как бы подсказывается: “брось их”, “брось любящую тебя жену”, самоотверженную, трудящуюся, – потому что “записанная за тобою” гуляет на стороне: повторяю, это не потрясая любви моей и сознания долга, косвенно и отдаленно тревожит фундамент церкви. Приписать детей в мой формуляр – это формальность, которая кровного ущерба никому не приносит; от Сусловой у меня не было детей; она сама ко мне никогда не вернется; пользоваться проституцией, мне предлагаемой “обычаями”, дозволенною “законами” и терпимою церковью – я не хочу; а следовательно и церковь имеет долг “помочь в субботу вылезти из ямы впавшему в нее”; т. е. она имеет долг сказать: живи брачно, не грязнись в проституции, и не отрицайся детей своих. Это круг понятий, довольно ясный и существенно небесный, Божеский. Мне было бы все-таки отрадно, если бы Вы хотя переслали мои два письма, – которые я Вам дал, и это – Константину Петровичу. Он с сердцем человек, в нашу пору уже единственный (или из немногих) по проницанию. Вы же написали о детях один исход, указанный юрисконсультом: “можете Вы лично обратиться в суд с просьбою об усыновлении детей – и возможен случай, что суд просто забудет опросить и жену Вашу, согласна ли она на запись в формуляр Ваших детей”. Вот эту забывчивость Конст. Петрович мог бы внушить суду; и судьба детей моих могла быть устроена. Несколько строк частного письма – и “впавший в яму в субботний день” был бы вытащен.
Глубоко преданный Вам В. Розанов».
Ужо тебе!
Увы, этого не случилось. Человек так и остался для субботы, и никто заблудшую овцу из беззаконной ямы вытаскивать не стал. Однако тут вот что еще стоит заметить. Сергей Николаевич Дурылин, на чье воспоминание я уже ссылался, впоследствии писал о Сусловой: «Для Розанова это несогласие этой дамы на развод грозило ссылкой в Сибирь: он не просто жил с Варварой Дмитриевной и имел от нее детей, которые не могли носить его фамилии. Это было бы полбеды. Дело в том, что В<асилий> В<асильевич> был тайно обвенчан в церкви с Варварой Дмитриевной. Если б это открылось (Победоносцев знал это, но, по благородству своему, молчал), Вас<илий> Вас<ильевич>, как двоеженец, подлежал бы не только церковным, но и гражданским карам – разлучению с женой, с детьми и ссылке на поселение».
Нет, не так все было! Как никто не собирался вытребовать по этапу первую жену, так никто не думал отправлять на поселение мужа второй и отнимать у них общих детей.
«“Мою историю”, оказывается, все знали, – писал позднее Розанов Павлу Флоренскому, – Рачинский (учитель) – от меня. Победоносцев (с Рачинским на “ты”), митр. Антоний и, кажется, “весь святейший Синод” (оказывается, по письму летом ко мне – Никон Вологодский знает, коего в жизни я ни разу не видал). Все ко мне лично необыкновенно относились, чувствовал, что любят меня (м. Антоний, и – почти уверен – Победоносцев; Рачинский – сухарь – нет)…
Почему же все меня любившие и уважавшие люди промолчали? Почему? Почему?
Много лет думал:
– Да Христом испуганы. Он сказал: “Суть скопцы… Царства ради Небесного”. И еще: “Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух”.
И – все Евангелие.
“Его” боятся… И молчат. И трепещут. “Действительно – беззаконие”…
В “Сибирь” бы…
А уж дети во всяком случае “не Розанова, а чьи-то…”»
Однако едва ли дело было в буквальном следовании евангельским заповедям. Россия, да и весь христианский мир давно от них отошли и рассуждали житейски. А особенно в больших городах и в том обществе, к которому Розанов принадлежал. Да живи ты, как хочешь, плодись, размножайся, воспитывай деток, законных, незаконных, рожденных в браке или внебрачных, и не обессудь, что мы не можем дать им твое отчество и фамилию, ибо таковы законы, не нами установленные и потому не подлежащие отмене с нашей стороны, но опять же чья жестокость искупается их неисполняемостью, а раз уж ты заговорил про субботу, то мы не формалисты и ни в чью личную жизнь не лезем. Права сто раз была мудрая, здравомыслящая, трезвая Анна Григорьевна: выскочат дочки замуж и все равно поменяют фамилию, но для него это все было – невыносимо. Только как иначе могло быть, если Розанов вспоминал, например, такое: «…и когда померла моя старшая девочка Надюша, и я в Петербурге в полиции выправлял разрешение на пропуск на кладбище, мне пришлось выслушать злобное издевательство 22–25-летнего, в мундире, чиновника над “ребенком вдовы (имя рек) – хе-хе-хе”. Подлец знал, что я отец, и что ребенок в гробу лежит у меня дома; тут же в полиции, стоял огромный образ св. Николая Чуд., с горящей лампадой: и этот образ около этого издевательства над отцом и матерью умершего ребенка больно-больно, какой-то потусветной горечью, кольнул меня».
И похоронена первая Надя была не как Розанова, а как Надежда Николаевна Николаева по фамилии своего крестного. Вписать фамилию настоящего отца родителям запретили. Не положено-с!
Можно сколь угодно и весьма обоснованно критиковать Розанова за бесчисленные яростные нападки на Церковь, за «нетерпение сердца», за нежелание нести свой крест, за дефицит кротости, смирения и прочих христианских добродетелей, можно укорять и осуждать за формальное прелюбодеяние, как это делали и при его жизни[27], и делают сейчас[28] – но, правда, как ему было это пережить? С его-то страхами, его мнительностью, тревогами и опасениями? «У меня 5 детишек, между 4 и 10-ю годами, семья, склеенная незаконно (тайный брак, 1-ая жена меня оставила в 1886 году и жива, вторая – всю себя положила для меня): стало быть, это абсолютные сироты без меня, умру я – и они (4 дочери) – через 10 лет в “% проституции”, – писал он Горькому. – Я когда об этом Влад[имиру] Соловьеву (т. е. что дочери будут, верно, по полной необеспеченности, проститутками) написал, – то он перешел к “другим философским темам”, просто не интересуясь кровью и жизнью, и я тотчас, не за себя, а как бы за мир – почувствовал к нему презрение, и это было настоящей причиною, что мы вторично “сатирически” разошлись».
Состояние розановской глубочайшей надломленности, внутренней скорби запечатлел незадолго до своей смерти и Н. Н. Страхов в письме Л. Н. Толстому. Тут примечательно, что если двумя годами раньше тот же автор тому же корреспонденту аттестовал В. В. как «звезду», то теперь мнение Николая Николаевича о его подопечном кардинально переменилось: «А Розанов – какое странное и жалкое существо! Он очень даровит – в том смысле, как он употребляет это слово; но он не может справиться с своим дарованием. Он пишет вдохновенно, но смутно и часто бестолково. Да и ни с чем он не умеет справиться; с женою, с дочерью-ребенком, с знакомыми, со службою – везде он, добрый и умный, находит поводы к тяжелым, мучительным отношениям. Я все боюсь за него, как будто он в постоянной опасности. Он далеко не здоровый человек, и сам за собой, кажется, смотреть не может. А я-то когда-то воображал, что это – крепкий молодец, провинциальный учитель гимназии, привыкший к своей глухой жизни! Оказался – мухортик, очень милое и очень слабонервное существо».
Может, и мухортик, конечно, только вот у самого Страхова детей не было и розановского страха, его отцовских чувств он был попросту не в состоянии понять, как не мог он прочувствовать и то подавленное состояние, в котором В. В. находился после смерти первой дочери, когда ему казалось, что своих детей у них с Варварой Дмитриевной уже не будет. И можно лишь догадываться, как был он безумно счастлив, когда один за другим они стали появляться на свет божий, как переживал, как боялся, как трясся над своими беззаконными деточками и как опасался, что они тоже могут заболеть вслед за первой Надей и умереть.
«Крестница Ваша захворала вчера к ночи, так что сегодня чуть свет звали доктора, – писал Розанов Страхову в коротеньком не датированном письме в 1895 году, объясняя, почему пропустил две «литературные среды». – Без всяких почти предварительных приступов (был сильнейший только насморк) – мечется, плачет, впадает в забытье и несколько раз уже была рвота. Доктор еще не был, но предварительно велел обтирать голову мокрой губкой, поставить кругом живота согревающий компресс и клистир. И я бы все-таки не так беспокоился, если бы ее забытье и рвота не напоминали очень болезни умершей нашей девочки Нади».
Нет, не для Страхова была та история. И не для Владимира Соловьева[29]. Им это все – компресс, клистир, мокрая губка, детская рвота – было неведомо. Они всё больше про литературу, про высокие материи, про тайны бытия и про премудрость Софии. Хотя – забегая вперед – тот факт, что розановские дети выжили и выросли, что болезнь первой Нади ни у кого из них не повторилась, – было, и правда, чудом самым настоящим, нарушением чина естества, тайной и милостью Божьей.
Но дело заключалось не только в личных заботах, тревогах, обидах, страхах, переживаниях и житейских неудачах непризнанного отца и оскорбленного беззаконного супруга, не в одной лишь его отдельной, по-прежнему нескладывающейся жизни. Наделенный невероятной интуицией, слабонервный, милый Розанов как будто чувствовал, что его частная и не такая уж на самом деле ужасная брачная история, вызванная несовершенством российских законов (бывали случаи куда страшней, когда незаконных детей убивали, подбрасывали, оставляли на папертях или в лесу, о чем он сам напишет в «Семейном вопросе в России» или в письме Антонию[30]), есть симптом духовной болезни, поразившей весь организм империи. Огромная страна рушилась не потому, что ее хотел уничтожить брат казненного гимназиста из Симбирска, сказавший, по преданию, в ответ на слова некоего чиновника «Куда вы, молодой человек, лезете? Перед вами стена» – «Стена, да гнилая. Ткни и развалится» – нет, не потому, что гнилая была. А потому, что слишком твердая, жесткая, самоуверенная, глухая, потому что опаздывала, не отвечала времени, не хотела меняться, была катастрофически негибкой, нечуткой, и сама приближала свой конец, слиняв по грехам своим через два десятка лет в два дня. Самое большее в три.
Он не мог тогда высказать всего в публицистике, потому что цензура (так была запрещена его предостерегающая консервативная статья «О подразумеваемом смысле нашей монархии»), но в письмах Рачинскому сформулировал все очень четко: «Монархи губят себя излишней бюрократией, и нет Геркулеса, который сломил бы эти Авгиевы конюшни канцеляризма, и, вероятно, что они погибнут: что один – французский уже погиб».
Но его не слушали, а если и слушали и даже в чем-то соглашались, то ничего не делали. В лучшем случае жалели, как ту шелудивую собаку, с которой сравнит Розанова Леонид Андреев. И даже Победоносцев, на которого В. В. возлагал большие надежды, писал о своих впечатлениях розановскому опекуну, причем, что характерно, мнение его точь-в-точь совпадало со страховским: «Сейчас был у меня Розанов, послав вперед себя прилагаемые писания и книжку “Русск. Вестника”.
Я вышел к нему и беседовал с ним. Боже мой! Жалость подумать, что у нас происходит с людьми, способными мыслить, но развивающимися в углу и в отчуждении от людей!!
Я ужаснулся, взглянув на него. Изможденный, кожа до кости, дикий, блуждающий взгляд! (…) Мне жалко этого человека. Боюсь, что он кончит нездорово».
В конечном итоге так и вышло, только вот кончил нездорово не один лишь Василий Васильевич Розанов, но вместе с ним и вся православная русская монархия, которая так дорога была и Константину Петровичу, и Николаю Николаевичу и о которой с тревогой и болью, когда ее еще можно было спасти, писал изможденный посетитель с диким блуждающим взглядом. Но его не послушали, и тогда, расстреляв все патроны по своим, «слизью обмазанный», «сердитый господин средних лет, в очках, с редкой бородкой, с угрюмым и раздраженным видом», «хитрейший змий Розанов», Козел, сатир, юрод, каким запомнился В. В. своим современникам, хитрый рыжий костромской мужичок, зародившийся в воображении Достоевского и мысливший, по слову Бердяева, «не логически, а физиологически», сменил прицел, и именно с этого момента грандиозный метафизический розановский бунт развернулся во всю силу. «…во мне взбунтовался мещанин против аристократа, магната, герцога с обширных поместий, даже мещанишко малый, необразованный, но “со своими неотъемлемыми правами” – против страшного ума и силы, взбунтовалась Вандея против “победоносного” Парижа, принесшего “новый свет человекам”», – писал он позднее Н. Н. Глубоковскому.
«В. В. Розанов, будучи верным сыном православия, завопил от страшной боли, от боли религиозной. Он – не пустяшно религиозен. Он принадлежал церкви всей душой. Он вышел из консерваторов; все либералы считают его архиреакционером. Такой человек, находясь в лоне церкви, завопил от нестерпимой боли таким голосом, что, клянусь, если бы перевели его книги, то его бы услышала вся Европа, но в нашем обществе, по нашей лени и косности, почти никто его не слышит. Это явление – громадное; я думаю, серьезнее Фр. Ницше».
Так говорил Мережковский. Но Ницше здесь ни при чем. То был бунт русский, мятеж маленького человека, не помнящего своего родства чиновника Евгения из «Медного всадника», Акакия Акакиевича Башмачкина, наделенного при этом талантом их создателей, и направленный не против русского консерватизма и даже не против царской власти, но против Той, Что выше: «И поднялся “весь Розанов” на “всю Церковь”». И стал тогда неказистый русский человек с Петербургской стороны кем-то вроде ветхозаветного инсургента.
Чего же ты хочешь?
Свое «восстание» философ позднее описал в одном из «опавших листьев»:
«Раз я стоял во Введенской церкви с Таней, которой было три года.
Службы не было, а церковь никогда не запиралась. Это – в Петербурге, на Петербургской стороне. Особенно – тихо, особенно – один. В церковь я любил заходить все с этой Таней, которая была худенькая и необыкновенно грациозна, мы же боялись у нее менингита, как у первого ребенка, и почти не считали, что “выживет”. И вот, тихо-тихо… Все прекрасно… Когда вдруг в эту тишину и мир капнула какая-то капля, точно голос прошептал:
“…вы здесь – чужие. Зачем вы сюда пришли? К кому? Вас никто не ждал. И не думайте, что вы сделали что-то ‘так’ и ‘что следует”, придя ‘вдвоем’ как ‘отец и дочка’. Вы – ‘смутьяны’, от вас ‘смута“ именно оттого, что вы ‘отец и дочка’ и вот так распоясались и ‘смело вдвоем’”.
И вдруг образа как будто стали темнеть и сморщились, сморщились нанесенною им обидою… Зажались от нас… Ушли в свое “правильное”, когда мы были “неправильные”. Ушли, отчуждились… и как будто указали или сказали: “Здесь – не ваше место, а – других и настоящих, вы же подите в другое место, а где его адрес – нам все равно”.
Но, повторяю, жулик знает, чем “отвертывать замки”, а “кто молится” и счастлив – тоже знает, что он – молится именно и – именно счастлив; что у него “хорошо на душе”; и вообще что в это время, вот, может быть, на одну эту минуту в жизни, – он сам хорош.
Опять настаиваю, что дело в кротости, что я был именно и всегда кроткий, тихий, послушный, миролюбивый человек. “Как все”.
Когда я услышал этот голос, может быть и свой собственный, но впервые эту мысль сказавший, без предварений и подготовки, как “внезапное”, “вдруг”, “откуда-то” – то я вышел из церкви, вдруг залившись сиянием и гордостью и как победитель. Победитель того, чего никто не побеждал, – даже того, кого никто не побеждал.
– Пойдем, Таня, отсюда…
– Пора домой?
– Да… домой пора.
И вышли».
Виктор Григорьевич Сукач написал в примечаниях к этой сцене, что «этот биографический факт можно считать началом так называемого антихристианства Розанова». Это верно лишь в том случае, если считать все «опавшие листья» фактами, а не текстами, но не факт, что именно так и происходило в реальной жизни. Недаром прочитавший перед самой смертью «Уединенное» Суворин записал в дневнике: «Когда я читал, я все думал: а все-таки Розанов не все говорит, что знает, главнейшим образом, что чувствует. А это было бы очень интересно».
Однако в данном случае есть документ, позволяющий подтвердить этот сюжет и узнать о нем больше. Речь идет о письме Розанова уже упоминавшемуся выше профессору богословия Николаю Никаноровичу Глубоковскому, в котором воспроизведена та же самая сцена ухода из церкви, но протестное состояние В. В. выражено еще сильнее, пронзительнее, надрывнее, чем в «Опавших листьях», и, как мне представляется, именно его можно считать неким пиком или концентрированным выражением розановского религиозного мятежа:
«Теперь слушайте: любил я с крошками детьми (когда мать нездорова или что) ходить в церковь, к Введению, на Петербургской стороне. Я всегда был задумчив, и рассеян. Психология мечтателя и созерцателя. Я не вижу того, что другие все видят – годы: за то могу год – не отводя глаз, рассматривать песчинку, которой другие не замечают. Вот моя практическая слабость и теоретическая сила (так произошла книга “О понимании”). Теперь будьте страшно внимательны: стоя в церкви, с такой безграничной любовью к этой церкви, ко всему, всему в ней, виду, житию, священнику, дьяку, всему и к молящемуся люду я как-то однажды подумал:
– А ведь все это меня не любит.
Не умею передать. Слов не было. Было ползучее чувство морфологическое, клеточное передвижение в душе, и озарение из них как молнией.
– Я, моя Варя (жена), эти вот дети, которых я сюда привел, всему этому храму противны, чужды, ненавистны, как “беззаконники”, нарушившие их “святые уставы”, и в основе и отдаленно все мы “враги Христосовы” или “Христос наш враг” просто по существу: “Суть агнцы Царствия Ради Небесного”, “хорошо вдаять в брак, а лучше не вдаять” (Ап. Павел), а вообще все это “мазаны” и “непомазаны” (Щедрин). Ну, в письме не напишешь. С глубокой медлительностью, вот “как яблочко зреет”, вся безграничная моя любовь к церкви – безграничный идеализм скромного, теплого семьянина, терпеливого как “осел”, невзыскательного, негордого – обратилась (через годы) в столь же неумолимую ненависть (ярость) ко всему “Сему Царству”; не говоря уже о храме, но и к Тому, Кто дал 1-й толчок к девству, первый сворот от ветхозаветного идеала семьи – прочее и прочее. Словом, все совершилось органически – идеи, догадки, сопоставления потом пришли, хотя шли быстро, “открытия следовали за открытиями”, раз я стал в позу отрицания всего, ненавидения всего. Тут поверьте, не только храмы не удерживаются, наше “старенькое, добренькое православие”, но ничего не удерживается, и мне представляется и чувствуется сплошной ложью, хорошо прикрытою и хорошо разукрашенною и запутанною в необыкновенно искусный узел (Иисус завязал). Словом, ум мой беден: развязывать всего я не умею, я обыкновенный человек: но потенциально во мне, на моем личном примере – христианство не то чтобы умерло: но его как религии никогда и не было. Вы знаете: умер человек, от скарлатины: и тезис “человек бессмертен” – румяна, все равно из-за смерти одного. Не умею доказать. Все люди бессмертны (положим – все Адамы, и еще до греха): вдруг один умирает. И тогда ясно, что “смерть есть”, “бессмертия нет”. Так в моем примере:
“Христианство – свет”
“Христианство – добро”
“Христианство – любовь”
“Христианство – Бог”, “Бог наш, иного не знаем”.
Но стою я (вот тогда в церкви) – глубоко несчастный, глубоко грустный, глубоко правый (да! да!) с детьми – малютками, женой – такой наивной самоотверженной, ко всему и вся никогда себя не помнящей, и та добрая старушка в Ельце, все обиженные, оттолкнутые гордой (да! да!) церковью, такой самоуверенной (суть ее!) гордецами апостолами (как ап. Павел противопоставил себя Моисею!) и основою всей гордости – Иисусом, Который сказал: “Я – Бог” (в вариантах, в оттенках) – вот и только, и это как “Иван умер от скарлатины”, один – умер: ergo смерть есть и бессмертие миф): так из моего примера обнаруживается:
Церковь – гордыня (Не правда ли? не правда ли? Суть в этом “святатые”, “не поправимые”, нельзя нарушить соборных постановлений и даже самых глупых мнений св. отцов). Церковь – злой дух.
Церковь – лживые, лицемерные уста.
ВСЕ = ЛОЖЬ
Вот! Вы умом своим все это “укомплектуйте”, раздвиньте строки в томы и получится моя личная и литературная история. Мое положение личное до того неделимо стойко, не по моему усилию, а по своей сути, что, я уверен, скорее вся церковь разъедется, рассыплется, как дресва (песок) из гранита (выветрившегося), чем я хотя на вершок сдвинусь с места. И пусть я негодяй, лом (“лом – всякий человек”); не во мне дело, а в моем вот тогда молящемся в церкви, я помню тот час свой, помню, что он был прав, помню весь колорит правоты, вот этот смиренный с наклоненной головою, так хотящий бы поцеловать руку у <мо>лоденького священника, так слушающий дьячка. Все помню.
И
– Не надо!
– Не наш!
– Вон!
– Черт!
Тогда я ответил: – Черти!
Вот так просто! Теперь я Вам скажу другое: я верю, что со мною Бог, вот “как бы чувствую Его за пазухой”. До сих пор (50 лет) во мне сохранились это мое вечное трудолюбие, абсолютная трезвость мысли, спокойствие души, после – это малое; сохранилась (без преувеличения) моя скромность, просто “недуманье ничего о себе”, особенно никакого /нрзб./, безграничная расположенность к людям (даже к врагам, напр/имер/ литературным), презирающим меня – (ей! эй!), простота, глубокая житейская наивность, и я думаю: “да неужто это от черта? Неужто со мною черт? Не явно ли, что Бог меня хранит, что он недалеко от меня. И прочее. И тогда резюмирую: думаю: в истории должно было что-то случиться “в роде меня”, дабы раскрылась какая-то (может и точь-в-точь так, как я думаю) неправда церкви и христианства, и вот все это, я, моя личная судьба. 1-й брак, – до того идеалистический, и 2-й вне всякой чувственности (тут интересные подробности: дело в том, что между 2-мя браками я в половом отношении “испортился”, стал импотентным – почти совсем: и когда произошел “духовный роман”, – я со скукою сказал невесте (ей 26 лет), что “неспособен”, “кажется совсем и вот-вот на донышке”. Тогда она, моя самоотверженница – сказала, что это грустно конечно, но что она будет – жить со мною духовно, без сожития, и гасила мое отчаяние: когда потом я “расцвел” просто от здоровой и молодой женщины. Но этого возможность я тогда не знал) – все это устроено, создано Провидением, чтобы “вышло все, что вышло”.
Устал и пошел спать.
Друг мой: я уверен, что все это совершилось для “судьбы” и “истории”. И как мне никогда не приходилось излагать, т. е. вот особенно тогдашнего отчаяния в церкви, – то сохраните эти строки и по моей смерти».
Тут, собственно, нечего и комментировать. Разве что вспомнить то нежное, умиленное письмо, которое В. В. послал Страхову десятью годами ранее, с описанием всенощной во Введенской (тоже!) церкви в Ельце. И сравнить с этим. Там было вхождение во храм, здесь – выход из него.
«Церковь сказала “нет”. Я ей показал кукиш с маслом. Вот и вся моя литература», – очень точно и афористично сформулировал он свою историю позднее.
Так из малого выросло великое, из частного общее, из личного – общественное, а вернее, для Розанова разницы между этими противоположностями не существовало. Отрицание церковными властями его нового брака, непризнание его жены и детей, его собственная семейная история стали маленьким прологом, одним из миллионов ручейков, ведущих к общенациональной смуте, которая в итоге смела Российскую империю, поколебала Церковь, но и саму розановскую семью уничтожила. Русский Иаков с его семейной драмой, если вспомнить столь драгоценную для Розанова историю богоизбранного народа, так и не стал русским Израилем, и его тяжба с Богом ни к чему путному не привела. В. В. не меньше другого своего великого современника заслужил горькой чести прозываться «зеркалом русской революции», однако складывается впечатление, что хотя у розановского восстания были вполне очевидные, понятные причины, цели его были столь же неочевидны. В самом деле, чего добивался он своей критикой исторического христианства и современной Церкви? Какую мишень хотел поразить? Какого искал результата? Не черной же консервативной революции в самом деле? А чего тогда? Реформирования государственных институтов? Решения семейного вопроса? Но для этого слишком сильный был замах, да и не в ту сторону, тем более что своего он частично добился, только для этого не надо было нигилистически крушить все подряд. Но, похоже, Розанову просто было важно высказаться, выплеснуть, взбудоражить, спровоцировать, ошпарить, будировать, дать выстрелить так долго сжимавшейся внутри его существа пружине, а к чему это приведет? Не его тема.
Интересно еще и то, что в «Опавших листьях», уже после того, как семейная ситуация опять же отчасти разрешилась в его пользу, автор взглянул на нее с другой стороны: «Но тут надо понять так: теперешнее духовенство скромно сознает себя слишком не святым, слишком немощным, и от этого боится пошевелиться в тех действительно святых формах жизни, “уставах”, “законах”, какие сохранены от древности. Будь бы Павел: и он поступил бы, как Павел, по правде, осудив ту и оправдав эту. Без этого духа “святости в себе” (сейчас) как им пошевелиться? И они замерли. Это не консерватизм, а скромность, не черствость, а страх повредить векам, нарушив “устав”, который привелось бы нарушать и в других случаях и для других (лиц), в случаях уже менее ясных, в случаях не белых, а уже серых и темных. Пришлось бы остаться, с отмененным “Уставом”, только при своей совести: которая если не совесть “Павла”, а совесть Антониев, и Никонов, и Сергиев, и Владимиров, и Константинов (Поб.) то как на нее возложить тяжесть мира? “Меня еще не подкупят, а моего преемника подкупят”: и станет мир повиноваться не “Устав”, а подкупу, не формализму, а сулящему. И зашатается мир, и погибнет мир. Так мне и надо было понять, что, конечно, меня за… никто не судит, и Церковь нисколько не осуждает…… и нисколько не разлучает меня с…… а только она пугается это сделать вслух, громко, печатно, потому что “в последние времена уже нет Павлов, а Никандры с Иннокентиями”. Потому что дар пророчества и первосвященничества редок, и он был редок и в первой церкви Ветхозаветной, и во второй Новозаветной. Аминь и мир».
Да, все так и было; они понимали, что порядки надо менять, но не решались, боялись тронуть, взять на себя ответственность, опасались последствий, осторожничали, выжидали, тянули время, резали хвост по частям, а может, просто потеряли всякую государственную силу и стали политическими импотентами, и тогда это решительно сделали за них энергичные красные дьяволята во главе с симбирским младшим братом, насчет своих моральных качеств ни разу не усомнившиеся, ничего не страшащиеся, отменившие все таинства и упразднившие препятствия для моментального устройства личной и семейной жизни. Но так и хочется спросить Розанова в 1918 году, когда над Русью с грохотом опустился железный занавес и грянул Апокалипсис нашего времени, зато никто не мешал гражданам свободной России разводиться и жениться, сколько душеньке угодно: этого ль Вы, Василий Васильевич, хотели?
Слово и тело
Однако это будет позднее, а в ту пору розановская мысль восстала не только против Нового Завета, Христа, монашества и скопчества, которое В. В. рассматривал как христианство, доведенное до логического конца, и впоследствии высказал все, что об этом думает, в своих известных сочинениях, а также в докладах на заседаниях Религиозно-философского общества. Сопутствующим явлением, своего рода физиологическим, психологическим, патологическим, философическим, онтологическим осложнением, ответвлением или разветвлением этого бунта в его творчестве сделалась тема пола. Более того, в каком-то смысле она ему предшествовала и этот мятеж подпитывала и им же вдохновлялась. Был ли вызван этот особенный интерес его брачными проблемами, особенностями склада души, физиологией, психологией, возрастом, детскими пороками[31], автоэротизмом, травмами, комплексами, сексуальными расстройствами, генами, духом времени или же всем вместе взятым – сказать трудно. Когда в 1991 году на излете перестройки журнал «Литературное обозрение» выпустил номер, посвященный эротике в русской литературе, в нем были опубликованы три «распоясанных письма» Розанова к Зинаиде Гиппиус, которые в первую очередь интересны соединением «низа» и «верха».
«Там на том свете (ты грозишь) – хоть распори-пори меня, а на этом хочется поиграть “белыми грудями”. Да и не только поиграть – а больше. Да и не только грудями – а больше, – писал он в одном из них. – Ты это письмо “товарищам” не показывай: боюсь их гнева. И они слишком серьезны, без твоего милого вдохновенья к дурачествам, чему я так симпатизирую. Ей-ей: жизнь до того серьезна, и так заботна, что хочется неудержимо “распоясаться”… Да, Зина: сколько я думал: отчего я “это” все так люблю, и от юности, от отрочества так любил, и, ей-ей, благоговел пред “миррой сладкой, падающей с пальцев ее…” (Песнь песней). Отчего, Зина, скажи? Неужели это – не вечное? Неужели это порок и только? Неужели тут нет более глубокого основания и сущности? Дм. Серг. как-то сказал: “Да… Бог вышел из vulv’ы; Бог должен был выйти из vulv’ы – именно и только из нее”. Он теперь, подлец, это забыл, а тогда (года 3–4 назад) это меня поразило, и я “намотал себе на ус”».
Характерен ответ Гиппиус: «Вы, Вася, человек добрый, я это знаю, однако вы тоже и Васька Каин. Думаю, на том свете вас в конце концов простят, но сначала здорово сечь будут. И не то, чтоб насильно, а сами будете просить: ох, дери меня, как сидорову козу, дери, пока я спокойствия душевного не получу, потому что не могу вынести, что я глупый, о такой простой вещи не догадался, человеческое с Божьим перепутал и концы в воду спрятал!»
Но опять же Розанов не был бы самим собой, если бы держал эти мысли внутри себя, с ними боролся, их стыдился, исповедовал, каялся, нет – это все не про него; он нес их в свои тексты, пускай и в других выражениях, яростно споря с теми, кто придерживался иной точки зрения. «Мы говорим о плотской любви, о половом влечении мужчины и женщины – да извинят нам термины, уже всюду начавшие повторяться, – писал он в статье с характерным названием «Семя и жизнь». – Это – “низменный инстинкт”, определяет его г. Вл. Соловьёв в статье “Судьба Пушкина” (“Вестн. Евр.”, сентябрь 1897 г.); “животное и грязное чувство, лживо изукрашенное поэтами”, определяет г. Меньшиков (“Элементы романа”, в “Книжках Недели” за сентябрь – октябрь, 1897 г.); “преступление, сообща творимое мужчиной и женщиной”, как формулировал уже давно, но памятно гр. Л. Толстой в “Крейцеровой сонате” (…) Жизнь. Она начинается там, где в существах возникают половые различия; и эти последние начинаются там, где появляется жизнь. Растения – и те не лишены пола, но совершенно лишены – камни. Глубоко поэтому, и как бы выявляет мысль всей природы, наименование подруги первого человека “Евою”, что значит одновременно и “женщина” и “жизнь”: т. е. указывает, что “женщина” – это и есть “жизнь”, что в ее половых отличиях, и соответственно, конечно, в половых различиях ее друга, и лежит тончайший субъективный нерв жизни. Но полнее и отчетливее – что же это такое? Не без причины пол ищет мрака, любит ночь. Это он сам есть темнота, но уже не окрест человека, но в человеке. Темнота не как грех – о, нет! – но как важное. Человек имеет день в себе, в своей организации, в своих выявлениях: ну, торговать, конечно, нужно днем – не просчитаешься; но придумывать рифмы – ночью, иначе ошибешься. На биржу мы спешим утром, но замечательно – в храм идем или ко “всенощной”, или к “утрене”, т. е. или перед полуночью, или сейчас за полночью; в обоих случаях по темным еще улицам и до восхода солнца. Пол – это начинающаяся ночь в самой организации человека: в том смысле, что ясно анатомическое и сухо анатомическое его расчленение теряет здесь ясность, сухость и вместе рациональность свою. Всё, приближаясь сюда, становится трансцендентно, т. е. не только окружено это трансцендентными по необъяснимости своей бурями, “огнем поедающим”, но и вообще как-то переливается в значительности своей за край только анатомических терминов. Это – второе темное лицо в человеке, и, собственно, оно есть ноуменальное в нем лицо: от этого – творческое не по отношению к идеям, но к самым вещам, “клубящее” из себя “жизнь”; но оно так густо застлано от наших глаз туманом, что, в общем, никогда его не удавалось рассмотреть».