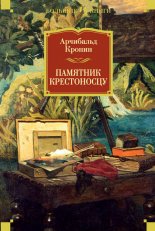Мемуары Дьявола Сулье Фредерик

Его слова вновь расстроили маркизу; к ней вернулись печаль и озабоченность.
Растерянный и смущенный Луицци, не зная, как продолжить разговор, зацепился за первую же мысль, что пришла ему в голову:
– Вам нездоровится? Вы ничего не едите и не пьете…
– Совсем нет, наоборот, – снова заулыбалась Люси.
И, как бы в подтверждение своих слов, она выпила шампанское из бокала, который наполнил Луицци, чтобы сделать хоть что-то. Глаза маркизы заблестели еще ярче, а голос задрожал еще сильнее.
– Да, – она горько усмехнулась, – любовник – это занятно, это скрашивает жизнь; но его нужно любить, этого любовника.
– Когда его больше не любят, его спроваживают.
– Ревнивец! Тиран, угрожающий скомпрометировать в любую минуту и по всякому поводу; самый невинный визит вызывает у него подозрения; его раздражает простой непринужденный разговор с друзьями или родственниками. Трус и лицемер, который восстанавливает против вас всю родню, лишь бы исключить того, кто внушает ему опасения… О! Это страшная пытка… Господи! Все-таки нужно с этим покончить…
С каждым словом она все больше возбуждалась, ее лицо раскраснелось; сохранивший хладнокровие Луицци заметил, как у нее застучали зубы; какое-то подобие горячки охватило ее. Но мужчины не знают жалости; Луицци как ни в чем не бывало наполнил бокалы; маркиза поднесла бокал к губам, но затем поставила его обратно, словно чего-то испугавшись.
– Люси, вы как маленький ребенок. – Облокотившись, Арман устремил на маркизу влюбленный взгляд. – Если уж женщине встретился подобный недостойный тип, то она должна немедленно избавиться от него.
– Но как?
– Если он трус, то невелика задача для того, кто возьмет эту женщину под защиту; если же он смельчак – тем лучше: можно доказать свою преданность, рискуя жизнью в поединке.
Люси с горечью усмехнулась, а затем, словно захваченная этой новой идеей, вскрикнула:
– А если он…
Она остановилась, скрипнула зубами, как бы поперхнувшись словами, которые уже завертелись на языке, и покраснела, будто охваченная приступом удушья; затем госпожа дю Валь сделала глоток шампанского, чтобы прийти в себя; Луицци осмелел, наблюдая за растущей растерянностью маркизы.
– Да кто бы он ни был, можно заставить его замолчать! – воскликнул он.
Люси еще раз улыбнулась все с тем же выражением недоверия и отчаяния, и Арман продолжил:
– Да, Люси, и это сделает мужчина, доказавший свою преданность и нежность в долгих испытаниях, мужчина, в котором нельзя сомневаться, друг, которому можно полностью доверять и который пойдет на все ради той, что поручила ему заботу о своем счастье.
Маркиза саркастически рассмеялась:
– Вы сказали – долгие испытания? Но я же объяснила: после первой же встречи этот человек становится подозрительным.
Она умолкла, заколебавшись, но затем, пристально вглядевшись в Луицци, словно желая заглянуть в самую глубину его души, промолвила:
– Чтобы женщина, попавшая в подобный переплет, благополучно выбралась из него, ей нужно найти великодушное сердце, которое отзовется в ту же минуту, не заставляя себя ждать.
– Как только вы пожелаете, такое сердце будет у ваших ног.
– Неправда! Мужчины пальцем не пошевелят, если не рассчитывают добиться любви как награды за свою самоотверженность…
– Которую заслуживает тот, кого испытывает женщина. – Луицци придвинулся к маркизе.
– А если женщина требует немедленного подвига, то и награда должна быть оговорена сразу?
– Почему бы и нет? – не стал спорить Луицци, потрясенный необычностью разговора и развязностью маркизы дю Валь. – Почему бы и нет? Люси, неужели вы думаете, что на свете нет мужчины, способного понять женщину, которая вручает ему себя со словами: «Я доверяю тебе свое благополучие, существование, репутацию; и чтобы ты не сомневался, что будешь моей единственной надеждой, я отдаю тебе мое счастье, жизнь и доброе имя; возьми же, владей ими!»
– О! Если бы такое было возможно! – вскричала маркиза.
– Люси, может быть, тысячам женщин это недоступно, но для столь достойной красавицы, как вы…
Голос Луицци наполнился страстью, и он еще ближе подсел к маркизе. Люси на мгновение обхватила голову руками, с силой сжав свои прекрасные черные косы; затем она резко поднялась, вслед за ней встал и Луицци.
– Боже! – пробормотала маркиза. – Я схожу с ума.
– Люси, – прошептал Арман.
– Схожу с ума! Ну так будь что будет! Безумствовать – так до конца!
Горячечным движением она схватила со стола один за другим полные бокалы и исступленно осушила их. Затем, обернув к Луицци пылавшее и в то же время потерянное лицо, не помня себя, воскликнула в безумном упоении чувств[51]:
– Ну и как?! Ты посмеешь любить меня?
Разум Луицци также помрачился от всей этой сцены, от того, что он видел и слышал. Обстоятельства, случай, неожиданность увлекли его и наполнили ошеломляющим, шальным восторгом, и Луицци убежденно заверил маркизу:
– Тебя любить? Любить тебя? Это отрада ангелов! Это счастье, это жизнь!
– Да? Так любишь ты меня или нет?
На этот раз Луицци ответил только крепким объятием; она не противилась, только шептала и шептала:
– Любишь меня, ведь правда? Любишь, ведь так? Ты же любишь меня? Любишь? – бормотала она беспрерывно и как бы бессознательно.
Она упорно повторяла эти слова, будто утратившие для нее всякий смысл, до тех пор, пока Луицци не одержал победу над инстинктивным для всех женщин сопротивлением мужским желаниям.
И тут исступление и восторженность, захватившие Люси, опьянение, помутившее ее разум, безрассудная страсть, подтолкнувшая ее к совершению ошибки, которую не оправдывает даже любовь, разом угасли; душевный жар не затронул плоти; уста, кричавшие и горько смеявшиеся словно в приступе гнева, похолодели и умолкли, не отвечая на слова любви. Женщина, которая предлагала себя Луицци, походила на сумасшедшую или распутницу, а та, что отдалась, была скорее статуей или жертвой[52].
Здесь крылась какая-то страшная тайна.
Стыд и смущение овладели Луицци.
В будуаре установилась тишина; глаза маркизы, сидевшей на диване, опять уставились в одну точку. Тем временем Луицци беспокойно наблюдал за судорожными изменениями выражения ее лица; он попробовал заговорить, но она, казалось, ничего не слышала; хотел обнять, но его оттолкнули с поразительной силой; он взял ее за руку, но, резко поднявшись, Люси высвободилась со словами:
– О! Как все это низко!
Буря страстей и плоти, назревавшая давно, разразилась страшным нервным приступом. Маркиза пронзительно кричала что-то о проклятии и вечных муках в преисподней. Каждый раз, когда Луицци пытался до нее дотронуться, она вздрагивала, словно от прикосновения отвратительного гада. Луицци уже не знал куда деваться, но в этот момент вошла служанка; с досадой пожав плечами, она сказала:
– Ну вот, так я и знала!
Мариетта приблизилась к хозяйке, расшнуровала корсет и заговорила покровительственным тоном, которому, по всей видимости, обычно повиновалась маркиза. Продолжительный приступ закончился. Маркизе стало легче. Луицци опасался вновь растревожить ее и ни во что не вмешивался.
– Пора вам уходить, – заявила Мариетта. – Пойдемте, я вас провожу, пока она спокойна.
Луицци последовал за служанкой, которая почти бежала, поскольку торопилась вернуться к хозяйке. Барон не сомневался в ее правоте. После пяти часов удивительных событий, в которые он был вовлечен против своей воли и которые превзошли все его воображение, он счел за лучшее ретироваться.
Миновав сад, Арман вышел на улицу и вернулся к себе; глубоко погруженный в свои думы, он не заметил, что от калитки сада до гостиницы за ним следовал человек, закутанный в плащ.
На следующее утро Арман наведался к Люси, но ему ответили, что маркиза не принимает.
В течение дня он еще четыре раза возвращался к ее дому, но увидеть маркизу ему так и не удалось. На второй день он послал ей записку, которая осталась без ответа. На третий день его письмо вернулось к нему нераспечатанным. Меж тем он знал, что Люси не больна. Ее видели, как обычно, на утренней мессе в церкви Сен-Сернен[53]. Вечером она навестила свою старую и очень набожную тетушку, которая должна была оставить ей большое наследство. Луицци чувствовал себя весьма уязвленным; но правила хорошего тона не позволяли ему в открытую расспрашивать о маркизе, а тем более кому-нибудь рассказывать о том, что с ним произошло. И все-таки, не желая выглядеть одураченным, он решил во что бы то ни стало увидеть госпожу дю Валь. Случай подвернулся сам собой, избавив его от обременительных поисков: ему стало известно, что вскоре состоится большой прием в одном из домов, куда барон мог легко попасть благодаря своему имени. Он узнал также, что маркиза получила приглашение и обещала прийти. Тем не менее, рискуя нарушить все приличия, Луицци вознамерился явиться туда незваным гостем – он опасался, что госпожа дю Валь не сдержит своего обещания, если узнает, что встретится с ним на приеме.
Уверившись, что так или иначе он объяснится с маркизой, Луицци вспомнил о делах, а следовательно, и о госпоже Дилуа.
Барон изучил текст договора, который она вручила ему, и сделка показалась ему вполне подходящей. Но у Луицци возникли некоторые сомнения относительно этой особы, чей кокетливый тон поначалу внушил ему приятные иллюзии. Полупризнания госпожи Барне насчет происхождения и образа жизни госпожи Дилуа развеяли эти иллюзии и отбили у барона охоту заключать договор с домом Дилуа, а потому он представился еще нескольким торговцам. Те предложили ему за шерсть меньшую цену, чем фирма Дилуа. Выгода оказалась выше предубеждений, и он решил вновь обратиться к прекрасной купчихе.
IV
Ночь вторая
В спальне
Барон направился к дому госпожи Дилуа вечером, после того как склады и конторы уже закрылись. Он хотел застать ее тогда, когда она выходит из роли негоциантки. Его встретила на удивление вежливая служанка; не доложив о нем, она проводила барона на второй этаж и, пройдя вместе с ним через маленькую каморку, без предупреждения распахнула дверь в спальню, сказав лишь:
– К вам пришли.
Хозяйку, должно быть, весьма удивил и смутил столь нежданный визит. Она сидела по одну сторону от камина, а красавчик Шарль – по другую. Скромный, но элегантный дневной туалет сменило домашнее платье, сиявшее блеском чистоты и опрятности; все говорило о том, что госпожа Дилуа не стеснялась появляться перед приказчиком в любом наряде. В спальне царил тот легкий беспорядок, что говорит о скором отходе ко сну; в изголовье разобранной постели уютно расположились две подушки.
Привыкший к роскоши высший свет не знает, сколь привлекательна ослепительная белизна постельного белья. В шикарной, раззолоченной спальне едва промелькнет среди шелковых складок княжеского ложа[54] узенькая полоска тонкой белой простыни; но в скромном жилище простой провинциалки рядом с почерневшей от времени мебелью из орехового дерева, на темном фоне тяжелых штор, белая, как алебастр, постель смотрится как лик девы. Эта непривычная и полная очарования картина даже самым хладнокровным и робким может внушить внезапные и смелые желания; если же вы, подобно Луицци, только что пережили такое приключение, когда в ваши объятия бросилась дворянка, которую вы скорее уважаете, чем любите, то вполне позволительно решить, что вы добьетесь еще большего с мещаночкой, кажущейся игривой и легкодоступной, и воскликнуть про себя:
«Ей-богу, это местечко мне подходит! Я с превеликим удовольствием займу его этим же вечером».
Этим же вечером – понимаете? Бывают победы, сладостные только своей молниеносностью. Торжество такого человека, как барон де Луицци, над простой купчихой после месяца-другого усердных ухаживаний и любовных разговоров не представляло для него никакой пикантности и не польстило бы его самолюбию; но управиться за несколько часов с женщиной, которая, по мысли Луицци, привыкла терпеть поражения, а не использовать все ресурсы обороны, казалось ему оригинальным, забавным и привлекательным. К тому же предстояло оттеснить не только мужа, но и любовника, что намного интереснее; случай был настоящей удачей. Ибо склонить женщину к измене мужу – все равно что поддержать и укрепить ее брак; но убедить ее провести любовника, заставить согрешить по отношению к своему же греху, сделать неверной к неверности – задача намного сложнее и грязнее, зато успех стоит труда.
Все эти доводы, что мы так долго перечисляли, не столько поясняют решимость Луицци, сколько продиктовали ее. Арман, увидев юного красавчика подле госпожи Дилуа и раскрытой постели, почувствовал непреодолимое желание занять место, которое, как он думал, принадлежало Шарлю. Но начал он с извинений за несвоевременность своего визита.
– Простите, сударыня, – сказал он, расположившись между приказчиком и госпожой Дилуа. – Простите, что явился столь поздно; мы, бездельники (а я считаю, что люди моего сорта ни на что не годны), просыпаемся поздно, а к вечеру обнаруживаем, что ровным счетом ничего не успели[55]; простите же, сударыня, что докучаю вам своими делами в то время, как вы давно покончили с вашими.
– Что поделаешь, сударь! – с легкой досадой улыбнулась госпожа Дилуа. – Наши дела никогда не кончаются. Когда вы вошли, мы уже приступили к завтрашним и пробовали найти в счетах ошибку, которая уже неделю не дает нам покоя.
Луицци скользнул взглядом по лицу красавчика Шарля и обнаружил, что тот не сводит с него глаз.
«Это любовник, – окончательно уверился барон, – и, конечно, инстинкт ревности уже внушил ему ненависть ко мне».
Последняя мысль пришпорила оседланные бароном желания, которые так разгорелись, что он поклялся себе дойти до конца, решив, что это вопрос его чести.
Задача, однако, оказалась не столь уж легкой, так как приказчик вовсе не собирался уходить; и как бы высоко вы ни ставили свои способности и как бы плохо вы ни думали о женщине, крайне трудно или, вернее, невозможно соблазнить ее в присутствии любовника. Тем не менее женщины найдут миллион доводов, лишь бы уступить мужчине, любовь и на четверть не является причиной их падений, а Луицци был вовсе не новичком, чтобы этого не знать. И потому он стал искать возможность намекнуть госпоже Дилуа на необходимость конфиденциальной беседы. В ответ на ее слова о нескончаемости дел он произнес:
– Сударыня, не смею настаивать; моим визитом я нарушил ваше домашнее уединение. Считаю это непростительным упущением и немедленно удалюсь, как только вы соблаговолите назначить мне час, когда вы сможете свободно выслушать мои предложения…
– Ну что вы, барон, я не могу затруднить вас еще одним визитом; вы же говорили, что не задержитесь в Тулузе надолго, и поскольку вы не дождетесь возвращения моего супруга…
– Сударыня! – прервал ее Луицци в том же тоне. – Мне нет нужды его дожидаться, ведь меня посвятили в тайну, что, договариваясь с вами, я буду иметь дело с настоящим главой этого дома.
– Сударь, я не совсем понимаю…
– С настоящим главой – в том смысле, что именно ваша воля, ум и превосходные качества составляют истинный капитал вашей фирмы.
– О да, вы абсолютно правы, – поддакнул Шарль, – госпожа Дилуа разбирается в делах не хуже первого купца Тулузы, и без нее дом Дилуа не достиг бы таких высот.
– То же самое мне сказала на днях госпожа Барне.
– Госпожа Барне! – воскликнули одновременно Шарль и госпожа Дилуа, которая добавила: – Так вы ее знаете?
– Господин Барне – мой нотариус; как-то раз я не застал его дома и имел удовольствие беседовать с его женой.
– А! Старая ведьма! – неприязненно пробормотал приказчик.
– Вы неблагодарны, молодой человек, – попрекнул его барон. – Она расписала мне вас в самых светлых тонах; настоящая хвалебная ода…
– Которую он вполне заслужил. – В голосе хозяйки прозвучала нескрываемая ирония.
– Может быть, но только не от нее, – многозначительно улыбнулся Луицци.
Госпожа Дилуа ответила смеющимся взглядом и поинтересовалась:
– Видимо, у вас с госпожой Барне была весьма продолжительная и содержательная беседа?
Что касается Шарля, то он ничего не понял; юноша лишь почувствовал, что в словах прятался какой-то намек, и помрачнел, поскольку смысл разговора ускользнул от него. Госпожа Дилуа снисходительно и ободряюще подмигнула ему:
– Думаю, Шарль, вы гораздо больше хотите спать, чем говорить о деле; идите же, мы завтра обсудим с вами спорные вопросы.
– Да, сударыня, – покорно ответил Шарль и поднялся; довольно неловко ухватив свою шляпу, он с грустным видом попрощался, повторив несколько раз:
– До свидания, госпожа Дилуа. До свидания, господин барон, доброго вам вечера.
Госпожа Дилуа проводила Шарля, освещая ему дорогу. Она вышла за дверь совсем ненадолго, но Луицци услышал, как они обменялись несколькими негромкими фразами. Когда госпожа Дилуа возвратилась, Луицци прислушался, но не услышал стука входной двери. Неужели Шарль спит здесь же, в доме, или он спрятался? Впрочем, это не являлось препятствием для барона; он уже почти уверился, что госпожа Дилуа принадлежит к тем женщинам, которые берут на себя организацию своих интрижек, знают, как устранить неугодного, как открыть дверь, как сделать дубликат ключей; наконец, к тем женщинам, что вносят в любовную связь присущую им во всем изобретательность и осмотрительность. Тем не менее, как только госпожа Дилуа вернулась на свое место, Луицци поспешил сказать ей самым проникновенным тоном, какой только смог придать своему голосу:
– Премного благодарен за то, что вы удалили этого молодого человека.
– Я вас понимаю; думаю, он был бы не столь сговорчив, как я, при обсуждении сделки, которую нам еще осталось заключить.
Она произнесла эти слова с едва уловимой улыбкой и сопроводила их столь выразительным взглядом, что Луицци даже смутился. Его теория о слабом поле представляла женщин всегда готовыми уступить, если только уметь их атаковать; на словах он всегда представлял их в самом невыгодном свете, но легко становился робким и почти всегда неловким, когда оставался с ними наедине. Армана вдохновляли иллюзии о собственной неотразимости, но в присутствии женщины сердце его по-прежнему трепетало; он почувствовал, что госпожа Дилуа может одолеть его своей кокетливостью, и, спрятав подальше свое смущение, воспользовался ее же игривым тоном:
– Вполне возможно, сударыня, что меня присутствие этого молодого человека заставило бы быть более неуступчивым при подписании договора.
– Но почему, сударь?
– О сударыня, – продолжал Луицци, – при всем моем расположении к вам я был бы крайне суров, и по многим причинам! Во-первых, при нем я бы не осмелился сказать вам следующее: делайте все, что вам угодно, я соглашусь на любые условия; а будь он здесь, мне пришлось бы торговаться, как на рынке… А во-вторых…
– Что, сударь?
– Когда рядом находится человек, чей вид раздражает и оскорбляет ваше самолюбие, в то время как у вас нет никакого права на обиду, когда завидуешь ему в том, за что готов заплатить любую цену, поверьте, не очень-то хочется быть щедрым и уступчивым; так лучше забыть того, кто мешает спокойно руководствоваться собственными чувствами.
Госпожа Дилуа слушала с предельным вниманием; она, без сомнения, прекрасно поняла смысл этой замысловатой тирады, но не подала и виду. Довольно заурядная, однако безотказная тактика, которую с успехом применяют как мужчины, так и женщины; такой образ действий вынуждает собеседника высказать гораздо больше, чем он осмелился бы; поэтому госпожа Дилуа ответила:
– Вы правы, сударь, Шарль не очень-то любезен; именно поэтому мы не доверяем ему общение с клиентами. Но меж тем он честный и чуткий мальчик.
– Сударыня, господин Шарль не нравится мне не потому, что я ваш клиент.
С трудом удержавшись от смеха, госпожа Дилуа посмотрела Луицци прямо в глаза и спросила, словно вызывая на ответ без утайки:
– Тогда почему?
– А вы не догадываетесь?
– Господин барон, да я и не хочу ни о чем догадываться! – Госпожа Дилуа не выдержала и рассмеялась откровенно-кокетливым смехом, происходившим то ли от крайней раскованности, то ли от совершенной наивности.
– Так вы хотите, чтобы я сам сказал вам все?
– А что, это неприлично слушать?
– Нет, но весьма трудно объяснить.
– Тогда давайте вернемся к нашим шерстяным делам, а то, вы знаете, я такая непонятливая…
– Главное – чтобы ваше сердце не страдало тем же недостатком.
– Сердце? Но разве сердце имеет отношение к нашим делам?
– Ваше – возможно, нет, но мое-то уж точно!
– Что, сверх мешков с шерстью вы положите еще и сердце? – улыбнулась госпожа Дилуа. Ее взгляд и голос были исполнены страсти, которая, впрочем, свойственна южанам в их повседневном общении с другими людьми.
Эта вроде бы простодушная фраза прозвучала так насмешливо, что Луицци был уязвлен и покороблен; но у него хватило остроумия, чтобы скрыть свои чувства и ответить в том же тоне:
– Нет, сударыня, уж если я его кому вручаю, то не задаром.
– И по какой же цене?
– По обычной. – Арман осмелел и нежно взял за руки госпожу Дилуа, бросив дерзкий взгляд на приготовленную постель.
– И какой же срок вы дадите для оплаты? – спросила она, не отнимая рук и не противясь.
– О! Платите немедленно, и наличными!
– Боюсь, у меня нет таких средств, а потому я вычеркиваю этот пункт из договора.
– О нет! Я буду стоять на своем: все или ничего.
– Хотите вместе с добротным товаром сбыть с рук плохой? – озорным тоном возразила она.
– Я, сударыня, не умею торговаться и отдаю хороший товар за сущую безделицу, лишь бы…
– Лишь бы оплатили плохой, – подхватила она, – и по цене…
– Несомненно гораздо меньшей, чем он стоит на самом деле, – галантно промолвил Луицци.
– Ой, я совсем не то хотела сказать! Право, я никак не могу согласиться… хватит, господин барон, вы сошли с ума… Я хотела только пошутить, а вы заманили меня в ловушку…
– Самый коварный капкан – это ваша красота.
– Тише, нас могут услышать… А вдруг кто-нибудь войдет? Что подумают, если увидят нас так близко?
– А что такого? Мы просто обсуждаем нашу сделку.
– О да! И она весьма продвинулась!
– Так вы поставите свою подпись?
– Разве женщина должна начинать?
Барон взял перо, расписался, затем, обернувшись к взволнованной госпоже Дилуа, чьи прикрытые глаза, казалось, не хотели смотреть на то, что она собиралась себе позволить, снова взял ее за руки и прошептал:
– Теперь я рассчитываю на вашу обязательность…
Госпожа Дилуа покраснела до корней волос, но все-таки игриво ответила:
– Пожалуйста, сколько угодно, ваша милость…
И подставила загорелую и зардевшуюся щечку.
Луицци слегка опешил, но все-таки поцеловал ее.
– Это далеко не все, – вкрадчиво прошептал он.
– Да вы что!!! – воскликнула госпожа Дилуа тоном должника, у которого требуют тройные проценты за кредит. – Что же вам еще нужно?
– Чуточку счастья…
– Что вы имеете в виду?
– Если муж где-то далеко… – Луицци опять взглянул на постель, словно уже чувствуя себя в ней хозяином.
– А если у служанки ушки на макушке?
– Ее отправляют спать.
– Можно подумать, она не заметит, кто и когда вошел или вышел.
– Совершенно верно; но, выйдя, можно потихонечку вернуться обратно.
– О, да вы, я вижу, опытный ловкач!
– Не без того…
– Ну что ж! Там… около двери есть калиточка…
– И она будет открыта, я правильно понял?
– Конечно, но, чтобы войти, нужно оказаться снаружи. Начнем же с этого.
– Но мы ведь закончим, не правда ли?
– Ах, барон! – вздохнула госпожа Дилуа, разыгрывая тяжкое замешательство.
– Да, конечно – да! – победно воскликнул Луицци. – Так гоните же меня, и быстрее!
Госпожа Дилуа прикусила губку, чтобы не расхохотаться, открыла дверь и позвала служанку. Девушка с лампой в руках проводила Луицци, который на прощание обменялся с прекрасной купчихой знаками полного взаимопонимания. Беседа завершилась на той грани между шуткой и розыгрышем, которую парижанин не может себе даже вообразить. Нужно родиться в южных краях, привыкнуть к острому языку и светящимся любовью лицам наших женщин, чтобы понимать: то, что практически везде расценивается как признание, у нас считается за невинную забаву. Луицци, как и всякий другой северянин на его месте, решил, что госпожа Дилуа принадлежит к тем одновременно деловым и любвеобильным женщинам, которые не прочь расслабиться после тяжелых будней, но из-за вечной занятости не хотят попусту тратить время на пути к удовольствию.
Луицци был очарован, он был даже благодарен госпоже Дилуа за то, что она прикрывала свое падение смехом и весельем, а не кислым лицемерием! Он вышел, обдумывая, как миловидна и вызывающе аппетитна эта купчиха, как кокетлива ее спальня и притягательно бела постель. Храм блаженства, даже любви! И Армана переполняли свежие чувства, почти влюбленность! Очутившись на улице, он услышал, как громыхают засовы и замки на большой двери. В этот момент его воображение, мало удовлетворенное столь легкой победой, разыгралось: «Это муженек выполняет свой долг! Вот уморительно! Да нет, это любовничек побеспокоился о защите своей драгоценной! Тоже оригинально, прямо скажем!» И разгоряченный собственными мыслями барон, меривший пустынную улицу уверенными широкими шагами довольного самим собой человека, громко захохотал. Ему ответил тонкий, сдержанный, но издевательский смешок, который прозвучал как будто над самым ухом Луицци. Он резко обернулся, посмотрел вокруг, затем наверх – никого. Тишина. Тем не менее этот смех смутил Армана: слишком своевременно он раздался, чтобы ничего не значить. Но откуда он послышался – Луицци так и не понял.
Он быстро подошел к дверце, словно возражая наглой усмешке: «Вот кто мне отплатит за эту шуточку». Но дверца не поддалась; впрочем, удивляться пока было нечему: он слишком недавно вышел из дома. Но прошло еще полчаса, барон уже продрог от ночной прохлады, а калитка и не думала открываться. Его грели только гнев и нетерпение: «Неужто меня одурачили? Или этой пухленькой торговке что-то мешает?» Еще долго он убеждал себя в последнем; все было против первого предположения: естественное мужское тщеславие, прошлые победы, недавняя интрижка с маркизой, но главное – поведение госпожи Дилуа, а также сведения, полученные от госпожи Барне и его собственные догадки о роли Шарля. Понадобилось еще какое-то время, прежде чем он стал наконец понимать, что над ним всласть позабавились, – пальцы Армана окоченели, избавив от лишней самоуверенности. Его выставили за дверь, и, возможно, этот господин Шарль следил за ним из-за штор и передразнивал его, зубоскаля. Барона неотступно преследовала картина: ведь речь шла уже не просто об обладании женщиной, а о том, что его, поводив за нос, оставили в дураках. Даже Гамлет не пришел бы в такое возмущение[56], как Луицци. И все-таки барон никак не мог поверить, что с ним сыграли настолько злую шутку; еще битый час гордыня сражалась с очевидностью. Самолюбие – страшный зверь, у него больше голов, чем у Лернейской гидры[57], и отрастают они вновь намного быстрее. Луицци перебрал все возможные варианты, прежде чем склонился к выводу, что госпожа Дилуа просто слегка пошутила, а еще через полчаса непредвиденный случай окончательно разрешил все его сомнения. Дверь внезапно распахнулась; барон ринулся к ней и столкнулся лицом к лицу с выходившим Шарлем. Оба невольно отступили на шаг и буквально озарили друг друга одинаково гневными глазами.
– Что-то поздновато вы решили нанести визит! – произнес Шарль.
– Не позднее, чем вы наконец собрались уходить.
– Вас ждут.
– Похоже, только после вас; но могу поклясться, милостивый государь, вам нечего опасаться.
– Что вы имеете в виду?
– Что надо было хоть разок, по случаю, уступить мне первое место.
– Как вы осмеливаетесь думать такое?
– Я не только думаю, но и говорю: хозяйка этого дома – любовница…
– Замолчите, заклинаю вас! – воскликнул Шарль, схватив Луицци за руку.
Барон резко высвободился негодующим движением:
– Вы что, сударь, ошалели? Или взбесились?
Презрение, с которым барон произнес последние слова, озлобило Шарля; он начал наступать на Луицци:
– Да знаете ли вы, кто я?
– Чурбан неотесанный! Еще смеет защищать эту…
– Сударь! – разъярился Шарль. – Замолчите! Знаете цену вашим словам?
– Так же, как вы цену на шерсть.
– Но я знаю и цену на свинец! И я вас с ней познакомлю!
– Дуэль? О нет, сударь! Я не хочу еще раз выставить себя идиотом.
– Берегитесь! Я сумею вас заставить!
– Ну-ну, попробуйте.
– Да-да! И раньше, чем вы думаете… Завтра утром я буду у вас.
– Всегда к вашим услугам.
Барон насмешливо склонил голову, и Шарль быстрыми шагами пошел прочь.
Едва он исчез, калитка приоткрылась, и послышался трепещущий голос госпожи Дилуа.
– Входите, входите, – тихонько шепнула она.
У Луицци возникло здоровое желание отказаться.
– Ради бога, входите же, – настаивала госпожа Дилуа.
Шарль был уже далеко, и барон решился войти. Госпожа Дилуа взяла его за руку. Бедная женщина вся дрожала; по потайной лестнице она провела Луицци к себе. Атмосфера почти невинного покоя в комнате испарилась, постель была смята. При свете единственного ночника Луицци разглядел, что госпожа Дилуа еще более раздета, чем в тот момент, когда он с ней расстался: ее тело прикрывал только ночной пеньюар, и спускалась она вниз босиком.
– Сударь, – заговорила она, – что я вам такого сделала, что вы стремитесь меня погубить?
– Погубить? Ну и что? – Луицци рассмеялся. – Не вижу в этом ничего плохого; в любом случае ваша погибель не на моей совести.
Луицци ожесточился; он уже праздновал победу – и вдруг такое унижение! Кроме того, он замерз и, чувствуя, что его обвели вокруг пальца, утратил всякую жалость.
– Неужели все, что мы тут наговорили друг другу ради забавы, вы приняли всерьез?
– А что, другие воспринимают это иначе?
– Другие? Да за кого вы меня принимаете, сударь?
– За очень даже миловидную женщину, которой очень нравится, чтобы ее любили.
– Вы в самом деле поверили, что я буду вас ждать?
– Да, действительно, я верил и надеялся…
– Хорошего же вы мнения о женщинах!
– Поверьте, сударыня, гораздо лучшего, чем они того заслуживают; ведь я считал, что вы будете одна…
– Как! Вы полагаете, что Шарль…