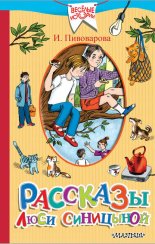Райский сад дьявола Вайнер Георгий

– Ладно, попробую их в ланч.
На лице официанта был написан ужас.
– Белые колбаски в ланч? Их едят только с утра.
– Тогда тем более дайте ноквюрст, – сказал Хэнк.
В философском кружке решались громадные проблемы. Бархатный голос доносился в угол к Хэнку:
– Существует только субъективная истина для отдельной личности… Сущность экзистенциализма – это вера в абсурд, это религия парадокса…
«Вот именно, – подумал Хэнк. – Жалко, что я не верю ни во что, даже в абсурд. А то бы я стал экзистенциалистом…»
Проповедник душил свинок именами, которые они до него сроду не слышали:
– …Кьеркегор, Хайдеггер, Кафка, они дали образцы того, как люди непроницаемы, одиноки и наглухо замкнуты…
Может быть, это хорошо?
Официант принес кофе и, не допуская мысли, видимо, что такую бадью можно выпить без молока, поставил большой молочник со сливками.
– Спасибо, – сказал Хэнк. – Теперь несите виски-бурбон, лучше «Фор роузис». Но айс, но вотер, но анисинг, бат дабл энд твайс…[1]
Этот парень внешне очень сильно напоминал ему Адониса Гарсия Менендеса, старого приятеля, когда-то бывшего у него вторым пилотом. С таким же прямым римским носом легионера. Хэнк, вообще-то, был уверен, что очень давно, когда людей на земле было совсем мало, жили они одной семьей. А потом неоправданно расплодились, распались единокровные роды, и разбрелись они по миру, потеряв навсегда своих братьев и сестер.
Официант принес виски. Он все-таки был похож на Эда Менендеса, как однояйцевый близнец. Но штука в том, что Адониса Гарсия Менендеса было невозможно представить с подносом в руках, обслуживающим других, – он сам был везде главным гостем и хозяином застолья. Наверное, в той старой, очень давно растерявшейся семье Менендес и официант-итальяшка не были близнецами. Адонис наверняка был старший, боевой, бандитский брат, а официант избрал для себя сытую, спокойную участь обслуги.
Хэнк в один присест выпил двойной бурбон, запил обжигающим кофе, чиркнул своим потертым «Зиппо», закурил сигарету, и через несколько секунд пришла приятная расслабуха.
Проповедник под взволнованные вздохи своих датских свинок-пенсионерок вещал угрожающе:
– …Экзистенциалисты – одинокие волки, гомеостаты, пустынники… Им свойствен крайний индивидуализм, они по природе своей интроверты и склонны к аутизму…
Хэнк с интересом прислушался – кажется, этот ученый дурак рассказывает о нем. Вот его дружок Эд Менендес не подходит ни под одно из определений экзистенциалиста. Нет! Нет! Он был совсем другой парень. Эда подсадили в экипаж к Хэнку, когда довольно сильно подранили его неразлучного друга Кэвина Хиши, по прозвищу Кейвмен – Пещерный Человек.
Хэнк любил Хиши. Молодой, яростно-рыжий ирландец, лютый в пьянке, в бою и в молчанке. Здоровенный, в длинных патлах медных волос, всегда молчащий – одно слово, пещерный прачеловек. Он был из бедной семьи, отец Хиши когда-то служил шерифом в безымянной техасской глухомани. Однажды старик какого-то негритоса пристрелил не по делу, то ли придушил его – мол, у негров слабые шейные позвонки, в общем, что-то там произошло, газетчики раздули – и его выперли из полиции. Доживал без пенсии, а работать не хотел принципиально.
Слушая невнятный рассказ Хиши о случайном непреднамеренном удушении вооруженного негра, Хэнк спросил:
– А папаша твой был такой же верзила, как ты?
Хиши вздохнул:
– Он был настоящий мужчина. Папаша был в нашем графстве чемпионом по армрестлингу… Ось от грузового «форда» руками гнул…
Может, папаша Хиши думал, что негритянская шея крепче фордовской оси?
Нехорошо, несправедливо обошлись с ветераном полиции – спился от этого и нищенствовал.
Короче, его второй пилот – сынок Хиши, Кейвмен, – ненавидел всех их узкоглазых врагов, их союзников, власть в Вашингтоне, начальство в Сайгоне и, похоже, товарищей – всех, кроме Хэнка.
Однажды Хэнк спросил его:
– А зачем ты приперся на эту дурацкую войну?
Хиши долго думал, чесал меднопроволочную тыкву:
– Я не хочу больше быть бедным… Мой папаша не мог оплатить мне учебу. Отобьюсь я здесь еще полтора года… Вернусь – мне положено бесплатное обучение… Окончу университет… Буду жить как остальные жирные коты… Куплю новый «мустанг»…
– А если убьют? – спросил Хэнк.
– А чего это меня убивать? – удивился Кейвмен. – Да и все равно – когда-то ведь нужно умереть… Раньше – позже… Не имеет значения…
При взлете с диверсионной базы в Долине кувшинов, куда они возили на «Сикорском» оружие, боеприпасы и ящики с пугающей надписью «Взрывчатка», какой-то шальной вьетконговец бросил в открытый люк вертолета гранату. Машина почти не пострадала, Хэнк мгновенно довернул ее чуть-чуть и размозжил посадочной «лыжей» вьету голову. Кейвмену вырвало осколком из задницы фунта два мяса.
Хэнк выл от ярости – доктора, конечно, на базе не оказалось. Какой-то полупьяный рейнджер помог ему срезать с Хиши портки, в ужасающую рану налили полбутылки виски – остаток допил рейнджер, засыпали каким-то порошком антибиотика, кое-как замотали сочащуюся кровью яму в ягодице, и Хэнк полетел назад.
Господи, какой распад и разгильдяйство вокруг! Это же надо – охрана подпустила партизана вплотную к вертолету обеспечения! А если бы они еще не разгрузились и граната угодила в ящики со взрывчаткой? А может быть, вьет и не был партизаном, а служил нашим надежным союзником в армии доблестного Нго. Они нас там все одинаково ненавидели…
Рана Хиши была не тяжелая – не в кость, а в мясо, но очень болезненная. А главное, как бы неприличная – никому показать и похвастаться нельзя – засмеют. Получил от косоглазого настоящий «кик ин ас» – пинок в жопу.
Хэнк пришел навещать его в госпиталь и весело спросил:
– Ну, как твоя жопа?
Хиши совершенно серьезно ответил:
– У меня ранение не в жопу…
– Ага, понятно, – кивнул Хэнк. – У тебя черепно-мозговая травма…
– Нет, – так же серьезно сказал Хиши и взял с тумбочки листок, на котором было написано что-то по-латыни. Медленно шевеля толстыми губами, прочитал: – Тяжелое проникающее ранение в «мускулюс глютеус максимус»… Понял? В максимус! А не в жопу…
Кейвмен со своим рваным «глютеусом максимус», именуемым до ранения просто жопой, выбыл из строя надолго. Тогда Хэнку дали Эда Менендеса, беглого кубинца, весельчака, болтуна, анекдотчика, страшного бабника и неукротимого певца – он если не трепался, то все время пел свои чудовищные кубинские песни, все – с обязательным припевом: «Ай-яй-ай-яй». И подмяукивал, сука, как гавайская гитара.
Хэнк мрачно раздумывал, как-то они попоют в воздухе. Перед первым же полетом Хэнк мягко сказал ему:
– Если в воздухе ты, кубинская радиола, откроешь хоть раз рот, я тебя выкину из вертолета…
Официант принес яичницу – воздушный нежный «скрэмбл» и коричнево-розовые поджаристые сосиски. Горячие хрусткие булочки мгновенно впитывали масло и на глазах желтели.
– Принеси еще «Дэниэлса»… Три двойных, – велел Хэнк.
– Сразу? – вежливо переспросил итальянец, похожий на Эда Менендеса.
Нет, официант смахивал на Эда только внешне – Эд никогда бы такой глупости не спросил. Если есть выпивка – то всю! И сразу! Дабл! Твайс!
– Ладно, – вздохнул Хэнк. – Заходи на цель с интервалом в пять минут…
Приятное тепло уже разливалось по всему телу. И даже драматический голос пастыря пожилых датских свинок больше не отвлекал Хэнка – выпитое виски действовало, как ватные затычки в ушах.
…В первом же полете Эд удивил Хэнка быстротой, хваткостью, ловкой осторожностью, уверенным спокойным пилотированием и полным хладнокровием. Но главное – он молчал. До приземления. А там уж изверг взрыв шуток, баек, вранья, хвастовства и кошмарных песен. И сразу же: «Хэнк, нельзя терять ни минуты – в бардак! Пьем и трахаемся с нашими милыми обезьянками до утра!» И Хэнк решил твердо: парень живет правильно. Пошли в бардак и программу Эда перевыполнили: пили по-черному, беспамятно ласкали гладеньких прохладных азиаток, щебечущих что-то птичье, потом долго и лениво дрались с улетающими в Штаты пехотинцами и под утро возвращались в казармы тяжелые, как танкеры в грузу, залитые до носовых клюзов перегорающей выпивкой.
А потом вернулся из госпиталя Кейвмен, и пьяный Эд горько плакал, расставаясь с Хэнком. Не балагурил, а только пел печально «О, ченита кеси», припевая с отчаянием: «Ай-яй-ай-яй…» Но быстро утешился – его назначили командиром одной из вновь прибывших на пополнение тяжелых «вертушек».
В семьдесят четвертом году Эд демобилизовался, уехал к своей родне в Майами. Время от времени присылал веселые открытки Хэнку. Иногда – фото, всегда в кабаках или на пляжах, обязательно с толпой хорошеньких смуглых девок. Писал, что купил прачечную…
А с Кейвменом летали до последнего дня, когда их сбили. Они попали в разные лагеря для военнопленных, и больше им увидеться не довелось. Уже в Сайгоне Хэнк слышал, что Кейвмен освободился – его обменяли на какую-то большую вьетконговскую шишку, и Хиши возвратился домой. Наверное, поступил в университет и стал учиться на жирного кота.
…Хэнку было здесь, в углу полупустого кафе, уютно, тепло и тихо. Его уже морила послепохмельная дремота.
– Мы существуем одни в скорлупе наших забот и огорчений, – доносилось до него еле слышно, учитель совершенно благостных бабок не унимался, – наверное, хотел их напугать пыткой одиночества, а они и не подозревали, что в мире есть пустыня души.
«Мне кажется, что этот болтун покушается на их счастье, им ведь хорошо в их прекрасном неведении, – раздумывал Хэнк. – Господи, как мне не хватало людей, когда я проваливался, как в шахту, в бездну своих несчастий. Никого не было, и от этого мои страхи казались мне еще ужаснее.
Нет руки, нет здоровья, нет больше друзей, а семьи никогда и не было. Нет денег, нет будущего. Огромное НЕТ висело над головой, как дубовая решетка над ямой, в которой меня держали проклятые косоглазые.
Много позднее я понял, что в беде не бывает помощников, нет избавителей. Вместе люди живут только на радостях. Горюем – поодиночке. Если выползешь, вырулишь из этой пропасти сам – станешь человеком-зверем, ничего потом не страшно. Домашние, стойловые животные не выдерживают – ломаются, превращаются в мусор, людскую падалицу, медленно, тухло дохнут…»
…Хэнк провалялся по госпиталям четыре месяца, и его страшно мучили жуткие боли в несуществующей, давно ампутированной руке. Он привыкал обходиться одной рукой, и это было невыносимо. Хэнк не представлял себе раньше, какое это счастье – уверенно махать обеими лапками! С этой противной багровой культяшкой он как бы потерял свободу везде, во всем – в драке, в любви, в еде, джинсы застегнуть стало заботой.
И больше фантомных болей в руке его мучила огромная тоска, бездонное отчаяние, которое ученые дураки – армейские психологи – называли посттравматическим стрессом с последующим тяжелым депрессивным синдромом.
Его отправили в клинику полевой ортопедии, в главный военный госпиталь на Окинаву. Здесь сделали Хэнку протез – бутафорский пластмассовый муляж руки мерзкого желто-розового цвета. Хэнк стеснялся носить на людях эту телесного окраса гадость и с тех пор никогда не снимал светлых тонких перчаток.
Он возвратился обратно в Сайгон – ехать в Штаты побоялся, там ему не было места. А здесь уже безнадежно проигранная война подходила к концу, и в этом огромном галдящем, стреляющем, перепуганном, пьяном городе, похожем на горящий бардак, Хэнк чувствовал себя спокойнее.
Конечно, ни о каких полетах речи не шло, но он был герой, звезда, и его взяли на какую-то пустую должность в штаб ВВС. Распад и гульба на пепелище стали нормальной жизнью – никаких обязанностей, полно выпивки, дешевых проституток, китайского опиума.
Хэнк пристрастился ходить на собачьи бои. Схватки – до смерти. Кровоядные кошмарные псы, в пене, с хрипом и стоном рвали друг друга молча, никогда они не гавкали, не скулили, умирали молчаливо-злобно, и Хэнку казалось, что они тоскуют перед окончательной тьмой не от страха и боли, а от предстоящего последнего позора – у загородки уже стоял наготове мальчишка с тележкой из кхмерского ресторана, куда отволокут сейчас еще теплого бойца, и за ночь он будет разъеден на стейки «велл-дан» и пряное рагу. А утром косоглазые узкопленочные гурманы прокакаются, и собачка уйдет навсегда – из дерьма к новой жизни не возрождаются…
Хэнк ходил во всеобщих любимчиках и легендарных героях – нужны были плакатные храбрецы-образцы. Еще в госпитале ему дали Серебряную медаль конгресса и таскали на всякого рода показательные гульбища. Из-за этой глупости и начались все приключения Хэнка Андерсона.
В Сайгоне ждали министра обороны США. Несмотря на то что фронт трещал по всем швам, а вьетконг уже бушевал в пригородах, местное начальство надувалось до выпадения кишки – устраивали шоу торжественной встречи не хуже, чем церемонию вручения «Оскаров». Отобрали наиболее геройских офицеров в почетный караул, и, естественно, в эту толпу ряженых попал Хэнк.
Репетицию принимал сам командующий авиацией во Вьетнаме генерал Весли Роу. Когда свита дошла вдоль строя до Хэнка Андерсона, Весли одобрительно похлопал его по плечу и, повернувшись к холуям, добро сказал:
– Что-то у этого тощего мало орденов… Дайте ему что-нибудь…
И тотчас же какой-то адъютант выхватил из чемодана и прицепил Хэнку на мундир еще одно «Пурпурное сердце».
То ли Хэнк не успел опохмелиться с утра, то ли адъютант неловко дотронулся до еще не зажившей культи, то ли полыхнул острый приступ фантомной боли в сердце, то ли просто моча ударила в голову. «Боже, какой я мудак! – с отчаянием подумал он. – За такие бляшки-медяшки, которых у этого гладкого хлыща полный чемодан, я потерял здесь товарищей, свою руку, искалечил свое будущее, стал злым пьянчугой, потерял себя самого!»
А блестящая, восторженно гудящая свита, довольная тем, что хорошего парня не забыли, не обидели, уже шагала дальше, намечала, кого еще наградить, чтобы и он порадовался, и министр остался доволен.
И тогда Хэнк заорал на все взлетное поле тонким злым голосом:
– Эй, вы там!..
Генералы замерли, свита остановилась, медленно, удивленно поворачивалась к нему вся эта золотовышитая толпа. Хэнк сорвал орден и швырнул в них, заорал, срывая глотку:
– Подавитесь вы всем этим!.. Пропадите пропадом!..
Вышел из строя. Два шага вперед, поворот через левое плечо. И ушел.
Немота. Тишина, как после бомбежки. Ужас штабных – что делать? Бунт! Хватать? Волочь?
Генерал Роу, опытный вояка, первым вылез из воронки от взрыва:
– Пресса есть здесь?
– Никак нет!.. Был приказ никого из писак до окончания репетиции на базу не пускать…
Генерал вздохнул, грустно покачал головой:
– Больной парень совсем… Нервный срыв… В госпиталь его…
И зашелестела радостно, облегченно генеральская обслуга – хозяин повернул жуткий скандал в русло печального эпизода войны. Ветерок разносил по полю: «Стресс… Стресс… Стресс…»
Наверное, все это и рассосалось бы бесследно – никому громкий скандал перед приездом министра был не нужен.
Но, видно, Хэнк уже вдел ногу в стремя своей сумасшедшей судьбы – понесло! Его не успели перехватить и водворить в госпиталь, потому что прямо на поле он подсел в чей-то попутный джип и направился в бар «Камбодия», где встретил давнего дружка Тома Галлауэя – из управления стратегической связи.
Том где-то украл ящик антигуанского рома «Пуэрто». А у Хэнка был стресс – все видели! Коричневые бутылки в деревянной коробке стояли у ног Тома, как в снарядном ящике. Страшная выпивка – этот ром доливали в бензобак, когда кончалось горючее в джипе.
На выскобленном дощатом столе немо таращилась на них пучеглазая сырая рыба телапия.
Видно, удивлялась их идиотизму.
Резали финками рыбу, ломти мочили в соевом соусе, лениво закусывали, хрустели жареными лягушками и пили темный ром, и его чернота перетекала в их мозги, и приятели, медленно безумея, быстро зверели.
Том уговаривал Хэнка не грустить, плюнуть на все, катить в Штаты, забыть все как страшный сон.
– Конечно, на свою пенсию ты не забогуешь, но у тебя же должны остаться приличные деньжишки… – успокаивал Том.
– Ага! – заорал Хэнк. – Я тут заработал сумасшедшие деньжищи!.. Где они? С чего взялись?..
Он бешено таращился на Тома, как искромсанная телапия на столе.
– Все прогулял? – удивленно смотрел на него Том. – Все черные бабки?..
– Какие черные бабки? – пучился Хэнк, и зеленая терраса бара кружила его, как карусель. – Ты о чем говоришь?
Том испуганно закрыл рот, медленно спросил:
– А ты что, был не в доле?
– В какой доле? – завопил пронзительно Хэнк. – О чем ты говоришь, идиот несчастный?
Том помолчал, зажевал лягушачью лапку, растерянно пожал плечами:
– Тогда идиот – ты… Попроси генерала Шеппарда, чтобы он тебе выплатил вторую пожизненную пенсию… У него хватит…
– Почему? – удивлялся Хэнк.
– А что вы с Кейвменом возили на территории Патет-Лао? За линию фронта? – спросил Том.
– Что? – не понял Хэнк. – Все! Оружие, боеприпасы, продовольствие… Что хочешь возили… Мы свиней даже возили…
Том грустно расхохотался:
– Ты, Хэнк, ничему не научился и ничего не понял…
– Что? Что я должен был понимать? – бесновался Хэнк.
– Что все это дерьмо никому не нужно… Все оружие досталось вьетконговцам, а боеприпасы расстреляли просто так… А главное, что вы возили, были ящички… Написано «Взрывчатка». Возили?
– Да, возили, – подтвердил Хэнк.
– Вот в этих ящичках была действительно самая сильная в мире взрывчатка, – бубнил настойчиво Том. – Это сырец опиума… Десятки килограммов для наркокухонь… Тех, что на нашей контролируемой территории… Китайским опиумным поварам…
Хэнк долго тупо смотрел на Тома, потом медленно сказал:
– Ты все врешь… Этого не может быть…
Том махнул рукой:
– Да перестань! Ты, оказывается, просто дурак…
Замкнуло. Дымная муть сивухи заливала его глаза свинцовой слепотой.
Бог весть как бы все пошло в жизни, если б на крошечном пятачке времени не сошлось столько случайностей. Если бы не было репетиции дурацкого парада, если бы не оскорбление-награждение, если бы Том не украл ящик рома, если бы не так давила влажная духота и если бы начальник интендантской службы генерал Шеппард не задержался на работе дольше обычного.
Сошлось.
Опрокидывая снарядный ящик с ромом, Хэнк выскочил из-за стола и помчался к штабному бараку. Потерял по дороге пилотку, глаза налиты кровью, как йодом, лицо, опухшее от тяжелого рома, растерзанная на груди парадная форменка с бренчащими орденами – видок, в общем-то, хай-класс!
Шеппард выходил из штаба, усаживался в машину.
Сильно качнувшись, Хэнк схватил его за шиворот:
– Эй ты, сволочь!.. Чертов пастырь!..[2] Что было в ящиках взрывчатки?
Шеппард, еще молодой, тренированный скот, не сильно испугался. Отшвырнул не стоящего на ногах Хэнка, повернулся к охране у дверей штаба:
– Посадите этого пьяного кретина в карцер…
Морские пехотинцы бросились к ним. Хэнк был пилотом – пускай пьяный, пускай однорукий, почти сумасшедший, но реакция-то у него была летная, не чета этим толстым земляным лентяям. И прежде чем его повалили на мокрую жирную красную землю – подпрыгнул, рванулся вперед, лбом ударил в плоскую генеральскую морду, мгновенно залившуюся густой алой жижей – как из лопнувшей банки кетчупа «Хайнц».
Хэнка отработали в военном суде на Окинаве, приговорили строго – исключить из армии, лишить воинского звания, всех наград и пенсии.
Окаменение души.
В сердце Хэнка не было ни боли, ни обиды, ни досады. Холодная злоба, испепеляющая больше всего себя самого…
Злоба не утихала, не смягчалась, не меркла – горела она в нем ровно, спокойно, негасимо, превращаясь постепенно в единственную реакцию на окружающий безумный и равнодушный мир…
18. Нью-Йорк. Департамент полиции. Полис-плаза, 1. Стивен Полк
– Что ты хочешь от меня? – обреченно спрашивал Драпкин.
– Задавись! – коротко объясняла Эмма.
– Хорошо, – покорно соглашался Драпкин. – Если это сделает тебя счастливее…
– Я буду счастлива, если ты сделаешь меня вдовой, – уверенно пообещала Эмма и обернулась за сочувствием и поддержкой к Полку: – Посмотрите на этого пионера Дальнего Запада! И он повез меня сюда за лучшей жизнью…
Полк не мешал им переругиваться – в извивах и поворотах скандала, как в гостиничных коридорах, возникали все новые люди, составлявшие ареал обитания боевого Вити Лекаря, валявшегося сейчас в застегнутом черном пластиковом мешке в морге больницы округа Кингс.
Имя Левона Бастаняна всплыло в перебранке недавно, и Полк своей обостренной звериной интуицией ловца почувствовал мускусный запах греха и пакости.
– …Чем, вы сказали, он занимается? – переспросил Стив.
– Он артдилер. Торгует картинами, фигурками, антиквариатом разным… – уныло говорил Драпкин и качал своей серой головой, будто посыпанной прахом и пылью. – Я не знаю, чем он там еще торгует…
– Где – там?
– В Сохо. У него галерея в Сохо. Рядом с Гринич-Виллиджем…
– А зачем к нему ездил Лекарь?
– Я знаю? Что он, обсуждал со мной свои гешефты? Сказал: «Поехали» – мы поехали…
– Адрес галереи помните?
– А то! Мы ж туда не раз ездили. И не два…
– А сколько? – уточнял Полк. – Десять? Двадцать?
– Наверное, двадцать… Я считал? Это же ведь все давно происходит…
– Зачем Лекарь ездил к Бастаняну? О чем они говорили? – потихоньку напирал Полк.
– Что вы меня спрашиваете? – удивился-испугался Драпкин. – Откуда мне это знать? Они что, по-вашему, меня на переговоры приглашали?
– Тогда почему Лекарь вас брал с собой?
– Чтобы я шоферил за баранкой…
Полк вспомнил, как Лекарь удирал от полицейской погони, и невольно усмехнулся:
– А вы водите машину лучше Лекаря? – Ему вообще показалось удивительным, что Драпкин умеет водить автомобиль.
– Ха! Взгляните на этого автогонщика! – не утерпела Эмма. – Ему надо ишаком управлять, а не «мерседесом»!
Презрительно покачала головой, потом спросила Полка с надеждой:
– Кстати, а что с «мерседесом»? Витя его совсем разгваздал?
– Боюсь, что совсем, – разочаровал ее Полк, вспомнив расплющенный, спрессованный, раздавленный кузов лимузина, который резали автогеном, чтобы выволочь из кабины искромсанные останки Лекаря. А чемоданчик с зубами, валявшийся между сиденьями, даже не помялся.
– Ах, какая шикарная была тачка, – печально вздохнула Эмма. Видно было, что с разгвазданной шикарной тачкой ее связывали очень сильные воспоминания.
Драпкин, деликатно потупясь, спросил:
– Можно, я закурю одну сигарету? Вообще-то, я не курю, но сейчас, признаюсь, я очень волнуюсь…
Полк протянул ему пачку «Парламента», чиркнул зажигалкой.
Драпкин лихорадочно затянулся несколько раз и, заглядывая снизу в глаза Полку, сказал:
– Обратите внимание, она меня презирает даже за то, что я не мог расколотить вдребезги «мерседес» так, как управился этот бандит. Но водил я машину, конечно, хуже его…
– Зачем же вы ему были нужны?
– Там днем нельзя припарковаться – нет мест. Лекарь уходил к Бастаняну на час, на два, а я сидел за рулем – вторым рядом у тротуара, как говорится, дабл-паркингом. Если приезжал полицейский, он сгонял меня, и я круизировал вокруг квартала, потом возвращался к подъезду…
– Подумайте, Драпкин, внимательно, прежде чем отвечать, – это важно. Лекарь привозил Бастаняну какие-нибудь вещи? Или забирал у него что-либо?
– И привозил, и забирал, – уверенно ответил Драпкин.
– Что это были за вещи?
– Какие-то свертки, пакеты, чемоданчики, сумки. Или картины. – Драпкин на миг задумался и повторил: – Да-да, я уверен, что это должны были быть картины. Небольшие упакованы в картон или бумагу, а покрупнее – свернуты в цилиндрические рулоны…
– Вы думаете, что это были холсты без рамы?
– Я не могу этого утверждать! – прижал руки к груди Драпкин. – Я ни разу не видел сам холст. Эти рулоны были завернуты в пластик. Но мне кажется, что они пахли пылью и краской…
Полку казалось, что от самого Драпкина пахнет ацетоном – запахом страха и отчаяния. Несчастный урод. Яйцерожденный. Куриное яйцо, попавшее в гнездо стервятников.
Отворилась дверь, Джордан пропустил в кабинет детектива Конолли, а сам поманил пальцем Полка в коридор. Стивен взял свой бумажный стаканчик с остывшим кофе, прихлебнул – противная кислая бурда, с отвращением поморщился и сказал Конолли:
– Потолкуйте с супругами еще о друзьях ушедшего от нас навсегда мистера Лекаря… Среди них было много людей замечательных и, главное, очень интересных для нас… – И отдельно обратился к Эмме: – Вспоминайте, пожалуйста, все о ваших друзьях…
– Ха! – сразу же возникла Эмма Драпкина и передразнила Полка: – «Дру-зья!» Тоже мне друзья! Таких друзей – за хрен и в музей!
Подошедшая переводчица на ходу дожевывала сахарный пончик «донатс», утирая салфеткой губы.
– Это переводить инспектору Конолли? – деловито осведомилась она.
– Это можете не переводить, – усмехнулся Полк. – Конолли имеет представление о взглядах миссис Драпкин на дружбу и любовь.
– А что, не так? – подбоченилась Эмма. – Какие друзья? Что за лепет? Друзья нужны в молодости, когда ты глуп и беден. А серьезному мужику друзья – только обуза! Не было у Вити друзей.
Полк рассмеялся:
– Вы мне положительно нравитесь, миссис Драпкин. Я даже жалею, что не познакомился с вами раньше, до Лекаря…
– А вам что, Витя Лекарь мой борщ перебаламутил? – покачала головой Эмма. – Поверьте, вкус не испортил…
– И не сомневаюсь! – заверил Полк. – Хочу открыть вам страшную тайну – сегодня в нью-йоркских тюрьмах содержится шестьдесят восемь тысяч двести сорок шесть человек. Боюсь, к завтрашнему утру эта внушительная цифра увеличится еще на одну весьма приятную даму. Так что мне не суждено оценить вкус вашего борща. Поэтому вы думайте, вспоминайте, говорите детективу Конолли как можно больше. Вам уже давно пора во весь голос «петь» – или, как говорят ваши земляки, «колоться»…
И, не слушая ее отчаянно-яростного клекота, пошел из кабинета.
– Баллисты дали заключение, – сказал Джордан. – Парень, убитый днем в лифте аэропорта Джей-Эф-Кей, расстрелян из пистолета Лекаря, из того «ругера», что у него вытащили из живота после катастрофы. Лекарь врезался в грузовик в два тридцать пять, а убитого обнаружили в лифте приблизительно в два двадцать.
– На той скорости, что мчался Лекарь, времени у него было достаточно, – кивнул Полк. – Вы с русской милицией связались?
– Мы послали запрос в Москву, в их МВД. Но они никогда не торопятся с любыми бумагами, – махнул рукой Джордан. – Застреленного по документам зовут Сергей Ярошенко, ему двадцать семь лет, прибыл по гостевой визе, на теле две татуировки и след огнестрельного ранения приблизительно годовалой давности…
– Кто приглашал в гости?
– Или во въездной анкете ошибка, или таких людей нет в природе…
– Запрос в наш консулат в Москве? Там должен быть официальный бланк приглашения – с печатями и заверениями.
– Уже ушел, – вздохнул Джордан. – Но сейчас все эти бумажки – кусок дерьма. За сто долларов на Брайтоне тебе изготовят удостоверение директора ФБР или верительные грамоты посла в Одессе – совершенно настоящие.
– Не жалуйтесь, Джордан, это нормальные издержки свободы, – засмеялся Полк.
Джордан остановился и посмотрел на него в упор своими выпуклыми бычьими глазами:
– А почему вы решили, что я такой большой ценитель свободы? По мне, ее и здесь, у нас, с избытком. Но почему мы должны расплачиваться за свободу этих кровожадных хулиганов – вот этого я никак не пойму!
– Дорогой лейтенант Джордан! – очень серьезным тоном начал Полк. – Еще в университете мне вдолбили, что свобода есть понятие неделимое. Но если кто-нибудь из твоих копов услышит, что в три часа ночи мы спорим о природе свободы, он справедливо скажет, что мы оба идиоты, и ты потеряешь авторитет. Поэтому давай спустимся, дернем по паре стаканчиков, пожуем и решим, как жить завтра…
19. Москва. Ордынцев. Морг
Хирург Фима Удовский, громадно-толстый, как африканский слон, сказал снисходительно-строго:
– Не жалуйся… Жизнь вообще очень вредная штука. От нее сначала устают, потом болеют, в конце концов умирают. Или – убивают…
– Хорошенькая философия! – хмыкнул я.
– Мне по-другому нельзя, – пожал он необъятными плечами-подушками. – У меня работа такая. Адаптировался. И хочу заметить тебе: ни один хирург не берется оперировать близкого человека…
Мы шли по внутреннему скверу института Склифосовского к двухэтажному белому корпусу с закрашенными стеклами – патолого-анатомическому отделению. Попросту говоря – морг. Последний земной дом Валерки Ларионова.