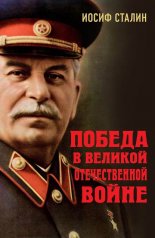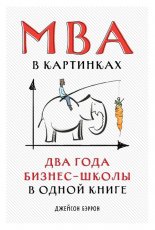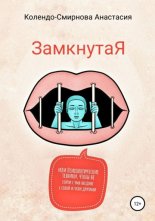Дом на краю света Каннингем Майкл

— Меня зовут Джонатан Главер, — представился я.
— А меня… меня Бобби Морроу.
— Адам Бяло… — нерешительно произнес Адам, словно и сам не вполне верил в возможность существования такой фамилии. Это были его первые слова за все время.
— Еще увидимся, — сказал я.
— Ага. Да, старик. Увидимся.
Когда он повернулся, я заметил линялый синий глаз, нашитый сзади на его куртку.
— Чудной, — сказал Адам.
— Угу.
— А я думал, ты всерьез решил больше не врать. Ведь ты поклялся.
Так оно и было. Мы обменялись клятвами. Я поклялся не выдумывать больше своих историй, а он — не инспектировать без конца свою одежду в поисках несовершенства.
— Это была сказка. А сказка не то же самое, что вранье.
— Ты сам чудной, — сказал Адам, — не лучше его.
— Возможно, — ответил я не без некоторого удовлетворения, — очень может быть.
— Да тут и сомневаться нечего.
Какое-то время мы наблюдали за тем, как синий глаз, уменьшаясь, исчезает в глубине бежевого коридора.
— Чудной, — еще раз сказал Адам.
В его голосе звучало подлинное возмущение. Правила чистоты и скромности касались всех и должны были соблюдаться неукоснительно. Одной из привлекательных для меня черт личности Адама была его безрадостная, но, очевидно, добровольная готовность оставаться в тени. На фоне его размеренности и осмотрительности я оказывался гораздо большим авантюристом, чем это было в действительности. В его обществе я был рисковым малым. Во время наших редких и, прямо скажем, не слишком опасных совместных «приключений» я всегда воспринимал Адама как некий гибрид Бекки Тэтчер с Санчо Пансой, а себя чем-то вроде Гека Финна и Тома Сойера в одном лице. Купание голышом или украденная плитка шоколада, по мнению Адама, заставляли усомниться в незыблемости тех самых границ, которые я как раз и мечтал нарушить. Адам помогал мне приблизиться к моему собственному романтическому идеалу, хотя в последнее время я стал несколько трезвее оценивать всю ничтожность наших криминальных эскапад и сильно подозревать, что он едва ли последует за мной в более глубокие воды.
На следующий день в кафетерии мы опять столкнулись с Бобби. Он ждал нас, вернее сказать, вновь очутился в очереди рядом с нами. У него был особый талант: все, что он делал, представлялось случайностью. Вся его жизнь могла оказаться цепью нечаянных совпадений. Все складывалось как бы само собой, помимо его воли. Но так или иначе — он снова стоял за нами в очереди.
— Здорово, — сказал он.
Сегодня его глаза были еще краснее, взгляд — расфокусирован.
— Здорово, — отозвался я.
Адам наклонился, чтобы отцепить ниточку, приставшую к манжету его вельветовых брюк.
— День номер два, — сказал Бобби. — Осталось всего полторы тысячи. Да-а.
— Нам правда осталось учиться полторы тысячи дней? — спросил я. — То есть это что, реальная цифра?
— Угу. Ну, может, один-два дня туда-сюда.
— Ничего себе! Значит, два года здесь, четыре — в старших классах, четыре — в колледже… Да-а… Полторы тысячи дней!
— Нет, старик, колледж я не считал.
Он улыбнулся с таким видом, словно даже мысль о колледже была чем-то грандиозным и немного абсурдным, вроде видения колонизатора: серебряный чайный сервиз в джунглях.
— Ясно, — сказал я.
Снова повисла пауза. Снова, презрев демонстративное невнимание Адама, вновь сосредоточившегося на начале очереди, где краснощекая буфетчица выдавала какие-то коричневые треугольнички под коричневым соусом, я начал молоть языком. На этот раз я рассказывал о неком экспериментальном университете, в котором обучали технике выживания в современном мире: как путешествовать, если у тебя в кармане ни гроша; как исполнять блюз на фортепьяно; как отличать подлинную любовь от неподлинной. Ничего сверхоригинального! Я, в общем-то, не был каким-то особо одаренным выдумщиком. Не слишком рассчитывая на силу вдохновения, я пользовался приемом «заговаривания» слушателей, громоздя нелепицы одну на другую, по примеру комика Граучо Маркса. Мне казалось, что само количество изобретенных фактов не может не придать рассказу некоторой убедительности.
Бобби слушал, не подвергая сомнению ни единого слова. Он не настаивал на отделении более или менее вероятного от совершенно несуразного. Глядя на него, можно было подумать, что все земные реалии — начиная от половинок персика, плавающих в янтарных лужицах сиропа, которые выдавали в школьном кафетерии, и кончая моим рассказом о колледже, посылающем своих студентов на неделю в Нью-Йорк без единого цента в кармане, — в равной мере удивительны и забавны. В ту пору я не мог еще до конца оценить состояние человека, выкуривающего больше четырех косяков в день.
Слушая, Бобби улыбался и периодически произносил что-нибудь вроде «Ага» или «Ого».
Мы опять сели за один стол, а потом он снова проводил нас на урок математики.
Когда он ушел, Адам сказал:
— Знаешь, я ошибся вчера. Ты еще чуднее его.
Меньше месяца понадобилось нам с Адамом, чтобы убедиться, что от нашей детской привязанности осталось одно воспоминание. Мы попробовали было спасти нашу дружбу, потому что, несмотря на взаимные попреки и недовольство, когда-то и вправду искренне любили друг друга; мы делились секретами, давали друг другу клятвы. Но, похоже, теперь пришло время расстаться. Как-то раз, когда мы зашли в магазин грампластинок, я предложил Адаму украсть альбом Нила Янга. В ответ он окинул меня уничтожающим взглядом налогового инспектора, взглядом, в котором можно было прочитать возмущение не только этим конкретным проявлением моей непорядочности, но и осуждение всей моей бесцельной и безалаберной жизни, и сказал:
— Ты ведь даже ни разу его не слышал.
— Ну и что, — возразил я и отошел от него и его аккуратного мирка, где все учтено и разложено по полочкам, к группе старшеклассников, обсуждавших совершенно неведомого мне тогда Джимми Хендрикса. Я украл «Electric Ladyland»[7] уже после того, как Адам с удрученным вздохом человека, оскорбленного в лучших чувствах, покинул магазин.
Расставались мы не без раздражения и ревности. У меня уже был новый друг, у него — нет. Окончательный разрыв произошел теплым октябрьским утром на автобусной остановке. Мглистый осенний свет лился с бледно-голубого неба, на котором то тут, то там проступало пузатое облако, похожее на мягкий пакет молока. Отозвав Адама в сторону (на остановке ждали автобуса еще несколько школьников), я показал ему две желтые таблетки, которые вытащил из маминой аптечки.
— Что это? — спросил Адам.
— На пузырьке было написано «валиум».
— Что это такое?
— Не знаю. Какой-то транквилизатор. Давай проглотим и посмотрим, что будет.
Адам остолбенел.
— Проглотим эти таблетки? — переспросил он. — Прямо сейчас?
— Эй! — прошептал я. — Ты что? Потише!
— А потом пойдем в школу? — продолжал он еще громче.
— Ну да! Давай попробуем!
— Но ведь мы даже не знаем, что от них с нами будет!
— Вот и выясним заодно. Давай! Наверное, раз мать их принимает, они не особенно вредные.
— Твоя мама больна, — сказал он.
— Не больше, чем все остальные, — ответил я.
Желтые круглые таблетки, размером со шляпку гвоздя, лежали у меня на ладони, отражая матовое осеннее утро. Чтобы прекратить затянувшуюся дискуссию, я взял и проглотил одну.
— Дикость, — грустно сказал Адам. — Дикость.
Он повернулся и отошел от меня к другим ребятам. Наш следующий разговор состоялся через двенадцать лет в Нью-Йорке, когда он с женой вынырнул из коралловой полутьмы гостиничного бара. Он рассказал мне, что стал владельцем химчистки, специализировавшейся на особо трудных заказах: свадебные платья; старинные кружева; ковры, впитавшие в себя вековую пыль. Мне показалось, что он вполне счастлив.
Я спрятал вторую таблетку обратно в карман и провел утро в блаженной полудреме, идеально гармонирующей с погодой. За ланчем я снова встретился с Бобби. Мы оба улыбнулись и сказали друг другу «Здорово, старик». Я протянул ему таблетку, предназначавшуюся Адаму, которую он тут же с благодарностью проглотил без лишних вопросов. В тот день я ничего не рассказывал. Я почти совсем не открывал рта. Но, как выяснилось, молчать со мной Бобби было так же интересно, как и слушать мою болтовню.
— Мне нравятся твои сапоги, — сказал я, когда он в первый раз сидел на полу моей комнаты, скручивая косяк. — Ты где такие достал? Или нет, погоди, это, наверное, нетактичный вопрос. В общем, по-моему, у тебя очень клевые сапоги.
— Спасибо, — отозвался он, мастерски заклеивая косяк кончиком языка. Вопреки моим заверениям, что я курю марихуану с одиннадцати лет, я не делал этого еще ни разу.
— Вроде неплохая, — сказал я, кивнув на полиэтиленовый пакетик с золотисто-зеленым порошком, который Бобби извлек из кармана своей кожаной куртки.
— Ну… вообще-то… нормальная, — сказал он, закуривая.
Его спотыкающиеся фразы не содержали иронии, скорее уж в них можно было расслышать почти болезненную неуверенность и замешательство. Как будто он не сразу может вспомнить нужное слово.
— Пахнет приятно, — сообщил я. — Но я все-таки открою окно. Вдруг мать зайдет.
Я считал, что нам просто необходимы общие враги, как-то: администрация Соединенных Штатов, наша школа, мои родители.
— У тебя, — сказал он, — замечательная мать.
— Нормальная.
Он протянул мне косяк. Естественно, я постарался изобразить из себя уверенного профессионала. Разумеется, затянувшись, я закашлялся так, что меня чуть не вырвало.
— Довольно крепкая, — сообщил он и, сделав элегантную затяжку, снова передал мне косяк без дальнейших комментариев.
Я вновь захлебнулся дымом, но, придя в себя, получил косяк в третий раз, как будто ничего не произошло и я на самом деле был тем заправским курильщиком марихуаны, каким хотел показаться. В третий раз у меня вышло чуть получше.
Вот так, не изобличая моей неопытности, Бобби начал знакомить меня с нравами поколения.
Мы вообще не расставались. Это была внезапная безоглядная дружба, какая вспыхивает иногда между одинокими и самолюбивыми подростками. Постепенно Бобби перенес ко мне свои пластинки, постеры и одежду. Побывав однажды у него, я сразу понял, от чего он бежит: в доме стоял кислый запах давно не стиранного белья и несвежих продуктов, по комнатам, ставя ноги с пьяноватой тщательностью, бесцельно бродил вечно молчащий отец. Бобби ночевал в спальнике у меня на полу. В темноте я часто прислушивался к его дыханию. Иногда ему что-то снилось и он стонал.
Просыпаясь по утрам, он в первое мгновение недоуменно озирался, а когда понимал наконец, где находится, улыбался. Солнечный свет падал на островок золотистых волосков у него на груди, превращая их в медные.
Я купил себе сапоги, как у него, и начал отращивать волосы.
Со временем он начал говорить свободнее, почти не запинаясь.
— Мне нравится этот дом, — сказал он как-то зимним вечером, когда мы по обыкновению бездельничали в моей комнате, куря «траву» и слушая «Дорз». Снежинки, шурша о стекло, слетали, кружась, на пустынную, безмолвную мостовую. «Дорз» исполняли «L. A. Woman».[8]
— Сколько может стоить ваш дом? — спросил он.
— Скорее всего, недорого, — ответил я. — Мы не богаты.
— Я бы хотел когда-нибудь жить в таком доме, — сказал он, протягивая мне косяк.
— Да брось ты, — сказал я.
У меня были для нас другие планы.
— Серьезно, — сказал он. — Мне нравится.
— Нет, — сказал я. — Просто ты сейчас под кайфом. На самом деле ты так не думаешь.
Он затянулся. Курил он красиво — изящно, почти по-женски придерживая косяк большим и средним пальцами.
— А я все время буду под кайфом, — заявил он, — чтобы мне всегда нравился этот дом и Кливленд и вообще чтобы все было как сейчас.
— Ну, есть и другие способы прожить эту жизнь, — ответил я.
— Нет, скажи, а неужели тебе здесь не нравится? Я не верю. Ты сам не понимаешь, что у тебя есть!
— Понимаю, — сказал я. — У меня есть мать, которая каждое утро спрашивает, что именно я хотел бы съесть на обед, и отец, который почти не вылезает из своего кинотеатра.
— Да… — ухмыльнулся Бобби.
Его широкая в запястье рука, покрытая светлыми волосками, лениво покоилась у него на колене. Просто и небрежно, словно в этом не было ничего особенного.
Мне кажется, я знаю, когда моя симпатия переросла во влюбленность. Однажды ранней весной мы с Бобби сидели в моей комнате, слушая «Грейтфул дэд». Это был обычный вечер моей новой жизни. Бобби передал мне косяк, я взял его, а он, убирая руку, недоуменно взглянул на темно-каштановое родимое пятно на внутренней стороне запястья. По-видимому, за все прожитые им тринадцать лет он никогда не замечал его, хотя я обращал на него внимание уже не раз: смещенная немного вбок небольшая пигментная клякса вокруг сеточки вен. Родимое пятно удивило его и, как мне показалось, чуть испугало. Он осторожно дотронулся до него указательным пальцем правой руки с выражением какой-то детской капризности на лице. И тут, как бы уловив спектр его переживаний по поводу этого крохотного несовершенства, я вдруг осознал, что он живет внутри своей плоти так же и с тем же самым смешанным чувством смущения и любопытства, как я — внутри своей. До этого я думал — хотя никогда бы в этом не признался даже себе самому, — что все остальные немножко ненастоящие; что их жизнь — это некое сновидение, составленное из отдельных фрагментов и настроений, похожих на мгновенные снимки — дискретные и однозначные. Бобби прикоснулся к своему родимому пятну со страхом и нежностью. Вся сцена заняла несколько секунд, и драматизма в ней было не больше, чем, скажем, в эпизоде с человеком, взглянувшим на часы и присвистнувшим от удивления. Но в этот момент Бобби как бы открылся мне. Я увидел его. Он был здесь. Вот сейчас он жил в этом мире, потрясенный и слегка испуганный самой возможностью находиться здесь, сидеть в этой комнате, обитой сосновыми планками.
Это длилось какое-то мгновение, но я был уже на другом берегу. После того вторника я уже не мог, даже если бы очень захотел, не думать о Бобби. Все отличительные свойства его личности, все его поступки сделались для меня какими-то особенно реальными, и я то и дело пытался представить себе, что это значит — быть им.
Вечер за вечером мы, как сыщики, бродили по улицам. Мы подружились с парнем по имени Луи, ночевавшим в ящике от рояля. Он покупал нам красное вино в обмен на продукты, которые я утаскивал с нашей кухни. Через пожарные тюки мы вылезали на крыши домов в центре города, чтобы пережить это ни с чем не сравнимое ощущение пребывания на высоте. Наглотавшись таблеток, мы часами шатались по свалке, сверкающей, как алмазная копь: нам попадались таинственные гроты и какие-то особенные холмы, лучащиеся лунным, выбеленным светом, который я все пытался поймать руками. На попутках мы ездили в Цинциннати, чтобы проверить, успеем ли мы смотаться туда-обратно прежде, чем нас хватятся мои родители.
Однажды — вечером в четверг — Бобби привел меня на кладбище, где были похоронены его брат и мать. Мы закурили.
— Старик, — сказал Бобби, — я не боюсь кладбищ. Покойники такие же, как мы с тобой, и хотели они того же самого.
— А чего, по-твоему, мы хотим? — спросил я, чувствуя, что марихуана начинает действовать.
— Э, старик, — сказал он, — ну, просто того же, чего они.
— Так чего же?
Бобби пожал плечами.
— Я думаю, жить.
Он провел ладонью по траве и протянул мне косяк, мокрый от его и моей слюны. Я выдул белую струю дыма в небо, на котором мерцали Плеяды. За нами светились огни Кливленда. Промчавшаяся мимо машина оставила в прохладном воздухе несколько тактов «Helter Skelter».[9]
Настал апрель. Купальный сезон еще не открылся, но по моему настоянию мы отправились в карьер, едва стаяли последние сугробы. Я знал, что мы будем купаться нагишом. Я подгонял время.
Был ясный, словно промытый долгими холодами, весенний день. Небо было бледно-голубым, как талый лед. Из-под земли показались уже первые, самые неприхотливые цветы с толстыми стеблями. Карьер находился в трех милях от города. Небо отражалось в его темной неподвижной воде. Не считая нас с Бобби и одинокой коровы цвета жженого сахара, которая прибрела с пастбища попить на мелководье, на берегу никого не было. Можно было подумать, что мы приехали на высокогорное ледниковое озеро в Гималаях.
— Красиво, — сказал Бобби. Мы закурили.
С ясеня, на котором еще не раскрылись почки, вопросительно вскрикнув, сорвалась голубая сойка.
— Мы просто обязаны искупаться, — сказал я. — Просто обязаны.
— Нет, старик. Еще слишком холодно. Вода ледяная, — возразил он.
— Все равно. Сегодня первый день официального купального сезона. Если мы сегодня не искупаемся, завтра снова пойдет снег.
— Кто тебе сказал?
— Это всем известно. Пошли.
— Ну, не знаю, — сказал он. — Холодновато.
Тем временем мы вышли на засыпанную галькой полосу пляжа, где у самого края воды стояла корова, поглядывающая на нас своими большими и черными, как уголь, глазами. Очертаниями карьер напоминал лошадиную подкову, окруженную по периметру зубчатым полукругом известковых скал.
— А по-моему, совсем не холодно, — сказал я Бобби. — В это время года вода здесь как на Бермудах. Смотри.
Подгоняемый страхом, что мы так ничего и не совершим сегодня, кроме как одетые выкурим косяк у кромки темной воды, я полез наверх по глинистому склону. Скалы в этом месте карьера поднимались вверх метров на семь, и летом самые отчаянные смельчаки ныряли с них в воду. У меня никогда и в мыслях не было прыгать с такой высоты. Особой храбростью я не отличался. Но в тот день я в своих новых, все еще жавших мне ковбойских сапогах вскарабкался на потрескавшееся известняковое плато, расцвеченное первыми желто-бурыми крокусами.
— Здесь давно лето, — закричал я Бобби, сиротливо стоявшему на пляже (Бобби курил, прикрывая косяк ладонью). — Только не пробуй воду. Залезай сюда и прыгнем. Так надо.
— Не, Джон, — крикнул он. — Слезай!
И тут в состоянии какой-то гудящей приподнятости я начал расстегивать рубашку. Нет, это был уже не робкий, вечно смущающийся Джонатан. Тот, кто раздевался сейчас под удивленным взором пьющей воду коровы, был и отважен и уверен в себе.
— Джон! — крикнул Бобби чуть настойчивей.
Когда я скинул рубашку, стянул сапоги и носки, меня охватило беспричинно восторженное чувство, какого я не испытывал еще никогда. Чувство это росло по мере того, как все новые участки кожи соприкасались со светом и сверкающим ледяным воздухом. Я становился все легче, все могущественнее. Наконец я не слишком грациозно вылез из джинсов и длинных трусов и замер — голый, костлявый, безумный, в лучах холодного солнца.
— Вот так! — крикнул я.
— Эй, старик, не смей, — крикнул Бобби снизу. Но ради Бобби, ради моей новой жизни я прыгнул.
Вода, оказывается, была все еще покрыта прозрачной коркой льда, тончайшей мембраной, которую я заметил, лишь пробив ее. Я услышал негромкий треск и увидел взметнувшиеся вверх осколки льда. А потом я провалился в невероятный, немыслимый холод. На бесконечно долгое мгновение у меня перехватило дыхание и, как мне показалось, остановилось сердце. Моя плоть в животной панике облепила скелет. Я умираю, отчетливо подумал я. Вот, значит, как это бывает.
Затем я вынырнул на поверхность, вторично пробившись сквозь лед. Сознание выскользнуло из моего тела, и откуда-то сверху я увидел, как плыву к берегу, тщетно пытаясь вдохнуть. Мои легкие превратились в два стиснутых кулака. В воздухе сверкали алмазные кусочки льда.
Бобби по пояс вбежал в воду, чтобы помочь мне выбраться. Я помню, как мокрые джинсы облепили его ноги. Помню, как у меня мелькнула мысль о том, что он загубит свои сапоги.
Мне понадобилось еще какое-то время, чтобы осознать, что он во все горло орет на меня.
— Кретин! — вопил он. (Его губы были совсем близко от моего уха.) — Кретин!
Отвечать я не мог — я был слишком занят своим дыханием. Он отвел меня подальше от воды и только тогда, ослабив хватку, позволил себе полномасштабную тираду. Мне ничего неоставалось, как, стоя на гальке, ловить ртом воздух, дрожать и слушать.
Сначала он просто бегал взад-вперед, словно между двух невидимых объектов, удаленных друг от друга примерно метра на четыре.
— Ублюдок! — орал он. — Кретин!
Потом — пробежки становились все короче — закружился волчком практически на одном месте. Лицо у него было пунцовым. Наконец он вроде бы уже совсем остановился, но напоследок все-таки сделал еще три полных оборота, словно в нем раскручивалась невидимая пружина. При этом он не переставая что-то орал. Постепенно его речь превратилась в какой-то неразборчивый возмущенный клекот, поток невнятного гневного бормотанья, обращенный, казалось, даже не ко мне, а к небу, скалам и безмолвным деревьям.
Я молчал. Я никогда прежде не только не видел подобной ярости, но даже не представлял себе, что такое бывает. Оставалось надеяться на то, что когда-нибудь он выдохнется.
Спустя какое-то время он, без всяких объяснений, полез на скалу, где осталась лежать моя одежда. Его гнев немного утих, но отнюдь не прошел. Я голый стоял на гальке. Вернувшись, Бобби швырнул мне под ноги одежду и сапоги.
— Одевайся! Сейчас же!
В его голосе звучало неподдельное осуждение.
Я повиновался.
Когда я оделся, он поверх моей куртки накинул на меня свою.
— Не надо, — сказал я. — У тебя самого джинсы мокрые.
— Заткнись, — сказал он. И я заткнулся.
Мы пошли к автостраде ловить попутку в город. Бобби крепко прижимал меня к себе, обняв за плечи.
— Какой же ты кретин, — бормотал он. — Настоящий придурок! Придурок! Просто придурок!
Он обнимал меня все время, пока мы стояли, подняв большие пальцы, на краю шоссе, и потом, когда двое студентов из Оберлина посадили нас на заднее сиденье своего «фольксвагена». Он прижимал меня к себе всю дорогу.
В доме он тут же включил обжигающий душ, помог мне раздеться и загнал в ванну. И лишь после того, как я вышел, обмотавшись полотенцами, тоже снял с себя мокрую одежду и сам залез под душ. Когда он вышел, он был весь усеян сверкающими каплями, а бледные волоски приклеились к его груди. Мы пошли в мою комнату, поставили пластинку Джимми Хендрикса и скрутили косяк. Мы сидели, завернувшись в полотенца, и курили.
— Какой же ты придурок, — тихо сказал он. — Ты же мог погибнуть. Ты понимаешь, что бы со мной было тогда?
— Нет, — сказал я.
— Я бы… мне… не знаю…
И посмотрел на меня с такой грустью… Тогда я сунул косяк в пепельницу и сделал то, что потребовало от меня гораздо больше мужества, чем прыганье со скалы в ледяную воду, чем все мои прежние отчаянные поступки, вместе взятые, — я положил свою ладонь ему на руку, сильную, мускулистую руку, покрытую золотистыми волосками. Я смотрел в пол, на плетеный ковер и доски цвета спелой тыквы. Бобби не отдернул руки.
Прошло около минуты. Сейчас или никогда. Замирая от ужаса, с бешено колотящимся сердцем, я начал осторожно поглаживать его руку кончиком указательного пальца. Вот, подумал я, вот сейчас он обо всем догадается и убежит, содрогаясь от отвращения. И тем не менее я продолжал водить пальцем по его руке. Страх и желание были настолько сильны и так переплелись, что их почти нельзя было отличить друг от друга. Бобби не отстранился, но и не отвечал на мои ласки.
Я взглянул ему в лицо. В выражении его горящих, немигающих глаз появилось что-то звериное, рот был расслабленно полуоткрыт. Я понял, что ему тоже страшно, и именно это позволило мне переместить руку ему на плечо. Я почувствовал, как его кожа над гладким широким изгибом лопатки покрылась мурашками. Я слышал, как он дышит, как опускается и поднимается его грудь.
Быстро — выдержка окончательно изменила мне — я положил руку ему на бедро. Он вздрогнул, поморщился, но не отодвинулся. Я сунул руку под полотенце и заметил, как по его глазам скользнула тень страха и удовольствия. Поскольку я понятия не имел, что делать, я просто продублировал те движения, которые применял к самому себе. Когда он напрягся и затвердел в моей руке, я расценил это как жест прощения.
Затем он протянул руку и с неожиданной нежностью прикоснулся ко мне. Мы не целовались и не обнимались. Джимми пел «Purple Haze».[10] Где-то в глубине дома гудели батареи.
Мы вытерлись потом салфетками «Клинекс» и молча оделись. Впрочем, едва мы оделись, Бобби снова раскурил косяк и снова заговорил своим обычным тоном об обычных вещах: об очередных гастролях «Грейтфул дэд», о наших планах заработать на машину. Мы сидели на полу в моей комнате и курили — обыкновенные американские подростки в обыкновенном доме, объятом скукой и пробивающейся зеленью огайской весны. В тот день я получил еще один урок: к любви между мальчиками, как ко всякой нелегальной практике, лучше всего относиться спокойно, будто к чему-то заурядному. Правила хорошего тона требуют избегать каких бы то ни было обсуждений и комментариев. И мы, несмотря на всю нашу неопытность и смущение, повели себя именно так — как чуткие прирожденные преступники.
Элис
Когда наш сын Джонатан привел его к нам домой, им обоим было по тринадцать лет. Он казался голодным, непредсказуемым и опасным, как бездомный пес.
— Бобби, — спросила я, в то время как он сосредоточенно поглощал жареного цыпленка, — ты давно живешь в Кливленде?
Его волосы напоминали наэлектризованное гнездо. На нем были ковбойские сапоги и кожаная куртка с синим выцветшим глазом на спине.
— Всю жизнь, — ответил он, обгладывая цыплячью ножку. — Я просто был невидимкой, а теперь решил стать как все.
Можно было подумать, что дома его вообще не кормят. Он оглядывал нашу столовую с такой неприкрытой жадностью, что на какое-то мгновение я ощутила себя ведьмой из «Ханса и Гретель». Я вспомнила, как ребенком в Новом Орлеане наблюдала за термитами, прогрызающими наличники на окнах в гостиной, и как изъеденные деревянные завитушки ломались потом в пальцах, словно кусочки сахара.
— Ну что ж, добро пожаловать в материальный мир, — сказала я.
— Спасибо, мэм, — ответил он без улыбки.
После чего снова вгрызся в цыплячью косточку с такой силой, что она треснула. Когда он ушел, я сказала Джонатану:
— Да, типчик. Где ты его нашел?
— Это он меня нашел, — отрезал Джонатан.
Характерной особенностью его переходного возраста стала несколько аффектированная лаконичность. Его кожа была еще совсем гладкой, а голос — по-мальчишески звонким, и, по-видимому, он решил, что самый верный способ казаться взрослым — это вот такая резковатая вескость речи.
— А где он тебя нашел? — мягко поинтересовалась я.
В конце концов, я всего-навсего наивная любопытная южанка. Даже теперь, после стольких лет, проведенных в Огайо, мне иногда удавалось извлечь выгоду из своего происхождения.
— Он подошел ко мне в первый же день занятий и с тех пор не отставал.
— По-моему, он какой-то странный, — заметила я. — Честно говоря, он меня даже немного напугал.
— Он с характером, — ответил Джонатан, явно давая понять, что обсуждение закончено. — Его старшего брата убили.
В Новом Орлеане у нас было специальное название для той социальной группы, к которой явно принадлежал Бобби и куда входили неблагополучного вида подростки, чьи родственники несколько чаще обычного умирали насильственной смертью. Тем не менее я не могла не признать, что характер у него действительно есть.
— Давай сыграем в карты! — предложила я.
— Не, мам. Не хочется.
— Ну, хоть разок. Ты должен дать мне возможность отыграться.
— Ну ладно, только один раз.
Мы убрали со стола, и я раздала карты. Но играла я рассеянно. Мне не давал покоя этот мальчик. С какой алчностью оглядывал он нашу гостиную! Джонатан забирал взятку за взяткой. Я поднялась наверх за свитером, но согреться так и не смогла.
Джонатан взял даму пик.
— Поосторожней! — воскликнул он. — Сегодня со мной шутки плохи!
Он так радовался выигрышу, что даже на время забыл о своем новоприобретенном хладнокровии. Я не могла понять, почему он не пользовался большей популярностью в школе. Он был и умен, и красив, красивее большинства мальчиков, встречавшихся мне в городе. Может быть, мое южное воспитание лишило его необходимой грубоватости, сделало слишком мягким и открытым для этого жестокого города на Среднем Западе? Впрочем, не мне судить. Какая мать хотя бы немного не влюблена в своего родного сына?
Нед вернулся домой за полночь. Я читала лежа наверху, когда услышала, как он отпирает входную дверь. Выключить свет и притвориться спящей? Нет. Скоро мне исполнится тридцать пять. Я приняла кое-какие решения, касающиеся нашего брака.
Я услышала, как он дышит, поднимаясь по лестнице. Я легла чуть выше и одернула ночную рубашку. Вот он в дверях нашей спальни — мужчина сорока трех лет, все еще привлекательный по обычным меркам. В последнее время он начал седеть — с висков, в канонической манере стареющего героя-любовника.
— Ты еще не спишь?
По его тону нельзя было понять, радует это его или огорчает.
— Не могу оторваться, — ответила я, указывая на книгу.
Ну вот, опять не то сказала. «Тебя ждала» — вот как надо было ответить. Однако не спала я именно из-за книги. Неужели, чтобы исправить нашу жизнь, необходимо постоянно мелко подвирать? Я продолжала надеяться, что это не так.
Он шагнул в комнату, расстегивая рубашку, из-под которой показалась волосатая, с проседью грудь.
— Похоже, «Избавление» для Кливленда все-таки чересчур, — сказал он. — Уже звонили несколько возмущенных родителей.
— Я вообще не понимаю, зачем ты его заказал, — заметила я.
Он снял рубашку и, скомкав, сунул в корзину для белья. Капельки пота поблескивали у него под мышками. Когда он повернулся, я увидела у него на спине обильную растительность, напоминающую своими контурами карту Африки.
Нет! Сосредоточиться на его доброте, на его мягком юморе! На его стройной фигуре.
— Ты что? Мне крупно повезло, — сказал он. — Это же будущий чемпион проката. На семичасовом зал был заполнен почти на три четверти.
— Ясно, — сказала я.
Я положила книгу на ночной столик. Получился глуховатый, но удивительно звучный хлопок.
Он снял брюки. Будь я другим человеком, я бы весело сказала: «Дорогой, пожалуйста, сначала снимай носки, а потом — брюки. Мужчина в трусах и черных носках — это невыносимо!»
Но я была тем, чем была. Нед аккуратно повесил брюки и какое-то время стоял в трусах и темных эластичных носках. Почему-то он упорно покупал именно такие носки, хотя от них у него уже вытерлись волосы на голенях и, когда он их снимал, на коже оставался красноватый узорчатый отпечаток.
Он надел штаны от пижамы поверх трусов и только тогда присел на край кровати, чтобы стянуть носки. Нед редко бывал совсем голым, разве что в ванной.
— Уф, — выдохнул он. — Как же я вымотался!
Я дотронулась до его потной спины. Он вздрогнул.
— Не бойся, — сказала я. — Я с самыми добрыми намерениями.
— «Нервная Нелли», — улыбнулся он.
— Сегодня Джонатан привел нового приятеля. Ты бы его видел.
— Что, еще хуже Адама? — спросил он.
— Намного. Только совсем в другом роде. В этом есть что-то пугающее.
— То есть?