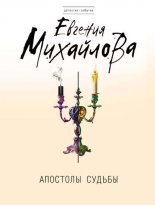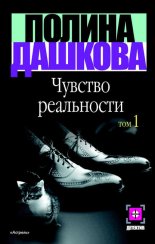Ничего, кроме нас Кеннеди Дуглас

– Ты что, черт тебя возьми, с ума сошел? – крикнула я.
– Ерунда! – засмеялся Боб.
– Ты же мог убиться!
– Ну не убился же.
Боб пробрался к гаражу и, взяв там лопату, мигом откопал нашу дверь. Десять минут спустя мы уже подходили к колледжу, как раз успели к зачету.
Я все еще кипела:
– Можно убрать парня из братства, но невозможно убрать братство из парня.
– Да брось, зато на зачет успели.
– Ты слишком легкомысленно к этому относишься. Вспомни только своего товарища из братства, который в прошлом году свалился с крыши и разбился насмерть.
Боб надолго затих и не произнес больше ни слова до учебного корпуса. Заговорил он только перед тем, как войти:
– Думаю, я это заслужил.
– Я и не думала тебя наказывать. Но, Господи, неужели ты сам не понимаешь, какой это был безумный поступок? У меня чуть сердце не разорвалось. Ты хотел поломать мне всю жизнь? Ты же умный мужик, Боб.
Вечером, когда мы шли домой, Боб вернулся к утреннему эпизоду:
– Чтобы показать, что я раскаиваюсь, я сегодня приготовлю для тебя единственное блюдо, какое умею: спагетти с фрикадельками. Этому рецепту меня научила учительница из приходской школы. Мисс Дженовезе – чистокровная итальянка, с севера страны. Она решила взять под крыло ирландских детей, чтобы уберечь их от паршивой готовки, вареной капусты и жареного мяса.
На кухне у нас были полные шкафы продуктов, потому что за неделю до того мы съездили в Портленд и спустили всю библиотечную зарплату в единственном итальянском продуктовом магазине к северу от Бостона. В то время Портленд был захудалым, унылым городом, а его старый центр находился в ужасном запустении. Но были там и свои изюминки, включая бакалейную лавку Микуччи, где можно было найти приличные итальянские помидоры в банках, чеснок и настоящий пармезан. Всего этого мы и накупили. Боб также потребовал, чтобы мы приобрели итальянские панировочные сухари со специями и краюху их хлеба, а также бутыль настоящего итальянского кьянти – по словам приветливой толстушки за прилавком, «вполне приличного за такую цену» (четыре бакса за полгаллона). Купив всё это, мы сели за один из маленьких столиков в задней части магазина и съели по куску вкуснейшей пиццы, запивая дешевым красным вином.
– Девушка из Нью-Йорка одобряет пиццу? – спросил меня Боб.
– Очень вкусная, я просто поражена. Меня в последнее время вообще все поражает.
– Что все?
– Мы. Наша совместная жизнь. И особенно поражает то, как мне все это нравится.
– Мне тоже. Знаешь, у ирландцев есть выражение, оно мне нравится: «В этом мы парочка».
Я взяла Боба за руку.
– Классная фраза, – сказала я, а сама подумала: приходилось ли моим родителям переживать вместе вот такие же моменты простого счастья? А если да, почему все пошло кувырком? Неужели дело в рождении детей? Или они с самого начала настолько не подходили друг другу, что так постоянно и жили в том же кошмаре, что и сейчас?
Остальная часть семестра, к счастью, прошла без потрясений, хотя и была насыщена событиями, которые касались меня непосредственно. Например, мы с Бобом подали заявку на должность консультантов в литературный лагерь для подростков в Вермонте. Поскольку лагерь считался прогрессивным, то нам даже пообещали выделить отдельную комнату на двоих в корпусе для персонала. Каждому из нас было обещано по триста пятьдесят долларов за месяц плюс бесплатные еда и проживание – целое состояние для студентов. А Боб напросился к профессору Лоуренсу Холлу, блестящему ученому, но очень вспыльчивому человеку, писать у него в следующем семестре самостоятельную работу по «Моби Дику» Мелвилла. Я закончила курс с высокими оценками по всем предметам. А моя курсовая работа по Федеральному театральному проекту[45] была отмечена Хэнкоком как одна из лучших студенческих работ года. Он тогда пригласил меня в свой кабинет – наша первая встреча за несколько недель. За это время я ни разу не отважилась задать ему вопрос о здоровье. Сам Хэнкок тоже больше не заговаривал о своей болезни. На наших последующих встречах он подчеркнуто придерживался темы учебы, разве что спрашивал время от времени о Бобе и наших планах на лето. Обычная болтовня на нейтральные темы. Дружба, которая начинала зарождаться – когда он делился со мной какими-то подробностями личной жизни, а я откровенничала о своей семье, – превратилась в более официальные отношения преподавателя и студента. По-прежнему приветливые и доброжелательные, но с четко определенной дистанцией, которую Хэнкок установил и сам выдерживал. Граница была нарушена. И Хэнкок ее старательно восстанавливал.
Но в тот день, снова поздравив меня с успехом, профессор вынул из портфеля письмо от руководителя Гарвардской аспирантуры по истории Америки:
– Я решил показать ему вашу работу. Вот что он ответил.
Хэнкок протянул мне письмо, напечатанное через один интервал. Я начала читать.
«Это незаурядная научная работа примечательно высокого уровня для студента, а тем более первокурсницы. Я надеюсь, что вы свяжете ее со мной, когда/если она примет решение поступать в аспирантуру».
– Я прошу вас сохранить это письмо, – сказал Хэнкок. – Вынимайте его и периодически читайте, это поможет вам не давать разыграться присущей вам неуверенности и сомнениям.
– Даже не знаю, что сказать, профессор. – Меня удивило, как это Хэнкок сумел уловить присущую мне тревожность, при том, что в его присутствии я всячески старалась ее не показывать.
– Вы можете гордиться тем, что вашу работу похвалил Венделл Флетчер – он считается одним из ведущих экспертов в стране по Рузвельту.
– Это чрезвычайно лестно. Но…
– Но что, Элис?
– Я о том, что вы мне говорили несколько месяцев назад, профессор. Что все мы безотчетно боимся разоблачения… это точно про меня. И я не знаю, смогу ли когда-нибудь избавиться от этого чувства.
– В конечном итоге все целиком зависит от вас, Элис. Это похоже на то, как я пишу. Только я сам могу заставить себя начать, а тем более закончить очередную книгу. Я убеждаю себя, что стану писать по вечерам, после лекций, после работы, после того как жена и дети лягут спать. Но нахожу для себя оправдания, чтобы делать по-другому. Обещаю себе писать по выходным, а вместо этого беру мальчиков и на лодку. Или делаю какие-то дела по дому, хотя вполне мог бы нанять для этого рабочего. Просто я знаю, что это повод не заниматься книгой, вот и вожусь сам. А теперь, когда у меня есть должность в колледже, я часто задаю себе вопрос, буду ли вообще ее дописывать… Он замолчал, посмотрел в окно.
– Но еще я понимаю, что книга мне нужна – не только для того, чтобы лет через десять получить очередную ученую степень, но ради того, чтобы иметь стимул к жизни, сохранять интерес и чувствовать, что я чего-то добиваюсь, что-то создаю. Впрочем, честолюбивые желания, которые вдохновляют в двадцать с небольшим – видеть, как на полке прибавляется написанных тобой книг, – меняются со временем, когда остро осознаешь пределы своих возможностей.
Сказав это, Хэнкок вдруг поднялся, глядя на меня растерянно, будто осознав, что переступил еще одну границу. Что же до меня, то мне было просто приятно, что он снова решился приподнять завесу и показал мне свою слабость.
– Извините меня, Элис. Что-то я сегодня пессимистично настроен.
– Можно спросить, профессор?
Но не успела я задать вопрос о его болезни, как Хэнкок начал собирать со стола бумаги:
– Я должен срочно сделать кое-что.
Через секунду я уже была за дверью.
Занятия закончились на следующей неделе. Заключительная лекция Хэнкока была эмоциональным и трогательным рассказом о последнем годе президентства Франклина Делано Рузвельта и о том, как военная экономика привела наконец к экономическому возрождению, которого не смог обеспечить «Новый курс»[46], однако Рузвельт, тем не менее, осуществил первый истинный эксперимент в американской социальной демократии, который, хотя с годами эффект его сгладился, до сих пор имеет огромное влияние на политическую жизнь и правящие круги нашей страны.
– Я знаю, – продолжал Хэнкок, – что большинство сегодняшних американцев списало со счетов Линдона Джонсона как разжигателя войны и того политика, кто фатально усугубил наше ужасное вмешательство во Вьетнаме. Я соглашусь, что он допустил трагическую ошибку и тем самым опорочил себя как президента. Но самая большая трагедия для меня заключается в том, что в социальном плане именно Джонсон был самым прогрессивным президентом со времен Рузвельта. Взгляните на Закон о правах избирателей от 1964 года, Закон о гражданских правах от 1965 года, его политику Великого общества, программу медицинской помощи престарелым, Корпорацию общественного вещания. Даже на то, что он очистил наши дороги от рекламных щитов. История будет гораздо добрее к Джонсону, чем мы сейчас. История увидит, что он пытался переделать Америку, сделать из нее истинно социал-демократическую страну. Когда Джонсон добился принятия Закона об избирательных правах (закона, который впервые в истории Америки предоставил права всем афроамериканским гражданам старше восемнадцати лет, которым прежде было запрещено голосовать во многих регионах Юга, да и в других местах), он заметил, что потерял Юг ради демократической партии. Доказательством этого стала первая победа Никсона в 1968 году: впервые кандидат от республиканской партии выиграл большинство штатов южнее линии Мэйсона – Диксона[47]. Джонсон изменил всю траекторию американской жизни этими двумя ключевыми частями законодательства о гражданских правах, и сделал он это ценой больших политических жертв. Как и все мы, Джонсон был глубоко несовершенным человеком, и да, он принял несколько катастрофически неудачных решений. Но история учит, что истинная картина жизни – этого невероятно сложного и часто противоречивого сюжета – открывается нам лишь после того, как уляжется так называемая пыль времен. История как таковая может рассматривать географические, политические, социальные, экономические и теологические силы, под влиянием которых складывается эта картина. Но она выявляет также и те глубокие раны, которые остаются на теле общества. «Над ранами смеется только тот, кто не бывал еще ни разу ранен». Шекспир, разумеется. Раны характеризуют людей. Раны определяют предназначение и движение нации. Как вы еще убедитесь в своей жизни, раны являются неотъемлемой частью нашей личной судьбы.
Закончив на этом, Хэнкок поблагодарил нас за то, что ему было интересно с нами работать, и пожелал нам «наслаждаться летними радостями».
Когда я выходила, Хэнкок окликнул меня:
– Элис, задержитесь на два слова, пожалуйста.
– Ах, счастливица, папочка с тобой простится лично, – прошипела мне вслед Полли Стерн.
Я в ответ лишь вымученно улыбнулась. Дождавшись, пока остальные студенты выйдут, Хэнкок закрыл дверь аудитории. Потом, попросив меня сесть в кресло рядом с его кафедрой, он подсел ко мне:
– Я намерен задать вам крайне бестактный вопрос, Элис.
– Я сделала что-то не так, профессор?
– Нет, но вы можете знать что-то о некоем проступке, имевшем место среди студентов, посещавших мой курс.
– Что за проступок?
– Мне стало известно, что один из студентов для других писал курсовые работы.
– А кто это был, вы знаете?
– Не представляю. Знаю лишь, что двое студентов, не блещущих глубокомыслием и отточенным стилем письма, сдали мне работы, которые явно превышают их возможности. Такие вещи трудно отследить, тем более что я дал всем выбор – написать одну большую работу, как ваша, или три коротких. Последний вариант позволяет нарушителю найти кого-то, кто написал бы работы за него, не тратя слишком много времени. Я, естественно, поговорил с обоими студентами, которых заподозрил в подлоге. Оба заверили, что невиновны. Я передал этот дело декану, и тот тоже опросил их обоих по отдельности. Они снова все отрицали. Я хотел было заставить их сдавать устный экзамен в присутствии комиссии. Мне не позволили – по причинам, в которые я не буду вдаваться, чтобы не сказать лишнего. Замечу лишь, что спорту здесь придают слишком большое значение, как и в большинстве колледжей. В конце концов мне пришлось положительно оценить сданные этими студентами работы, хотя было совершенно очевидно, что они писали их не сами. Заведующий моей кафедрой сказал, чтобы я больше не возвращался к этому вопросу. Но я должен спросить вас как человека внимательного: вам известен кто-либо, кто мог написать заказные работы?
Неуверенная, во всем сомневающаяся девочка во мне тут же запаниковала, задаваясь вопросом: он что же, намекает, что эти работы написала я?
– Честное слово, профессор, я не слышала, чтобы кто-нибудь просил или заставлял другого студента писать за него работы.
Хэнкок наморщил лоб:
– Не хочу на вас давить. Но вы абсолютно уверены?..
– Профессор, если бы я хоть краем уха что-то такое услышала, то обязательно вам бы об этом сказала.
– Я это знаю, Элис. Именно поэтому я и обратился к вам. Потому что, когда несколько дней назад это стало известно…
Вдруг Хэнкок замолчал, голос его оборвался, как будто он задохнулся или подавился своими же словами. Лицо стало свекольного цвета. Вынув из кармана брюк носовой платок, Хэнкок прижал его ко рту и отчаянно закашлялся, потом снял очки и протер глаза. Я смотрела на профессора во все глаза, не в силах оторваться от искаженного страданием лица.
– Там, в коридоре, фонтанчик с питьевой водой… – выдавил он.
Я бросилась к двери, не забыв схватить пустой стакан со стола. Уложившись меньше чем в тридцать секунд, я вернулась с полным стаканом, стараясь не показать, как испугалась. Хэнкок тут же выпил все до дна. Затем на миг прикрыл глаза. К тому времени, как он снова открыл их, к нему вернулось самообладание.
– Спасибо, Элис. Я, как и прежде, прошу, чтобы все, о чем здесь говорилось, осталось строго между нами.
– Конечно, профессор.
Хэнкок встал и, подойдя к кафедре, стал собирать книги и бумаги.
Я отважилась рискнуть:
– Можно мне спросить, сэр…
Но он не дал мне закончить предложение, оборвав разговор двумя словами:
– Всего доброго.
После чего, не оглядываясь, направился к двери.
После этого эпизода я страшно переживала. Из-за того, как сухо он попрощался со мной – в конце года! – явно давая понять, что, по его мнению, я знаю больше, чем хочу показать (а я действительно ничего не знала). Пугала меня и мысль о том, не откажется ли профессор теперь быть моим научным руководителем, не отвергнет ли меня, как поступали взрослые люди, имевшие большое значение в моей жизни. Но больше всего огорчало то, что я подвела Хэнкока – не знала подробностей, которые ему так необходимы.
В конце концов я нарушила данное Хэнкоку обещание – рассказала всё единственному человеку, которому, как мне казалось, могла довериться всецело. Боб оказался выше всех похвал. Велел, чтобы я перестала извиняться за то, что раньше не рассказала ему о болезни Хэнкока, ведь, сохранив это в тайне я показала себя честным и надежным человеком. Новость о скандале с подложными работами Боба тоже поразила.
– Я мог бы поспрашивать, разузнать, кто для кого пишет, – сказал он. – Ну, то есть я готов поставить сотню баксов, что руководство колледжа потому велело Хэнкоку замять это дело, что замешаны были спортсмены, а они очень нужны своей команде, и неважно какой. Спорим, завтра к вечеру я разузнаю, кто виноват.
Но я понимала, что, если Боб ввяжется в это расследование, большие неприятности могут быть у нас обоих. И еще я знала, что Хэнкок, если узнает, что я нарушила свое обещание и обо всем проболталась Бобу, никогда мне этого не простит.
– Нет, не надо нам с тобой совать нос в это дело, – сказала я.
– Ты все сделала правильно. И не думай, пожалуйста, что Хэнкок так сухо с тобой попрощался, потому что в чем-то тебя подозревает. Пойми ты, чувак перед тобой показал свою слабость, этот приступ удушья… Он, видимо, сильно смутился, это выбило его из колеи.
И Боб обнял меня – именно в его объятиях мне сейчас и хотелось оказаться.
На другой день я обнаружила в своем почтовом ящике записку:
Дорогая Элис, я понял, что вчера поставил вас в неприятное положение, и хочу за это извиниться. Вы отлично работали в этом семестре, что и отразится на вашей итоговой оценке. Для меня было истинным удовольствием преподавать вам.
Искренне…
Вечером я показала записку Бобу.
– Видишь, напрасно ты огорчалась, – сказал он. – Хэнкок и сам решил больше не заниматься этим вопросом и жалеет, что втянул в это тебя. Ну что, ты успокоилась?
– Конечно, – кивнула я, но не могла избавиться от тревоги.
На лето мы сдали квартиру в субаренду студенту-музыканту – он устроился работать на летнем музыкальном фестивале в колледже. Целый день мы укладывали вещи и прибирались. Вечером мы собирались побаловать себя пиццей с пивом в центре города, а рано утром нам предстояло отбыть на автобусе в Бостон. Там Шон подыскал для нас «вольво» 1962 года выпуска у своего дружка-полицейского, который приторговывал на стороне подержанными автомобилями.
– Слушай, шестьсот баксов – это все равно что даром, – сказал он Бобу, а тот пересказал этот разговор мне, подражая выговору своего папаши. – А учитывая, что продает коп, можно быть уверенным, нам вернут деньги, если окажется, что это негодная развалюха.
Боб залез в свои сбережения и потратил добрую их половину, хотя его отец предлагал оплатить покупку («Я ж все равно думал, что тебе подарить на Рождество»). Но мой парень был непоколебим, твердо решив оплатить все сам.
– Чтобы он потом не мог сказать: «Вот сколько я для тебя сделал», – пояснил мне Боб.
Мы оба с восторгом ждали, когда сможем наконец обзавестись собственными колесами и ощутить вкус свободы, которую они нам подарят. План был таков: погостив несколько дней у родителей Боба, отправиться на мыс, где один из его школьных друзей подрабатывал летом управляющим мотеля. Он посулил, если Боб поможет покрасить три пустующих номера, пустить нас пожить бесплатно дней десять, при том, что работать предстояло по три часа в день, не больше. Сделка показалась нам выгодной, тем более что мотель располагался всего в квартале от пляжа. После короткого визита на мыс мы планировали отправиться в лагерь в Вермонте, а еще подумывали о поездке в Канаду в конце лета, прежде чем вернуться в колледж.
– Ты скоро закончишь? – крикнул Боб из кухни, где он заканчивал мыть пол. – Я бы уже не отказался от пиццы с пивом.
– Еще три минуты этой тягомотины, и я свободна.
Зазвонил телефон. Обрадованная возможностью отвлечься, я поднялась с колен. Это был Сэм.
– Элис, – услышала я его сдавленный голос, – я только что узнал кое-что… у меня очень фиговые новости.
– Что случилось? – спросила я. Его тон, не суливший ничего хорошего, насторожил меня.
– Профессор Хэнкок умер.
Вы замечали когда-нибудь, что, когда вам сообщают самые ужасные новости, которые, и вы это знаете, все изменят в вашей жизни, до вас сначала не доходят? Как будто потрясение от услышанного как-то воздействует на внутреннее ухо, отводя звук.
– Да ладно, быть не может, – тихо сказала я.
– Мне очень жаль, но это правда, – вздохнул Сэм. – Хэнкок мертв.
– Рак горла оказался настолько запущенным? – только и нашлась я что сказать. – Я и не подозревала. Он так мужественно держался.
– При чем тут рак? – недоуменно спросил Сэм. – Хэнкока сегодня утром вынули из петли на чердаке его дома. Он покончил с собой.
Глава девятая
Похороны состоялись через неделю. Задержка была связана с тем, что, поскольку профессор Хэнкок покончил с собой, необходимо было провести полицейское расследование. Только когда оно было завершено и местный судмедэксперт разрешил забрать тело, можно было приступить к заключительным церемониям. Узнав о смерти профессора, я не могла спать, не могла мыслить хоть сколько-нибудь рационально. Меня будто втолкнули в пустую шахту лифта. И я падала. Я позвонила домой заведующему историческим факультетом. Профессор Фридлендер был немного эксцентричным человеком. Высокий, сухопарый, с белоснежной бородой под Уитмена, он производил впечатление рассеянного и витающего в облаках. О нем ходила слава добряка, впрочем, мягкость не мешала ему становиться строгим, когда речь заходила о преподавании и научной работе. У меня он еще не вел занятий. Я пока не решила, буду ли специализироваться по истории, поэтому не была уверена, что Фридлендер вообще станет со мной разговаривать. И все же, набравшись смелости, я позвонила ему на домашний номер:
– Это Элис Бернс, студентка профессора Хэнкока, – начала я. – Мне неловко беспокоить вас…
– Не нужно извиняться, Элис, – перебил меня Фридлендер. – Ужасный день сегодня. Мы все очень дорожили Тео.
– Я в полном шоке, профессор, – сказала я. – Понимаете, я виделась с ним всего два дня назад и…
Упоминать ли о скандале с подлогом работ? Профессор Фридлендер наверняка и так в курсе. А сейчас явно неподходящий момент.
– А я видел его утром того дня, когда он покончил с собой, – вздохнул Фридлендер. – Казалось, все прекрасно. Да, Тео был немного расстроен тем, что какой-то хоккеист сдал сочинение, явно написанное другим студентом. Но, что поделать, такое случается. Каждый из нас, преподавателей, в какой-то момент проходил через это. Важно другое… Оказывается – и я узнал об этом только вчера, повидавшись с его вдовой Мэриэнн, – вот уже несколько лет психическое состояние бедняги оставляло желать лучшего. Резкие перепады настроения, ужасная бессонница, гнетущее чувство собственной никчемности…
– Но у него же был рак горла, вы знали об этом?
– Рак горла? – переспросил профессор Фридлендер. – Почему вы решили, что у него был рак?
– Профессор Хэнкок сам мне сказал…
– Что у него рак?
– Да.
– Это какой-то абсурд.
– Я не выдумываю, профессор.
– Я ничуть не сомневаюсь в вашей честности, Элис. Просто в прошлом семестре, когда Тео удалили полип, он сказал мне, что, по данным биопсии, полип был доброкачественным. И вчера Мэриэнн никак не намекнула на то, что диагноз оказался неверным. Не могу поверить, что он вам сказал такое.
Я не знала, что ответить. Потому что мне казалось, что у меня из-под ног уплыла почва.
– Я просто в шоке, профессор. Зачем ему было так уверенно сообщать мне, что это рак, если…
– При всей кажущейся стабильности и высочайшем профессионализме, по-видимому, Хэнкок боролся с какими-то ужасными внутренними проблемами… Вы, должно быть, скоро уезжаете из колледжа на лето?
– Через час, даже меньше. Но я вернусь на похороны.
– Благодарю вас за звонок и за информацию, Элис, – сказал Фридлендер. – Я ценю, что вы сохранили все в тайне. Если мне придется придать огласке то, что я от вас услышал, обещаю не упоминать ваше имя.
– Я вам благодарна, профессор.
Как только я повесила трубку, Боб поднял голову:
– Видно, разговор был тяжелый.
Я закрыла лицо руками.
Боб подошел и прижал меня к себе:
– У нас двадцать минут до автобуса… а идти туда минут десять.
Ехали мы налегке, с большими рюкзаками (остальная наша одежда была упакована и уложена на чердаке дожидаться нашего возвращения в августе). Мы рванули к конечной остановке на Мэйн-стрит и успели купить два билета рядом на задних сиденьях в «Грейхаунде»[48], направлявшемся на юг. Оглядевшись и убедившись, что рядом нет знакомых из колледжа, я шепотом пересказала Бобу весь разговор с Фридлендером о профессоре Хэнкоке.
– Судя по тому, как удивился Фридлендер, Хэнкок действительно сказал ему, что полип был доброкачественным. Тогда зачем же он мне говорил, что у него рак? Это же профессор Хэнкок – всегда такой рациональный, уравновешенный…
– Он повесился, Элис. Значит, не был стопроцентно уравновешенным. Наоборот, судя по всему, он был совершенно не в себе.
– У него же все было. Такой красивый дом на Федерал-стрит. Счастливый брак. Три маленьких сына. И он только что заключил бессрочный контракт. Ну, то есть если бы ему отказали в должности, это еще имело бы хоть какой-то смысл. Но получить наконец постоянную работу, а потом наложить на себя руки…
Боб только пожал плечами:
– Как однажды заметил великий Джим Моррисон, «люди странные».
– Это немного поверхностно.
– Убивая себя, человек наказывает тех, кто остался в живых.
– Я не только про это. Если это правда, что рака не было, то он все это время меня обманывал. Зачем ему было это делать?
– За тем же, зачем он покончил с собой.
– И что это за причина?
– А вот это загадка.
Через несколько часов мы катили по шоссе в том самом «вольво», который нашел для нас отец Боба. Колеса! Свобода! Я была рада за Боба. Почти до самого мыса мы ехали практически молча. Мотель оказался паршивым сараем, но в нашем номере были большая кровать и древний кондиционер, который грохотал всю ночь, но все же поддерживал прохладу. Покрасочные работы занимали три часа в день, так что мы старались вставать пораньше, чтобы успеть закончить к полудню, после чего отправлялись на пляж, где и проводили остаток дня. Я обнаружила, что близость моря действует успокаивающе. Мало-помалу я свыклась с тем, что происшедшее – реальность. Острое ощущение беды слегка притупилось. Но чувство потери было огромным. Потом пришло осознание: это уже второй близкий мне человек, решивший добровольно уйти из жизни. Да, смерть Хэнкока заставила меня наконец взглянуть в лицо суровой правде: Карли больше никогда не вернется в мою жизнь. И так же, как тогда, я снова постоянно задавала себе вопрос: почему я не смогла его спасти? Боб был прав: самоубийство – это наказание для тех, кто остался жить. А потому смерть Хэнкока казалась не только ужасным предательством, но и горем, которое теперь нависало надо мной. С Бобом я все это обсуждала лишь в дозированных количествах, потому что не хотела дать ему почувствовать, насколько я была привязана к Хэнкоку. Впрочем, как я вскоре обнаружила, Боб это понял давным-давно.
– Горевать – это нормально, – сказал он мне однажды вечером, когда мы сидели в закусочной на пляже и ели жареных моллюсков, запивая их пивом «Хейнекен». – Хэнкок очень много для тебя значил. Он был важным человеком в твоей жизни.
– Что ты этим хочешь сказать?
– Что меня не обижает, что ты так расстроена.
– Прости, прости.
– Не нужно извиняться.
– Нужно… я чувствую себя виноватой.
– Почему?
– Потому что я должна была бы заметить.
– Что заметить?
– Что профессор Хэнкок собирается покончить с собой.
– Ты была его студенткой, а не психотерапевтом.
– Не было у него психотерапевта.
– Ты точно знаешь?
– Просто предполагаю. Если бы у него был психотерапевт, Хэнкок сейчас был бы жив.
– Или не был. Множество самоубийц обращается к психиатрам или принимает всякие прописанные им милтауны и дарвоны[49], на которые врачи подсадили мою мать… и посмотри, к чему это привело.
Мне вдруг стало ужасно скверно – я только сейчас вспомнила, что Боб почти всю жизнь имел дело с человеком на грани безумия. А еще мне пришло в голову, что огрызаюсь я не просто так, а потому, что мое восхищение профессором балансировало на грани влюбленности – и Боб, явно это понимая, поступает очень благородно, ни слова об этом не сказав.
– Не думай, я с ним не спала, – выпалила я неожиданно для самой себя. – Я не настолько сошла с ума, знаешь ли.
Опустив голову, я заплакала.
Боб взял меня за руку:
– Ты вообще не сошла с ума. Я вовсе не думал, что у вас с Хэнкоком до этого дошло… наоборот, я думал, что такой порядочный джентльмен из Гарварда никогда не переступил бы черту, тем более с любимой ученицей, которую он явно уважал.
– Я не достойна уважения.
– Позволю себе не согласиться. И Хэнкок не согласился бы.
– Не могу поверить, что больше никогда с ним не поговорю, – всхлипнула я.
Однажды поздно вечером мне в мотель позвонила мама – звонок из серии «просто узнать, как дела». Но она тут же заговорила о том, что увидела в «Нью-Йорк таймс» некролог на профессора Хэнкока.
– Если мне не изменяет память – а она обычно мне не изменяет, – твой отец говорил как-то, что так звали профессора, который вроде как питал к тебе теплые чувства.
– Господи, мама…
– Так что… было это?
– Ему нравились мои работы, мам.
За день до похорон мы выехали в Брансуик и добрались до него за семь часов. Церемония прощания проходила в большой конгрегационалистской церкви в начале Мэйн-стрит. Народу было битком. Учитывая, что десятью днями ранее начались летние каникулы и почти все разъехались, я удивилась, как много студентов вернулось ради прощания с профессором Хэнкоком. Я сидела на скамье в среднем ряду, не отводя глаз от простого соснового гроба. Его поставили перед алтарем на специальную подставку. За свои девятнадцать лет я мало бывала на похоронах. Две бабушки и дедушка. Еще одна престарелая бабушка, двоюродная, по имени Минни. Она родилась в Германии в 1870 году и эмигрировала в Америку в 1938-м после Хрустальной ночи. Вот и все. До этого дня. Но в отличие от моих пожилых родственников, которые прожили очень долгую жизнь – Минни, когда она ушла от нас, перевалило за девяносто восемь, – профессору Хэнкоку было немногим за тридцать. Как я обнаружила в то угнетающе жаркое утро в Брансуике, вид гроба, в котором лежит человек немногим старше тебя, вызывает в душе леденящий холод. Я смотрела на этот деревянный ящик с закрытой (слава богу!) крышкой и пыталась представить себе Хэнкока внутри. Гадала, что принесла его жена в похоронное бюро – наверное, твидовый пиджак, серые фланелевые брюки, рубашку со скрытыми пуговицами, вязаный галстук и очки? Будут ли его хоронить одетым так, будто ему предстоит читать лекцию? Положат ли ему в гроб конспект и ручку, чтобы они были с ним в загробном мире? Есть ли у него на шее жуткий рубец от веревки? Показали ли его сыновьям в похоронном бюро? Заметили ли они, как сегодня утром я стояла перед их домом, сказав Бобу, что хочу перед похоронами прогуляться одна? Обратили ли внимание, какой потерянный у меня вид, как будто я случайно добрела до их обшитого зелеными досками дома в федералистском стиле, прислонилась к их железной садовой решетке и забылась в горе?
Вытянув шею, я разглядела в первом ряду жену Хэнкока и трех его мальчиков. Как же он мог так поступить со всеми? Как ни сокрушительны отчаяние, полная безнадежность, ощущение того, что жизнь не может продолжаться, последствия для тех, кто остался жить, – для тех, в жизни которых мы важны, – поистине чудовищны. Время от времени я посматривала на маленького Томаса Хэнкока. Невооруженным глазом было заметно, как он страдает. Мне были очень близки и понятны его чувства, но я не могла этого показать. На кафедру поднялся англиканский священник. Представившись братом профессора Хэнкока, он сказал, что сегодняшняя служба – самая тяжелая из всех, какие ему доводилось вести. Называя своего старшего брата просто Тео, он вспомнил, как они росли в сельской местности в Беркшире, где жили их родители. Рассказал, что, когда ему было десять лет, он, вопреки категорическому запрету входить в воду без взрослых, полез купаться в озеро за домом. Ярдах в пятидесяти от берега ему свело ногу судорогой. Он закричал, стал звать на помощь.
– Родителей не было дома, они ушли к друзьям играть в теннис. Тео сидел на террасе дома, уткнувшись в книгу, как всегда. Услышав мои крики, он бросился к озеру, нырнул, сбросив рубашку и шорты, и подплыл ко мне. Он, наверное, поставил рекорд, так быстро все произошло. Тео прошел небольшую подготовку спасателя, поэтому он точно знал, что делать: помог мне лечь на спину и медленно поплыл к берегу. На полпути мы услышали голос отца – он ругал нас за то, что мы ослушались запрета. На берегу я стал объяснять, что это я сглупил, а Тео спасал мне жизнь. Но папа даже слушать не пожелал, он снял ремень и вытянул нас по попе – каждому досталось по три удара. Знаете, что мне больше всего запомнилось? То, что Тео даже не пытался избежать этой порки, потому что, как он сказал, этим он бы меня предал. А это полностью противоречило его представлениям о нравственности. Таким был мой невероятный брат – он скорее готов был терпеть боль, чем предать близкого ему человека. – У священника дрогнул голос. Он замолчал, пытаясь справиться с эмоциями. Потом продолжил: – Признаюсь, когда пришла ужасающая новость о смерти Тео, я много размышлял об этом случае из нашего детства. И сейчас испытываю глубочайшее чувство вины. Я ведь знал, что у него были свои тяжелые моменты. Мне было известно, что ему, как и многим, довелось познать отчаяние. А в последние два года или около того… нет, конечно, время от времени мы переписывались, а прошлым летом провели вместе несколько дней в загородном доме родителей… Но я был так увлечен своим новым священническим саном и своей собственной семьей, что с братом общался далеко не так часто, как следовало бы. Вот потому я и вспомнил сейчас про тот июльский день 1950 года, когда Тео безропотно принял несправедливое наказание, не выдав меня. Тео спас меня – если бы не он, я утонул бы. Брат подарил мне следующие двадцать лет, которые я прожил с тех пор, – чудесных лет, замечу. Как я хотел бы спасти его. Как я хотел бы, чтобы все это оказалось скверным сном, чтобы не было этой страшной реальности, из-за которой мы с вами собрались здесь сегодня. Как бы мне хотелось, чтобы этот замечательный человек – человек очень неравнодушный, близко к сердцу принимавший слишком многое – обрел этот луч света во мраке. Тео сильно досталось от жизни. А он к тому же очень болезненно воспринимал проступки других. Когда в конце семестра обнаружилось, что студент или группа студентов писали работы за своих соучеников, Тео увидел в этом нарушении этики приговор себе как учителю, даже несмотря на то, что его не в чем было упрекнуть. Мне искренне жаль, что он не знал, насколько он был любим.
В этот момент Томас Хэнкок громко всхлипнул и заплакал. Его мать обняла мальчугана, шепча ему на ухо какие-то утешения. А я сильно прикусила губу, пытаясь держать себя под контролем.
Когда спустя полчаса, после чтения «Отче наш», мы вышли из церкви, в голове у меня крутилась одна мысль: Черт тебя побери за то, что ты так поступил со всеми нами. Будь ты проклят за то, что разрушил во мне последнюю каплю уверенности, что в твоем лице я нашла наконец того разумного и рассудительного взрослого, того советчика и защитника, в котором я всегда так нуждалась. Будь ты проклят за то, что разбудил меня, что открыл ужасную правду: никто не стабилен и никто не защищен. А идеальная жизнь – это ложь. Твое самоубийство не новость, не потеря невинности… я уже проходила все это в школе. Твоя смерть показала мне одно: все мы беззащитны и уязвимы. И разница между разумным и съехавшим с катушек очень и очень хрупка.
Мы с Бобом возвратились на мыс. Закончили покраску дома. Потом поехали на север, в Вермонт. Там мы целый месяц вели достаточно культурную жизнь, обучая обеспеченных старшеклассников, которым грозила опасность не поступить в хороший колледж. Родители сослали их в лагерь, который Боб называл «дорогостоящей образовательно-исправительной колонией у озера» (тогда он как раз читал «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, опубликованный в то лето в английском переводе). Многие из подростков были своевольными и дерзкими. Но нашлось и несколько умных, увлеченных ребят, которые понравились нам обоим. Начитанные и нелюдимые, они не находили с остальными общего языка, я же оценила в них именно эти качества. По прошествии четырех недель мы загрузили рюкзаки в багажник и покатили на север, в Канаду. Для нас обоих это был первый выезд за пределы США. Мы влюбились в Квебек: узкие мощеные улочки, архитектура семнадцатого века, ощущение, что находишься в уголке старой Европы, – и это всего в нескольких часах езды от американской границы. Нам нравилось даже то, что все здесь разговаривали по-французски, а на английском отвечали нам крайне неохотно. Мы нашли очаровательный старый отель со скрипучей кроватью и вентилятором на потолке, словно сошедшими со страниц книг Теннесси Уильямса, всего за восемь долларов за ночь, при том что располагался он прямо в центре Старого города. Неподалеку обнаружились и недорогие рестораны с французской кухней. Мы выпили там море дешевого бургундского. Я пристрастилась к канадским сигаретам «Крейвен Эй». При каждом удобном случае мы с Бобом занимались любовью. Долго гуляли по берегу реки Святого Лаврентия. Бездельничали, сидя в уличных кафе.
Я вслух задала вопрос, похоже ли все это на Париж, а Боб ответил:
– Подозреваю, что хоккей и кленовый сироп не слишком типичны для французской реальности. Но в остальном это немного похоже на Францию в изгнании.
Я пообещала себе, что начну изучать французский в следующем семестре, а в 1974 году проведу год за границей, и именно в Париже. И задала вслух еще один вопрос о том, что меня мучило: что с нами будет через год, когда Боб закончит Боудин и будет готовиться к поступлению в аспирантуру?
– Мы все это обсудим, – ответил он, – как только я буду знать, куда меня примут… если вообще какая-нибудь кафедра английской литературы захочет меня принять.
– Тебя все захотят принять.
– В таком случае, если Гарвард согласится, я тоже соглашусь, и тогда буду всего в ста двадцати милях от тебя. Да еще и папашу своего осчастливлю, потому что он сможет хвастаться всей своей команде, что у него сын учится в Гарварде.
– А ты уверен, что захочешь общаться с простой студенткой из Боудина, когда поселишься в Кембридже[50]?
– С чего это тебя понесло не в ту сторону?
– С того, блин, что я с тобой счастлива и боюсь, как бы все не развалилось.
– Этого не будет.
– Откуда у тебя такая уверенность? – настаивала я. – Тебе всего двадцать, а я тебя связываю.
– Я не заметил у себя на руках цепей. А я вот часто думаю, что недостоин такой умницы, как ты.
Мы провели в Квебеке пять дней, пообещав себе, что вернемся сюда, а еще что обязательно поживем в Париже и постараемся избежать всех жизненных ловушек.
Поездку все же пришлось сократить на несколько дней, потому что с матерью Боба случился жуткий приступ: она голой вылезла на крышу их дома и начала голосить, яростно завывая на луну. Отец позвонил Бобу в отель, рассказал ему новости и расплакался в трубку. Очевидно, сказал он, что электрошок не подействовал и теперь психиатры предлагают положить женщину в психиатрическую клинику. Еще Шон сказал, что Бобу незачем возвращаться в Бостон, что, как объяснил Боб, когда мы уже ехали назад на юг, было его способом сказать: «Давай скорей несись сюда со всех ног». Я предложила поехать с ним, но Боб считал, что в этой ситуации они с отцом должны побыть наедине.
– Я хочу быть рядом с тобой, – призналась я.
– Там будет паршиво, мрачно… и я не хочу тебе это навязывать.
– Я могу с этим справиться.
– Лучше бы мне все же поехать одному, да и отцу так тоже было бы проще. Ты ему очень нравишься, но у старика большие проблемы с самолюбием, и то, что ты будешь рядом, когда маму вот-вот упекут…
Вечером Боб высадил меня в Мэне. Вернулся он спустя четыре дня, а я за это время навела порядок в том бедламе, который оставил наш квартиросъемщик – невероятный неряха! Он ни разу даже не прибрался в квартире. Оставлял фрукты плесневеть в шкафах. Почти не выносил мусор. Не удосуживался даже сметать со столов хлебные крошки. Тараканы были повсюду. Я застала этого парня, когда он паковал вещи. Шок на моем лице был достаточно красноречив.
– Привет, ты прости, я тут немного намусорил.
Стеклянные глаза парня и сладковатое облако дыма от травки, висевшее во всех комнатах, все мне объяснили: мы доверили квартиру закоренелому торчку.
– Ты всегда оставляешь жилье в таком виде? – спросила я, пытаясь сдержать гнев.
– В ящике со льдом две бутылки вина… оставляю тебе, – буркнул парень.
– Оставишь еще свой задаток – пятьдесят баксов, чтобы я наняла уборщицу и дезинфектора.
– Но мне же нужно что-то есть.
– Тогда будь любезен, приведи квартиру в порядок.