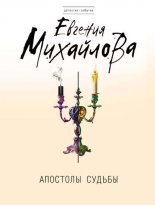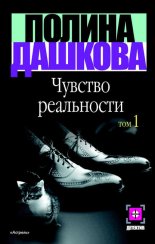Полка. О главных книгах русской литературы Сапрыкин Юрий

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Авторы: Варвара Бабицкая, Полина Барскова, Данила Давыдов, Игорь Кириенков, Вячеслав Курицын, Денис Ларионов, Олег Лекманов[1287], Станислав Львовский, Елена Макеенко, Александр Марков, Лев Оборин, Полина Рыжова, Юрий Сапрыкин, Иван Чувиляев, Валерий Шубинский
Редакторы: Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова, Юрий Сапрыкин
Издатель П. Подкосов
Руководитель проекта М. Ведюшкина
Художественное оформление и макет Ю. Буга
Корректоры Е. Рудницкая
Компьютерная верстка О. Макаренко
Бильд-редактор П. Марьин
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Бабицкая В., Барскова П., Давыдов Д., Кириенков И., Курицын В., Ларионов Д., Лекманов О., Львовский С., Макеенко Е. (наследники), Марков А., Оборин Л., Рыжова П., Сапрыкин Ю., Чувиляев И., Шубинский В., 2023
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2023
Александр Блок. Двенадцать
Небольшая поэма в двенадцати главах рассказывает об отряде из двенадцати красногвардейцев, которые патрулируют улицы погрузившегося в хаос Петрограда. Двенадцать стремятся держать чёткий революционный шаг, но стройность шествия постоянно нарушается – встречей с напуганными горожанами, внезапной и кровавой развязкой любовной драмы и, наконец, самой стихией вьюги, в которой Двенадцать встречают совершенно неожиданного и поразительного Тринадцатого.
В январе 1918 года. Поэма стала откликом на две революции: Блок испытал всплеск вдохновения и закончил черновую работу всего за несколько дней, но затем ещё несколько недель вносил в текст небольшие изменения.
«Двенадцать» на первый взгляд резко отличается от других произведений Блока: сюжет поэмы фрагментарен, задействованы фольклорные мотивы, поэтические размеры, традиционно не ассоциирующиеся с высокой поэзией, просторечие и вульгаризмы: «Ну, Ванька, сукин сын, буржуй, / Мою, попробуй, поцелуй!» При внимательном чтении проясняется не только связь «Двенадцати» со всей поэзией Блока, но и поразительная продуманность композиционного и просодического[1] устройства поэмы, написанной, согласно авторскому мифу, стихийно.
В первую очередь сама Октябрьская революция, которая пробудила у Блока стремление писать после долгого периода молчания и заставила его переосмыслить всю свою поэзию (но, как подчёркивал Блок, не изменить ей). Близкий к народному стих «Двенадцати» действительно продиктован современным Блоку фольклором – традиционным и городским. В «Двенадцати» нагромождаются, цитируются, пародируются многие культурные контексты революционной России – от политических лозунгов до нового, выплеснувшегося на улицу жаргона. На самый сложный образ поэмы – появляющегося в финале Христа – повлияло много факторов. Здесь и личная история богоискательства Блока, которое формировалось в общении с Дмитрием Мережковским, Андреем Белым, Ивановым-Разумником[2], и хорошо знакомые Блоку тексты (например, «Жизнь Иисуса» Эрнеста Ренана, где Христос выведен революционером-анархистом), и мистическое представление о революции, обновляющей мир подобно новейшему Завету.
Александр Блок. Около 1900 года[3]
Поэты-символисты (слева направо): Георгий Чулков, Константин Эрберг, Александр Блок и Фёдор Сологуб. Около 1920 года[4]
Поэма была напечатана 3 марта 1918 года в левоэсеровской газете «Знамя труда» – доживи Блок до 1930-х, ему бы непременно это припомнили, но после смерти поэта «Двенадцать» вошла в центр советского поэтического канона, и о неудобном месте первой публикации было забыто. Первое отдельное издание, проиллюстрированное Юрием Анненковым, вышло через два месяца в издательстве «Алконост» тиражом в 300 экземпляров. При жизни Блока поэма издавалась в общей сложности 22 раза в оригинале и 15 раз в переводах (на французский, английский, немецкий, польский, итальянский, болгарский, украинский языки). Известно, что французские переводы Блока разочаровали, итальянский же понравился.
Поэма вызвала резкое неприятие у коллег Блока, отказывавшихся признавать советскую власть: уничижительные отзывы о ней оставил Иван Бунин, прервала «общественные» отношения с Блоком Зинаида Гиппиус; от участия в вечере, на котором Любовь Блок читала «Двенадцать», отказались Анна Ахматова, Фёдор Сологуб и Владимир Пяст. Позже Николай Гумилёв заявлял, что своей поэмой Блок «вторично распял Христа и ещё раз расстрелял государя» (хотя поэма появилась в печати до расстрела Николая II). Схожие оценки давали антисоветски настроенные критики.
Впрочем, амбивалентность поэмы, особенно её финала, смущала и таких безоговорочных апологетов Октябрьской революции, как Владимир Маяковский, и коммунистических вождей – вплоть до Ленина, и критиков, и просто читателей; учитель Адриан Топоров, несколько раз читавший «Двенадцать» коммунарам-крестьянам, констатировал, что поэма остаётся для них «непреодолимой трудностью».
Стихийность, «фольклорную вечность» поэмы восторженно воспринимал Осип Мандельштам; самую высокую оценку поэме давал Сергей Есенин; так или иначе «Двенадцать» сказалась в текстах Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Велимира Хлебникова. Поэма сразу вошла в исследования филологов-новаторов: Тынянова, Эйхенбаума, Жирмунского. В целом «Двенадцать» стала самым обсуждаемым произведением поэта при его жизни: только в 1918 году были напечатаны десятки рецензий.
Юрий Анненков. Иллюстрация к «Двенадцати». 1918 год[5]
После «Двенадцати» Блок, будто оглушённый собственной поэмой, написал всего несколько стихотворений; самые заметные из них – «Скифы» и «Пушкинскому Дому», по-разному перекликающиеся с пушкинской поэзией. Дополнением к «Двенадцати» можно считать эссе 1918 года «Катилина», которое «исследует психологию превращения смутьяна и преступника в бунтаря и мятежника»[6].
Разочаровавшийся в большевистском правительстве, загруженный работой, которая фатально подорвала его здоровье, не получавший разрешения на выезд за границу для лечения, Блок умер 7 августа 1921 года от эндокардита – воспаления внутренних оболочек сердца. Перед смертью он просил уничтожить экземпляры «Двенадцати»; весной 1921-го он писал Корнею Чуковскому, что Россия слопала его, «как чушка своего поросёнка». Смерть Блока, почти совпавшая по времени с гибелью Гумилёва, стала в сознании современников роковым этапом, окончанием эпохи – той, которую позже назовут Серебряным веком.
«Двенадцать» после смерти Блока осталась главной русской революционной поэмой, чью силу не смогли убить официоз и школьное изучение. Её ритмическое и лексическое разнообразие делает её излюбленным произведением для актёрской декламации – далеко не всегда удачной.
«Двенадцать» может – на первый, самый поверхностный взгляд – показаться набором отдельных стихотворений, выдержанных в разных ритмах. Именно так, к примеру, отзывался о поэме один из недоброжелателей – Иван Бунин: «"Двенадцать" есть набор стишков, частушек, то будто бы трагических, то плясовых». Однако в поэме легко прослеживается сюжет. Двенадцать красногвардейцев патрулируют ночные метельные улицы Петрограда, распевая солдатские и революционные песни. В центре их разговоров – возлюбленная одного из Двенадцати, красногвардейца Петрухи, девица по имени Катька, изменяющая ему с бывшим товарищем – Ванькой. Красногвардейцы встречают любовников, которых везёт извозчик в санях, открывают стрельбу. Ваньке удаётся спастись, Катька случайно застрелена Петрухой. Его мучают тоска и раскаяние, но, стыдясь укоров товарищей, он внешне веселеет и, чтобы унять тоску, призывает к грабежам и погромам. Двенадцать продолжают своё шествие, но чувствуют чьё-то присутствие рядом. Невидимый им, «невредимый от пули», впереди с красным флагом идёт Иисус Христос.
Да. В революции Блок увидел потенциал события, способного изменить весь «европейский воздух», весь мир, «раздуть мировой пожар». «Когда такие замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, в душе народной, разрывают сковывавшие их путы и бросаются бурным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски берегов, это называется революцией», – писал он в статье «Интеллигенция и революция» – манифесте, важном для понимания «Двенадцати». Известно, что позицию Блока приняли в штыки многие поэты его круга: мало кто из символистов, подобно Блоку, был готов сотрудничать с новой властью. «Я думаю, что не только право, но и обязанность их состоит в том, чтобы быть нетактичными, "бестактными": слушать ту великую музыку будущего, звуками которой наполнен воздух, и не выискивать отдельных визгливых и фальшивых нот в величавом рёве и звоне мирового оркестра», – пишет Блок в той же статье. В таком видении революции больше мистики, чем политики. Блок разделял его с немногими – в частности, с писателем и критиком Разумником Ивановым-Разумником, разговоры с которым повлияли на «Двенадцать». Хаос, стихийность, огромность замысла – то, что позволяет закрывать глаза на «фальшивые ноты»; в «Интеллигенции и революции» Блок, в частности, оправдывает те самые грабежи, от которых Двенадцать советуют «запирать етажи»:
Почему дырявят древний собор? – Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой.
Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? – Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа.
Почему валят столетние парки? – Потому, что сто лет под их развесистыми липами и клёнами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему – мошной, а дураку – образованностью.
Владимир Маяковский вспоминал:
Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъезда. Спрашиваю: «Нравится?» «Хорошо», – сказал Блок, а потом прибавил: «У меня в деревне библиотеку сожгли». Вот это «хорошо» и это «библиотеку сожгли» было два ощущения революции, фантастически связанные в его поэме «Двенадцать». Одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, другие – славу ей.
Действительно, «Двенадцать» легко прочесть как оправдание революционного насилия. Но амбивалентность отношения к происходящему, несмотря на призыв: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию», – из «Двенадцати» никуда не девается. В книге «Конец трагедии» поэт, переводчик и критик Анатолий Якобсон писал, что Блок «остался плотью от плоти старой цивилизации, которую сам он назвал гуманной, вкладывая в это особый, уничижительный смысл. Остался, даже ополчившись на самые понятия "цивилизация", "гуманизм"». «Воображение поэта распалялось угольями жгучих идей, но человечность коренилась в его природе», – продолжает Якобсон. Попыткой разрешить конфликт, по Якобсону, и служит поэма «Двенадцать»: личное в ней сталкивается с массовым, любовь Петрухи к Катьке – с классовым чувством товарищей Петрухи, которые грубо его урезонивают.
Автор пародии на «Двенадцать», нарком просвещения Анатолий Луначарский, писал, что Блок был «гениальным попутчиком». С точки зрения большевика, это верная оценка: как только Блоку стало ясно, что мистическое обновление мира обернулось построением новой бюрократии, что дух заменился буквой, с большевиками ему как поэту стало не по пути. Он, впрочем, продолжал сотрудничать с ними как редактор, лектор – и, против своей воли, как бюрократ.
Блок – один из самых музыкальных русских поэтов, и кажется, что «Двенадцать» резко отличается от прочих его вещей: вместо изысканных дольников первых блоковских сборников и чеканных ямбов «Возмездия» – полиритмия, рваная композиция, частушечный, раёшный стих, грубый жаргон. Блок, стремившийся вслушиваться в музыку, гул времени, понял, что нынешняя, меняющая мир музыка – такая; от него требовалось ухватить, записать её. В статье «Как делать стихи?» – программном высказывании о новой поэтике, пришедшей на смену старой вместе с политическими преобразованиями, – Владимир Маяковский пишет о необходимости «дать все права гражданства новому языку: выкрику – вместо напева, грохоту барабана – вместо колыбельной песни» – и приводит примеры именно из «Двенадцати».
Несмотря на всё это, уже ранние исследователи отмечали, что «Двенадцать» связана с прочим творчеством Блока неразрывно. Образы Христа и Катьки нельзя вполне понять без обращения к ранним текстам Блока, вплоть до «Стихов о Прекрасной Даме». В «Двенадцати» есть по крайней мере одна глава, ритмом и звучанием отчётливо напоминающая прежнего Блока: «Не слышно шуму городского…» Близость этой главы к романсу выглядит на фоне «привычного» Блока пародией. Можно предположить, что Блок пародирует собственную прежнюю поэтику – а если смотреть шире, то и романтическую поэтику вообще: ведь вся глава – аллюзия на стихотворение Фёдора Глинки «Песнь узника». Первые две строки – почти дословная цитата из Глинки: «Не слышно шуму городского, / В заневских башнях тишина! / И на штыке у часового / Горит полночная луна!» (Глинка); «Не слышно шуму городского, / Над невской башней тишина, / И больше нет городового: / Гуляй, ребята, без вина!» (Блок). В стихотворении Глинки узник просит милости у царя; американская переводчица и комментатор «Двенадцати» Мария Карлсон предполагает, что стихотворение 1826 года прямо связано с восстанием декабристов. В версии Блока восстание удалось, и никакое обращение к царю за милостью, конечно, невозможно.
Дмитрий Моор. Петрограда не отдадим. 1919 год[7]
«Двенадцать» стала неожиданным следствием из всей поэзии Блока: её символизма, её поиска Вечной Женственности и поклонения Музыке как таковой, её постепенно проявлявшегося историзма. Это следствие потребовало отказаться от прежней блоковской музыкальности, отсечь всю наработанную технику обращения к опыту мировой культуры, кроме самых базовых контекстов. Но если музыкальность ушла, то музыка осталась, остался воспринимающий её слух. Наряду с большим стихотворением «Скифы», поэма «Двенадцать» – огромное и последнее усилие Блока: несколько написанных после неё стихотворений, таких как «Зинаиде Гиппиус», «На поле Куликовом» и, наконец, «Пушкинскому Дому», при всех их достоинствах, были возвращением к старой просодии и старому темпераменту. Маяковский в некрологе Блоку выразил общее мнение многих современников: в «Двенадцати» «Блок надорвался».
Это очевидная параллель, усиленная появлением Христа в финале поэмы. Блоковские Двенадцать – явно не святые и не мудрецы, но и апостолы Христа были людьми простыми. У двоих из Двенадцати, чьи имена мы знаем, эти имена – апостольские: Андрей и Пётр (согласно сниженному стилю времени – Андрюха и Петруха).
Впрочем, если блоковский Христос не может быть Антихристом, то Двенадцать могут быть «антиапостолами». Борис Гаспаров, проанализировавший поэму, отметил её ритмическое и мотивное (вьюга) сходство со стихотворением Пушкина «Бесы»[8]. Если Двенадцать – порождение вьюги, какого-то такого хаоса, какой нельзя истолковать «позитивно», то Христос приходит не чтобы возглавить их, а чтобы изгнать из них бесовщину – или даже изгнать их самих как бесов. Такая трактовка противоречит многим пояснениям, которые делал к своей поэме сам Блок, но это не снимает возможности подобного прочтения – тем более что к нему подводят и другие детали. Например, шествие Двенадцати происходит «без креста». Как указывает Мария Карлсон, здесь сливаются три близких смысла: пародия на крестный ход (впереди шествия Христос несёт вместо креста красный флаг – ещё М. Волошин полагал, что это означает всего лишь замену одного предмета поругания Христа на другой), отсутствие нательных крестов на каждом из Двенадцати и попросту отвержение христианской морали («без креста» здесь, таким образом, то же, что более позднее «без имени святого»). Подробно мотив бесовства в «Двенадцати» разобран в работе Дины Магомедовой «Две интерпретации пушкинского мифа о бесовстве».
Ещё одна релевантная библейская коннотация числа 12 – двенадцатая глава Откровения Иоанна Богослова: «И явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения. ‹…› И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя её к Богу и престолу Его». Крестный путь и апокалиптическое пророчество: эти отсылки – аргументы в пользу «мрачного» толкования поэмы.
В записях Блока периода работы над «Двенадцатью» есть цитата: «Было двенадцать разбойников». Это – строка из стихотворения Николая Некрасова «О двух великих грешниках», входящего в поэму «Кому на Руси жить хорошо». В усечённом виде, с до примитивности упрощённым сюжетом, текст Некрасова пел как романс Фёдор Шаляпин: великий грешник атаман Кудеяр здесь бросает шайку разбойников и уходит в монастырь служить Богу. История о двенадцати разбойниках, предводитель которых становится святым, могла повлиять на Блока помимо евангельского сюжета об апостолах.
Появление Христа в финале «Двенадцати» – главная загадка поэмы. Это заявление столь сильно, что располагает к оглушительным, поверхностным, слишком прямолинейным трактовкам: например, что красногвардейцы действительно новые христианские апостолы, что Христос своим присутствием утверждает правоту их дела. Дмитрий Святополк-Мирский, совершенно верно отмечавший, что Христос в поэзии Блока – не то же, что Христос для христиан, что это особый «поэтический символ, существующий сам по себе, со своими собственными ассоциациями, весьма отличными от Евангелий и от церковных традиций», полагает, что Христос указывает дорогу красным солдатам «против их воли»; сам Блок называл красную гвардию «водой на мельницу христианской церкви».
Разумеется, не стоят внимания утверждения советских критиков о том, что образ Христа – «большая и бесспорная неудача Блока, резкий диссонанс в его поэме»[9] (как будто диссонанс – не часть той «музыки революции», которую призывал слушать Блок!). Существуют и попытки доказать, что Христос в «Двенадцати» – это Антихрист (хотя бы потому, что у настоящего Христа не «белый венчик из роз», а язвящий терновый венец без цветов). При всей соблазнительности такой трактовки, которая сообщает всей поэме роковую амбивалентность, нужно заметить, что она едва ли правдоподобна – равно как и интерпретация Максимилиана Волошина, согласно которой красногвардейцы преследуют Христа, охотятся на него[10], или мысль Марии Карлсон о том, что красногвардейцы хоронят Христа (поскольку на голове у него не венок, а венчик – так называют ленту, которую кладут на лоб усопшему при погребении). В устных пояснениях к «Двенадцати» Блок говорил, что появление Христа было для него самого неожиданным, даже неприятным – но неизбежным. «К сожалению, Христос», – замечал Блок; в дневниковой записи он подчёркивал, что с Двенадцатью идёт именно Христос, хотя «надо, чтобы шёл Другой» (то есть Антихрист, или дьявол). Именно Сын Божий – фигура, подобающая масштабу совершающихся в России событий. Он оказывается там, где происходит страдание и меняется строй мира. Он как будто соткался из вьюги (вьюга, метель – образ, важнейший для всей поэзии Блока, символ, означающий хаос и, как ни странно, жизнь). «Я только констатировал факт: если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь "Исуса Христа"» – так Блок будто самому себе объясняет в дневнике финал поэмы – как мы уже говорили, неожиданный, но единственно верный. Именно такая находка позволяет Блоку после завершения «Двенадцати» записать в том же дневнике: «Сегодня я – гений». Черновики «Двенадцати», впрочем, расходятся с позднейшими разъяснениями Блока и показывают, что Христос возникает в замысле поэмы достаточно рано.
В статье Ирины Приходько об образе Христа в «Двенадцати»[11] рассказывается о том, что значил Христос в жизни Блока: богоискательство у него соединялось с богоборчеством, а на восприятие христианства влияло не догматическое православие, а беседы с Мережковскими, Андреем Белым и писателем Евгением Ивановым – последнему Блок поверял свои мысли о «мучении Христом» и незнании, неприятии Христа. Особенно важным для Блока было самоумаление Христа (омывание ног ученикам, прощение грешников – в том числе распятого вместе с ним разбойника); можно предположить, что Христос «Двенадцати» именно таков. Отметим, что написание «Исус» – старообрядческое, таким образом, Христос «Двенадцати» не связан с каноническим православием.
Разумеется, в «Двенадцати» действует евангельский претекст: так, наиболее рельефный из Двенадцати – красногвардеец Петруха, мучающийся совестью из-за убийства Катьки, – единственный, кто в поэме поминает Спасителя, за что ему достаётся от товарищей; можно отождествить его с апостолом Петром. Но важнее то, что в «Двенадцати», поэме, которая, казалось бы, порывает со всем блоковским поэтическим опытом, постоянно сказываются мотивы этого опыта: если Катька – стихийный, сниженный, но всё так же мучительный «отсвет и отзвук идеала прекрасной дамы»[12], Вечной Женственности, России, то и Христос – отзвук того «Сына Человеческого» (отождествляемого не только с Христом, но и с лирическим субъектом Блока), который появляется в стихотворении «Ты отошла, и я в пустыне…»: «Ты – родная Галилея / Мне – невоскресшему Христу». Обратим внимание: двенадцатая глава поэмы возвращается к регулярному метру и гармоничному звуку: финальные строки – самые музыкальные во всей поэме. По словам Юрия Тынянова, «последняя строфа высоким лирическим строем замыкает частушечные, намеренно площадные формы. В ней не только высший пункт стихотворения – в ней весь эмоциональный план его, и, таким образом, само произведение является как бы вариациями, колебаниями, уклонениями от темы конца».
Соединение революции и мессианства, христологических мотивов можно встретить не только у Блока. Оно отчётливо прослеживается в ранних поэмах и драмах Маяковского (в первую очередь в «Облаке в штанах», изначально носившем название «Тринадцатый апостол», и в «Человеке»). Ответом на «Двенадцать» стала поэма «Христос воскрес» Андрея Белого – многолетнего друга, соперника и собеседника Блока, также исследующая вопрос: может ли среди пулемётных очередей, железнодорожных гудков, криков об Интернационале воскреснуть Христос? Христос в революционном контексте встречался у Белого и раньше, например в написанном раньше «Двенадцати» экстатическом, эсхатологическом стихотворении «Родине»: «Сухие пустыни позора, / Моря неизливные слёз – / Лучом безглагольного взора / Согреет сошедший Христос»; появляющийся в городе фантомный Христос (в непосредственном соседстве с псом и Ванькой в пролётке!) – образ из романа «Петербург». Итак, перед нами если не общее место, то закономерный и обусловленный исканиями модернистов мотив. Почему же у Блока он так поражает? Ответ – именно из-за отказа от прежней музыки, из-за сопричисления Христа апостолам-разбойникам, изображённым без всяких прикрас. Это один из контрастов поэмы – столь разительный, что некоторых мистически и в то же время прореволюционно настроенных современников он убедил в высшей блоковской правоте или подтвердил их собственные мысли.
Советская критика всегда испытывала затруднения в толковании финала поэмы. Сохранились свидетельства о неприятии его читателями-современниками, вполне революционно настроенными, но далёкими от символистской проблематики. В книге учителя Адриана Топорова «Крестьяне о писателях» собраны отзывы крестьян 1920-х годов на «Двенадцать»: «Зря он Христом кончил», «С Богом-то ему нечего бы и соваться» и даже «Я понимаю так, что в этом стихе насмешка над революцией. Он её не возвысил, а унизил».
Мотив любовного треугольника для Блока не новость: если оставить в стороне то, что он реализовался в биографии поэта (Блок – Любовь Блок – Андрей Белый), можно вспомнить о персонажах комедии дель арте – Коломбине, Пьеро и Арлекине, действующих в блоковском «Балаганчике» и нескольких блоковских стихотворениях. Перед нами, таким образом, ещё одна нить, связывающая «Двенадцать» с другими произведениями Блока. Но у любовной трагедии в «Двенадцати» есть и более важная роль: она приносит в поэму основной конфликт – частного, индивидуального с коллективным, массовым. Жалость к убитой Катьке – чувство, выделяющее Петруху из Двенадцати, диссонирующее с их революционным шагом (тоскующий по Катьке, Петруха шагает слишком быстро). Возвращение в строй проходит совсем не так гладко, как может показаться с первого взгляда. Анатолий Якобсон отмечает, что соответствующая строфа: «И Петруха замедляет / Торопливые шаги… / Он головку вскидавает, / Он опять повеселел…» – в общей музыке «Двенадцати» «подобна киксу в оркестре», «звучит фальшивой нотой» (то есть той самой нотой, какие Блок в «Интеллигенции и революции» призывал не выискивать в звучании мирового оркестра!). «Как раз в тот момент, когда сообщается, что убийца "повеселел" под чутким руководством своих товарищей, на поэта будто бы нападает косноязычие», – пишет Якобсон. Обратим внимание, что в сцене убийства Катьки – символического убийства Вечной Женственности – Блок тоже прибегает к «косноязычным» выразительным средствам: скудной лексике, императивной глагольной рифме: «Стой, стой! Андрюха, помогай! / Петруха, сзаду забегай!..»
Юрий Анненков. Иллюстрация к «Двенадцати». Катька. 1918 год[13]
Главная примета «буржуя» Ваньки, с которым гуляет Катька: он солдат. Почему же красногвардейцы испытывают к нему ненависть? Как солдат мог стать буржуем? Главный советский блоковед Владимир Орлов высказал предположение, что Ванька «пошёл… в солдаты Керенского, – может быть… в ударные батальоны, которые формировал Керенский». Анатолий Якобсон возражает: «Общеизвестно, что накануне Октября народ валом валил от Временного правительства к большевикам, и с какой это стати Ванька объявляется уникальной особью, поступившей как раз наоборот? С чего бы это Ваньке из красногвардейцев перекидываться в обречённый стан?»
Красногвардейцы у костра в дни Октябрьской революции. Петроград, октябрь 1917 года[14]
Возможно, на точку зрения Орлова (которую разделяют комментаторы новейшего академического собрания сочинений Блока) подействовали те самые керенки, которые есть в чулке у Катьки – деньги, вероятно полученные от Ваньки, – хотя, чтобы иметь керенки, было вовсе не обязательно быть сторонником Керенского. Якобсон полагает, что «солдат» – не буквальное, а скорее нарицательное обозначение, которое дано человеку, дезертировавшему с фронта и ведущему лихую, беспутную жизнь; «солдатьё» и «юнкерьё», с которыми гуляет Катька, – социальные явления одного ряда. Как бы то ни было, именно внешние признаки «солдатья» – кутежи, показные любовные приключения, черноусость и плечистость, прогулка на лихаче с «елекстрическим фонариком» – вызывают у Двенадцати злобу.
Керенки – так в народе называли купюры, выпущенные Временным правительством (в честь его главы Александра Керенского). Они выпускались без серийного номера и степеней защиты, поэтому особым доверием не пользовались[15]
Блок прозрачно объясняет, что пёс – символ старого мира, отныне отринутого: «Старый мир, как пёс паршивый, / Провались – поколочу!» Пёс, приблудившийся к Двенадцати в конце поэмы, незадолго до этого – спутник буржуя, «упрятавшего нос в воротник»; с этим псом отождествляется и буржуй, и старый мир. Уместно вспомнить, что знаменитое петербургское кафе поэтов, где часто выступал Блок, тогда ещё не разошедшийся со многими своими друзьями-символистами, называлось «Бродячая собака».
Наконец, пёс – один из «бесовских» образов в фольклоре и литературе: нечистое животное в представлении христиан (особенно старообрядцев, как раз придерживающихся выбранного Блоком написания «Исус Христос»), маскировка Мефистофеля в «Фаусте». Для поэмы, в которой большую роль играет контраст, противопоставление пса и Христа (тем более разительное, что они образуют рифменную пару) – подобающий завершающий штрих.
Заглавие «Двенадцать» описывает не только героев поэмы, но и её структуру – двенадцать глав. Поэма открывается и завершается экспозицией. Первая глава – пролог из разных голосов, в который постепенно вступают Двенадцать; их движение – лейтмотив поэмы. Этот пролог напоминает театральный, но посторонние голоса эпизодических персонажей скоро смолкают, и все разговоры, которые ведутся на протяжении поэмы, принадлежат самим красногвардейцам. При этом граница между речью одного и речью другого иногда проводится, а иногда нет, и лишь по косвенным признакам можно понять, что говорят разные люди; так создаётся ощущение монолитности речи Двенадцати. Однако в поэме ни слова не произносит ни Катька, ни её любовник Ванька. Молчит и скрывающийся от Двенадцати Христос: его видит только автор «Двенадцати» – таким образом, в последних строках мы выходим за рамку зрения героев, субъект поэмы смещается. Смещение субъекта – характерный приём «Двенадцати», часто ставящий читателей в тупик: кто, например, говорит о Двенадцати «На спину б надо бубновый туз» – автор или неназванный сторонний наблюдатель?
Во внутренней композиции «Двенадцати» важную роль играют контрасты: цветовым контрастом поэма открывается («Чёрный вечер. / Белый снег»); чуть позже в гамму добавится третий цвет, «психологически» контрастный первым двум, – красный. Стоит заметить, что Блок оперирует базовыми цветами для русской языковой картины мира: именно эти три цвета наиболее частотны в русском языке. Среди других контрастов – слова, обращённые к убитой Катьке: «Что, Катька, рада? – Ни гу-гу… / Лежи ты, падаль, на снегу!» – и признание её убийцы Петрухи в любви к ней. В этом скрытом контрасте – два полюса отношения к женщине; здесь они не противоречат друг другу, и это подтверждает представление о той же Катьке как об одном из аватаров Вечной Женственности.
Уже не контрастно, а калейдоскопически выглядит в «Двенадцати» смена ритмов и песенных жанров. Акцентный, несколько хаотический стих первой главы, напоминающий о ритмике Андрея Белого второй половины 1910-х, сменяется энергичным дольником[16] второй, далее следует четырёхстопный хорей третьей, четвёртой и пятой глав – размер, общий для частушки и, например, пушкинских «Бесов»; в шестой главе появляется немного расшатанный четырёхстопный ямб с парной мужской рифмовкой (самый известный его пример в русской поэзии – «Мцыри» Лермонтова; размер ассоциируется, таким образом, с быстрым разворачиванием эпического сюжета); далее возвращается четырёхстопный хорей, в рамках одной главы переходящий из элегической тональности в плясовую. Восьмая глава – имитация народного стиха, сложный сплав анапеста с хореем. Затем следует девятая глава – полуироническое возвращение к романсной, салонной поэтике, «избитому» четырёхстопному ямбу с перекрёстной женской/мужской рифмовкой. С десятой по двенадцатую главу вновь доминирует хорей – от просторечно-песенного до торжественного; пожалуй, «Двенадцать» – то произведение, в котором потенциал четырёхстопного хорея (размера, часто принижаемого как частушечный или детский) раскрывается наиболее зримо во всей русской поэзии.
С точки зрения композиционных задач такое сложное чередование, с одной стороны, подчёркивает лейтмотив поэмы – шествие и разговоры Двенадцати, с другой – напоминает о хаосе, главной стихии поэмы. Создаётся своего рода бриколаж[17]: поэма творится из подручного, уличного материала. Метры здесь редко стабилизируются – их перебивает заимствованная речь: лозунги («Вся власть Учредительному Собранию!», «Товарищ! Гляди / В оба!»), подчёркнуто нестихотворные фразы («Холодно, товарищ, холодно!»). Этот ритмический приём – одновременно и стилистический: полубессознательное разбойничье бормотание восьмой главы («Ужь я времячко / Проведу, проведу… // Ужь я темячко / Почешу, почешу…») обрывается фразой из молитвы: «Упокой, Господи, душу рабы Твоея…», а затем – сугубо прозаическим безличным: «Скучно!»
Мы уже приводили уничижительный отзыв Бунина о «Двенадцати» как о «наборе частушек». Совсем в другом смысле высказывался Осип Мандельштам[18]:
Самое неожиданное и резкое из всех произведений Блока – «Двенадцать» – не что иное, как применение независимо от него сложившегося и ранее существовавшего литературного канона, а именно частушки. Поэма «Двенадцать» – монументальная драматическая частушка. Центр тяжести – в композиции, в расположении частей, благодаря которому переходы от одного частушечного строя к другому получают особую выразительность, и каждое колено поэмы является источником разряда новой драматической энергии, но сила «Двенадцати» не только в композиции, но и в самом материале, почерпнутом непосредственно из фольклора. Здесь схвачены и закреплены крылатые речения улицы, нередко эфемериды-однодневки вроде «у ей керенки есть в чулке», и с величайшим самообладанием вправлены в общую фактуру поэмы. Фольклористическая ценность «Двенадцати» напоминает разговоры младших персонажей в «Войне и мире». Независимо от различных праздных толкований, поэма «Двенадцать» бессмертна, как фольклор.
Частушкой Блок интересуется задолго до «Двенадцати»: ещё в статье 1908 года «Стихия и культура» он сравнивает народные частушки – «Ты любовь, ты любовь, / Ты любовь святая, / От начала ты гонима, / Кровью политая» и «У нас ножики литые, / Гири кованые, / Мы ребята холостые, / Практикованные…» – и находит их родственными по духу. При этом в «Двенадцати» реальные фольклорные тексты Блок почти не использует – исключений немного: «Как пошли наши ребята / В красной гвардии служить…», «Что, товарищ, ты не весел?» Вместе с тем дух частушки, а то и полублатного куплета – для «Двенадцати» определяющий. Блок высоко оценивал эстрадного поэта-куплетиста Михаила Савоярова, выступавшего в босяцком, пижонском, блатном образе. Не только поэтика куплетов Савоярова, но и его манера исполнения оказали на «Двенадцать» влияние. Блок даже специально приводил свою жену, исполнявшую «Двенадцать» на сцене, на концерты Савоярова, чтобы показать, как следует читать вслух его поэму. Виктор Шкловский в связи с этим – чуть ли не единственный – называл «Двенадцать» «иронической вещью»[19].
Всё в той же девятой главе упоминается «невская башня» (судя по всему, башня здания бывшей Городской думы на Невском проспекте) – в первоначальной редакции она была «старой башней», но Блок изменил текст – как засвидетельствовано в его записной книжке, по совету Есенина. Тем самым он не только ещё больше сблизил начало девятой главы со стихотворением Фёдора Глинки, но и дал точное географическое указание. В этой же строфе «ребятам» предлагается «гулять без вина» – отсылка к разорению винных погребов Петрограда сразу после революции (вино уничтожили, чтобы предотвратить пьяные погромы). Плакат «Вся власть Учредительному Собранию!» – тоже характерная деталь революционного Петрограда.
Первое книжное издание «Двенадцати» вышло с иллюстрациями Юрия Анненкова – одного из самых известных русских графиков-модернистов; его кандидатуру предложил Блоку руководитель издательства «Алконост» Самуил Алянский. Анненков работал с тонкими, твёрдыми и прерывающимися линиями, контрастом чёрного и белого, соединял в рамках одной иллюстрации несколько сюжетов, делал нечто вроде графических коллажей – духу поэмы всё это вполне отвечало. Блок, сначала беспокоившийся, что иллюстрации ему не подойдут, был очень обрадован, увидев результат. Его письмо к Анненкову помогает прояснить собственное блоковское видение героев поэмы. Вот, например, описание Катьки: «Катька – здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка; свежая, простая, добрая – здорово ругается, проливает слёзы над романами, отчаянно целуется… "Толстомордость" очень важна (здоровая и чистая, даже до детскости)». Чтобы растолковать Анненкову значение Христа в поэме, Блоку трудно подобрать слова – но это, может быть, самое полное авторское пояснение к финалу «Двенадцати»: «Знаете ли Вы (у меня – через всю жизнь), что когда флаг бьётся под ветром (за дождём или за снегом и главное – за ночной темнотой), то под ним мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не несёт, а как – не умею сказать)». Красный флаг, таким образом, оказывается символом настолько мощным, что Христос – символ ему под стать (подобно тому, как в «Швее» Зинаиды Гиппиус алый шёлк оказывается попеременно Огнём, Кровью, Любовью, Звуком – и чем-то ещё дальше, совсем большим и сокровенным, – не Богом ли.
Среди других иллюстраторов «Двенадцати» нужно выделить Михаила Ларионова и Наталью Гончарову – их дополняющие друг друга иллюстрации создают ощущение то хаоса, то строгости, близкой к иконописной. Стоят внимания и иллюстрации Василия Масютина, полные чёткой, почти механической штриховки. Примечательно, как сливаются здесь фигуры и лица Двенадцати: благодаря этому они воспринимаются как единый организм. Напротив, образы «старого мира» у Масютина подчёркнуто индивидуальны: это позволяет вчитывать в интерпретацию художника его симпатии и антипатии.
Евгений Замятин. Мы
В XXVI веке на территории бывшей России построено Единое Государство всеобщего равенства. Люди с номерами вместо имён, живущие в городе из стекла и облачённые в одинаковые голубые униформы, синхронно просыпаются, глотают нефтяную пищу, занимаются сексом по розовым талонам и единогласно избирают одного и того же Благодетеля. Любое отступление от идеального миропорядка карается смертью. Главный герой под номером Д-503 – строитель «Интеграла», космического корабля, который должен принести систему математически безошибочного счастья на другие планеты. Но случается непредвиденное: Д-503 влюбляется в женский нумер I-330, деятельницу подпольного сопротивления, мечтающую принести в мир тотального контроля и уравнения хаос, вернуть людей к природе. Это атавистическое чувство меняет героя, заставляет его выйти за Зелёную стену, где живут дикие люди, обросшие шерстью, превращает его в писателя и в революционера: у Д-503 отрастает душа, но это ненадолго.
«Мы» считается первой антиутопией, и многие её предсказания сбылись раньше намеченного автором срока: в романе можно увидеть практики и принципы тоталитарных государств и ужас перед наступлением цивилизации машин.
Замятин, по первой профессии инженер-кораблестроитель, с 1916 года находился в Англии, где руководил постройкой ледоколов для России. После Февральской революции 1917 года он поторопился вернуться в Россию, чтобы своими глазами наблюдать исторические события – плодом его наблюдений отчасти и стал роман «Мы».
Замятин указывал разные годы работы над романом. В автобиографии 1924 года он сообщает, что роман «Мы» написан в 1921–1922 годах, в другом месте пишет: «Роман мой был написан в 1920 году», а в автобиографии 1928-го – новая датировка: «Весёлая, жуткая зима 1917/18 года. Бестрамвайные улицы, длинные вереницы людей с мешками, десятки вёрст в день, буржуйки, селёдки, смолотый на кофейной мельнице овёс. И рядом с овсом – всякие всемирные затеи: издать всех классиков всех времён и народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира… Писал в эти годы сравнительно мало; из крупных вещей – роман «Мы». Друг Замятина художник Юрий Анненков свидетельствует, что летом 1921 года, отдыхая вместе с ним и со своей женой в глухой деревушке на берегу Шексны, писатель уже окончательно «подчищал» свой роман, параллельно работая над переводами то ли из Герберта Уэллса, то ли из Уильяма Теккерея.
Евгений Замятин. 1919 год[20]
«Мы» – своеобразная иллюстрация к размышлениям о новом языке искусства, которые Замятин формулирует в начале 1920-х годов в ряде статей – «Рай» (1921), «О синтетизме» (1922), «Новая русская проза» (1923), «О литературе, революции, энтропии и о прочем» (1923) – и лекциях по технике художественной прозы, которые он читает начинающим писателям. В его публицистике возникают и повторяются все основные идеи романа – о бесконечной революции, о взаимодействии энтропии и энергии, которое управляет миром.
В лекции «О языке» (1920–1921) Замятин утверждал, что язык прозы должен быть «языком изображаемой среды и эпохи». Но как поступать автору, который описывает фантастическую среду и ещё не наступившую эпоху?
В «Мы» таких приёмов несколько.
Чтобы обозначить контраст между современным ему языком 1920-х годов и неведомым языком XXVI века, он вводит неологизмы: «юнифа» (голубая униформа, единственный вид одежды для нумеров), «аэро» (воздушный транспорт, заменяющий нумерам автомобили). Одновременно самые обычные слова русского языка героем закавычиваются, становятся историзмами[21], потому что описывают давно исчезнувшие реалии: «хлеб», «душа», «пиджак», «квартира», «жена».
Странность несуществующего языка Единого Государства показывают новообразованные сложносоставные прилагательные («каменнодомовые», «пластыре-целительные», «волосаторукий», «миллионоклеточный», «детско-воспитательный», «маятниково-точны», «машиноравны») и наречия (I-330 улыбается «иксово», то есть загадочно, Благодетель поднимает руку «чугунно» или «стопудово» – последнее слово в другом значении вошло в русский язык).
Насквозь рационалистическое мышление нумеров отражают научные, в первую очередь математические, метафоры, начиная со сквозного образа интеграла: «две слитных, интегральных ноги, две интегральных, в размахе, руки»; «циркулярные ряды благородно шарообразных, гладко остриженных голов». Вообще, язык Замятина дотошно сконструирован, перенасыщен метафорами – недаром Горький писал, что от него «всегда пахнет потом».
Оборванные предложения, оригинальная пунктуация – двойные тире, постоянные двоеточия – воспроизводят «поток сознания» или речь в момент смятения: «я говорил как в бреду – быстро, несвязно, – может быть, даже только думал. – Тень – за мною… Я умер – из шкафа… Потому что этот ваш… говорит ножницами: у меня душа… Неизлечимая…»
Жанр «Мы» – синтетический: это и философский трактат, и политический памфлет, и любовно-психологический роман, и авантюрная история, и научная фантастика, и всё это – в форме дневника.
Утопическое «Государство» Платона, его же «Законы» и вся порождённая им утопическая традиция: «Утопия» Томаса Мора, «Город Солнца» Кампанеллы и так далее. От Платона здесь – селективный подход к человеческому размножению, регуляция частной жизни, утилитарное отношение к искусству, которое должно воспитывать граждан в правильном духе и отнюдь не обязано питать их чувствительность и будить воображение («В наше государство поэзия принимается лишь постольку, поскольку это гимны богам и хвала добродетельным людям»), иерархическая структура общества: его философам-правителям, Стражам – защитникам Государства и полиции в одном лице – и обычным ремесленникам и землепашцам условно соответствуют у Замятина «сократовски лысый» Благодетель, Хранители и рядовые нумера.
Множество других философов: например, Николай Фёдоров, который в своей «Философии общего дела» поставил перед человечеством цель – овладев стихийными силами в природе и в самих себе, выйти в космос, освоить его, преобразить и заняться «научным воскрешением предков»; у Замятина таким общим делом становится строительство «Интеграла», космического корабля, который должен принести принудительное счастье жителям других планет, стоящим на более низкой ступени исторического развития.
Писатели-фантасты – прежде всего Герберт Уэллс, чьим «городским сказкам с социальным моментом» Замятин посвятил большой очерк. Но и фантасты-соотечественники: например, Александр Богданов[22], в своих социалистических утопиях рисовавший идеально организованный мир-фабрику. Забавный претекст «Мы» можно усмотреть в антиутопическом рассказе другого Николая Фёдорова, озаглавленном «Вечер в 2217 году» и опубликованном в 1906-м, – там уже обнаруживаются основные признаки замятинской антиутопии: обобществление детей и упразднение семьи, евгеника, «воздушники» и «самодвижки», личные номера, обязательная повинность в «Армии Труда» и т. п. Есть там и бережно законсервированный «старый уголок» с цветником и газетным киоском – возможный прототип замятинского «Древнего Дома».
На художественный строй романа сильно повлиял Андрей Белый – отсюда, например, широкое применение математических терминов как метафор.
Всячески – Достоевский. К образу Великого инквизитора и рассуждениям Ивана Карамазова восходит фигура Благодетеля. А весь роман в целом с его идеей «математически безошибочного счастья» – диалог с «Записками из подполья», герой которых вопрошал: «Почему вы так наверно убеждены, что не идти против настоящих, нормальных выгод, гарантированных доводами разума и арифметикой, действительно для человека всегда выгодно и есть закон для всего Человечества?»
В каком-то смысле «Мы» можно рассматривать как развёрнутую издевательскую иллюстрацию к манифестам идеологов Пролеткульта[23], призывавшим к «машинизированию» не только рабоче-производственных методов, но и мышления.
Наконец, Замятин связывал свою «склонность к шаржу, гротеску, к синтезу фантастики с реальностью» с влиянием Гоголя.
В 1921 году Замятин отправил рукопись «Мы» в Берлин, в издательство Гржебина[24], с которым был связан контрактами, и одновременно предложил свой роман петроградскому издательству «Алконост», надеясь прежде всего напечатать его в России.
В России, однако, книгу не пропустила цензура: то, что роман «непроходной», стало окончательно ясно к 1924 году. Вероятно, по причине этого запрета роман впервые вышел в свет в английском переводе Г. Зильбурга – в том же 1924 году, в Нью-Йорке. За этим последовали чешский (Прага, 1927) и французский (Париж, 1929) переводы – роман стал важной частью мировой литературы прежде, чем добрался до русского читателя. По-русски роман «Мы» впервые был издан пражским журналом «Воля России»[25] (номера 2–4 за 1927 год) – без ведома и согласия автора, в сокращённом варианте и, что примечательно, в обратном переводе с чешского языка.
Полный русский текст романа впервые был напечатан в 1952 году в Нью-Йорке Издательством имени А. П. Чехова[26]: источником публикации стала, по всей видимости, рукопись, присланная автором в Нью-Йорк для перевода (рукопись эта, однако, до сих пор не обнаружена). В 1988 году «Мы» был опубликован в СССР в журнале «Знамя». Нормативным сейчас считается текст «Мы», опубликованный в 2011 году, после того как был найден единственный авторский машинописный экземпляр.
Как клевету. Первые слушатели и читатели, познакомившиеся с романом ещё до публикации, восприняли его как пасквиль на большевиков. Максим Горький в личной переписке замечал: «Вещь отчаянно плохая. Усмешка – холодна и суха, это – усмешка старой девы».
С гневной статьёй выступил критик Александр Воронский[27], создавший прецедент в истории русской литературной критики – впервые в прессе громилось неопубликованное произведение; позднее это станет доброй советской традицией – «Пастернака не читал, но осуждаю»[28]. Убийственно ядовито писал о «Мы» Виктор Шкловский в статье с выразительным заглавием «Потолок Замятина»: «Герои не только квадратны, но и думают главным образом о равности своих углов. ‹…› По-моему, мир, в который попали герои Замятина, не столько похож на мир неудачного социализма, сколько на мир, построенный по замятинскому методу. Ведь, вообще говоря, мы изучаем не Вселенную, а только свои инструменты». Шкловский назвал Замятина эпигоном Андрея Белого, упрекнув его в механической эксплуатации одного приёма: «Весь быт… представляет из себя развитие слова "проинтегрировать"».
Появились, впрочем, и благожелательные рецензии. Яков Браун[29], отмечавший европейскую эрудицию Замятина, его «тонкую, инженерную» работу над формой, «сгущённую (под прессом ста атмосфер) экспрессию образов», сравнил его в этом с Флобером. В то же время Браун сетовал, что Замятин «сам слишком инженер и конструктор, чтобы вырваться за "Зелёную стену" Разума к гениальным прозрениям», чтобы изобразить «изумительный XX век» – век социализма и «мировой революции духа» (тут нельзя не заметить, что Браун, будучи современником Замятина, не имел возможности оценить верность его пророчеств, которые изумительный XX век во многом оправдал).
Юрий Тынянов в статье «Литературное сегодня» признал роман удачей, отметив стилистическое мастерство автора: «Инерция стиля вызвала фантастику. Поэтому она убедительна до физиологического ощущения». Но и Тынянов – редкий критик, анализировавший «Мы» не с политической, а с художественной точки зрения, – не оценил его синтетический жанр, высказав претензию, что в утопию напрасно «влился роман – с ревностью, истерикой и героиней», между тем как фантастике это не пристало: «розовая пена смывает чертежи».
Отношения писателя с коллегами и властями усложнялись начиная с его возвращения в Россию в 1917 году. Замятина, «внутреннего эмигранта» (по определению Троцкого), чуть не выслали на «философском пароходе»[30] в 1922 году после публикации статьи «Я боюсь», в которой он нападал на Пролеткульт и новую советскую ортодоксальность. Спасло заступничество влиятельного большевика, редактора «Красной нови» Воронского – который, однако, в том же году обрушится в печати на неопубликованный роман «Мы».
В 1929 году в советской прессе против Замятина началась скоординированная кампания травли. Поводом к ней стала публикация крамольной повести Бориса Пильняка «Красное дерево» в берлинском издательстве «Петрополис»[31], заодно вспомнили и другое произведение, запрещённое к публикации в России и напечатанное за рубежом, – «Мы». Кампания против Пильняка и Замятина стала первым прецедентом преследования за сам факт зарубежной публикации (вскоре опустился железный занавес, а преследованию подверглись и другие «попутчики»[32] – Булгаков, Платонов, Эренбург). Как отмечала эмигрантская пресса, «впервые с самого начала русской письменности русские писатели не только признали полезным существование цензуры, но осудили попытку уклонения от неё путём заграничных изданий»[33].
Замятину пришлось покинуть пост председателя Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей. Путь в литературу ему был закрыт – остановлен готовившийся к публикации четырёхтомник, его пьесы снимали с репертуара и запрещали к постановке. В 1931 году писатель в письме обратился к Сталину с просьбой выпустить его за границу: «Для меня как писателя… смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немыслимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году всё усиливающейся травли». Просьба эта была удовлетворена благодаря заступничеству Максима Горького: Замятин стал последним писателем, отпущенным в такой ситуации, – этой милости не удостоился ни просивший о том же Михаил Булгаков, ни, позднее, сам Горький.
Книга Замятина породила целый жанр, повлияв на все западные антиутопии – такие как «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «1984» Оруэлла и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.
В 1982 году роман «Мы» был экранизирован в ФРГ режиссёром Войтехом Ясны. В 2018 году началась работа над первой российской экранизацией: ею занимается компания всеядного режиссёра Сарика Андреасяна.
Формально Д-503 начинает свои записи, отвечая на социальный заказ[34]: когда огнедышащий «Интеграл» понесёт «математически безошибочное счастье» жителям других, отсталых планет, то прежде принуждения предполагается использовать убеждение – нумеров призывают сочинять «трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства». На деле этот остроумный приём позволяет показать утопический мир под необычным углом.
В классической утопии рассказчик – турист, подобный Рафаилу из давшей название жанру «Утопии» Томаса Мора, чья задача – поведать миру о государстве всеобщего благоденствия, дать очерк о географии, «нравах, учреждениях и законах». Но в замкнутом мире Единого Государства нет «других», которые нуждались бы в таком очерке: для нумеров, живущих под стеклянным колпаком, описываемая реальность – очевидная и единственно возможная во веки веков. «Представьте себе – квадрат, живой, прекрасный квадрат, – пишет Д-503. – Квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже просто не видит – настолько это для него привычно, ежедневно».
Новизна «Мы» в том, что Замятин изобразил утопический мир изнутри, глазами его жителя-нумера, и этот личный взгляд на коллективный рай породил новый жанр – антиутопию. В настоящей утопии невозможен сюжет: «Даже у нас процесс отвердения, кристаллизации жизни ещё не закончился… Идеал (это ясно) там, где уже ничего не случается», – пишет Д-503. Добросовестные записи Д-503 фиксируют нарушения миропорядка и собственное смятение, «как тончайший сейсмограф», показывая, помимо его собственной воли, что статичность Единого Государства – мнимая, она держится на доносах, арестах и смертной казни за любое вольномыслие.
Яков Чернихов. Химзавод. Композиция на тему «завод серной кислоты» (1-й вариант). Из книги «Основы современной архитектуры», 1931 год[35]
Герой в начале книги – носитель коллективного сознания, он считает, что все нумера одинаковы, за вычетом мелких физических различий (вроде формы носов), которые, верит он, наука тоже устранит, исключив любой повод для зависти. И тут в его мире впервые появляется «другой»: «Одни писали для современников, другие – для потомков, но никто никогда не писал для предков или существ, подобных их диким, отдалённым предкам…» – попытавшись представить себе чужое сознание, Д-503 впервые смотрит со стороны на самого себя. Дневник не просто становится зеркалом его психологических изменений, вызванных любовной историей с I-330, его вовлечением в заговор подпольной организации «Мефи» и встречей с дикими людьми из внешнего мира. Процесс писания сам по себе пробуждает в нём личность. Д-503 начинает свои записи с пословного цитирования Государственной Газеты, безличной трансляции «канонического сверхтекста», каждую запись предваряет её «конспектом» («Конспект: Объявление. Мудрейшая из линий. Поэма»). Но как только в нём под действием страсти и ревности начинает проклёвываться «я» – пугающее, дикое, атавистическое, с лохматыми лапами, – текст становится всё более импрессионистическим: «…Нет, не могу, пусть так, без конспекта»; «Запись 38-я. Конспект: Не знаю какой. Может быть, весь конспект – одно: брошенная папироска» (так же в гоголевских «Записках сумасшедшего» по мере того, как путается сознание героя, обычные датировки превращаются в «Мартобря 86-го числа. Между днём и ночью» и «Числа не помню. Месяца тоже не было. Было чёрт знает что такое»).
При этом возможностью описать устройство утопии, досконально известное её гражданину, автор пользуется очень скупо: мы знаем, что каждый кусок нефтяной пищи положено прожевать 50 раз, но не знаем, как её изготовляют и где берут нефть; мы не заглядываем на Детско-воспитательный завод и не узнаём множества других бытовых и технических подробностей. Научная фантастика интересует Замятина не сама по себе, а только как стерильная среда для исследования массового сознания, тоталитарной психологии, а его микроскопом становится самый интимный, лирический литературный жанр – дневник.
Стеклянная архитектура – традиционный для русской утопической мысли образ. Уже в утопических «Петербургских письмах» Одоевского «на богатых домах крыши все хрустальные или крыты хрустальною же белою черепицей»; в «Что делать?» Чернышевского Вера Павловна видит во сне счастливое социалистическое общество, живущее во дворцах, где «чугун и стекло, чугун и стекло – только». У этих дворцов был реальный прообраз – Хрустальный дворец из чугуна и стекла площадью 90 000 м, построенный Джозефом Пакстоном по образцу оранжереи в лондонском Гайд-парке ко Всемирной выставке 1851 года[36]. Хрустальный дворец стал для русских классиков символом научного прогресса, промышленности, рационального устройства быта. Если адом была реальность – тёмные сырые углы, по которым ютился униженный, угнетённый и рахитичный маленький человек Достоевского, то рай предстояло построить на небесах – физически крепкий, сытый, спортивный и загорелый человек будущего, избавленный машинами от изнурительного физического труда, должен был жить на солнце.
Прозрачность стекла символизирует коллективную жизнь. У Чернышевского люди будущего, обобществившие уже быт, процесс принятия пищи, воспитание детей, только на время удаляются по двое в специально отведённые комнаты; у Замятина им соответствует право на час опустить шторы в «сексуальные дни». «А так среди своих прозрачных, как бы сотканных из сверкающего воздуха, стен – мы живём всегда на виду, вечно омываемые светом, – пишет Д-503. – Нам нечего скрывать друг от друга. К тому же это облегчает тяжкий и высокий труд Хранителей. Иначе мало ли что могло быть».
Это описание несёт в себе внутреннее противоречие: нумерам «нечего скрывать» только благодаря тотальной слежке. С этим-то образом Хрустального дворца полемизирует Достоевский в «Записках из подполья» – не с архитектурным проектом, разумеется, а с идеей коллективного, рационально устроенного счастья: «…Тогда, говорите вы, сама наука научит человека… что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши или органного штифтика», все поступки человеческие «будут расчислены… и занесены в календарь… ‹…› Тогда выстроится хрустальный дворец».
В первые годы советской власти художники и архитекторы – Николай Ладовский, Владимир Татлин, Антон Лавинский – проектировали города будущего, вдохновляясь той же идеей «прозрачного» коммунального общежития. Но эта утопическая архитектура не прижилась – «жалкая клеточная психология» взяла своё, человек из подполья оказался прав. От ветшающих домов-коммун советский проект пришёл в конце концов к непрозрачным клеточкам хрущёвок.
«Любовь и голод владеют миром», – замечает Д-503 вслед за неизвестным ему Шиллером. Победив голод при помощи нефтяной пищи и построив замкнутый урбанистический космос, Единое Государство подчиняет себе и вторую природную силу. «Lex sexualis» гласит: «Всякий из нумеров имеет право – как на сексуальный продукт – на любой нумер». Табель сексуальных дней и система розовых талонов должны исключить страсть, ревность и другие деструктивные болезненные явления из сексуальной жизни нумеров.
Эта абсурдистская идея не изобретение Замятина – она отражает настроения эпохи. От знаменитой «теории стакана воды», согласно которой половое влечение следовало удовлетворять так же просто и деловито, как голод или жажду, до предложения учредить «гигиенические публичные дома» для безопасного удовлетворения потребностей учащейся молодёжи. Идеей регуляции сексуальной жизни, семьи и воспитания детей, вплоть до евгеники[37], была одержима советская власть в первые свои годы. В «Двенадцати половых заповедях революционного пролетариата» Арон Залкинд[38] декларировал право класса «вмешаться в половую жизнь своих сочленов», чтобы направлять их «по линии социалирования сексуальности, облагорожения, евгенирования её» – здесь рукой подать до рассуждения Д-503 о благодетельности детоводства по аналогии с садоводством и куроводством, Материнской и Отцовской Норм и о дикости неконтролируемого, «ненаучного» совокупления.
Над идеями Коллонтай[39] о сознательном зачатии и коллективном воспитании детей не потешался только ленивый – взять хотя бы «развёрстки зачатий» в «Неправдоподобных историях» Эренбурга или «человеческие племенные рассадники» в повести Бориса Пильняка. На излёте сексуальной революции, в 1926 году, в нашумевшем рассказе Пантелеймона Романова[40] «Без черёмухи» героиня жалуется: «На всех, кто в любви ищет чего-то большего, чем физиология, смотрят с насмешкой, как на убогих и умственно повреждённых субъектов». Именно как болезнь воспринимает свою пробудившуюся страсть герой «Мы».
Такой же болезнью названы в «Мы» сновидения, творчество (род эпилепсии), душа и в принципе личное сознание: «Вы, конечно, правы: я – неблагоразумен, я – болен, у меня – душа, я – микроб. Но разве цветение – не болезнь? Разве не больно, когда лопается почка? И не думаете ли вы, что сперматозоид – страшнейший из микробов?»
Варвара Степанова. Проект мужского спортивного костюма. 1923 год[41]
Секс – это сама жизнь, природа, которая сопротивляется любой симплификации, организованности и целесообразности. Поэтому свой «Lex sexualis» можно найти у каждого утописта, начиная с Платона и продолжая последователями Замятина. В «Дивном новом мире» Олдоса Хаксли людей изготовляют в пробирках, программируя их будущую социальную роль на физиологическом и ментальном уровне, а секс превращая в механическое удовольствие – часть принудительной системы потребления, стимулирующей экономику. В «1984», наоборот, партийцы, прошедшие через «Молодёжный антиполовой союз» (своеобразный комсомол), совокупляются только ради продолжения рода с партнёрами, подобранными по принципу взаимного отторжения. Жёсткая регламентация секса, человеческой репродукции – постоянный мотив антиутопий, вплоть до популярного сегодня «Рассказа служанки» Маргарет Этвуд.
Вопросом этим Д-503 мучается вместе с читателем и приходит к концу романа к неутешительному выводу.
Есть все основания решить, что не любит. Д-503 нужен ей, потому что он Строитель «Интеграла» – ракеты, которую подпольщики «Мефи» собираются угнать. Розовые талоны к Д-503 она использует как алиби, не приходя к нему на свидание, а вместо того встречаясь с другими мужчинами в Древнем Доме или готовя революцию. При последней встрече Д-503 окончательно уверяется, что стал объектом манипуляции и I-330 пришла к нему не попрощаться, а разведать, о чём говорил он с Благодетелем. Эта уверенность приводит его в отчаяние и заставляет донести на повстанцев.
Однако тот факт, что в иллюзорности любви убеждает героя именно Благодетель – Великий инквизитор, не имеющий причин говорить подследственному правду, – наводит на мысль, что не всё так однозначно.
Даже с учётом того, что I-330 определённо манипулирует Д-503 в своих целях, она идёт на огромный риск, сразу после знакомства показывая ему своё истинное лицо, и окончательно предаётся в его руки, приведя его за Зелёную стену, – а ведь и сам он до последнего уверен, что донесёт на неё в Бюро Хранителей. Интересно, что вообще все женские нумера, которые появляются на страницах «Мы», поголовно влюблены в главного героя. Именно его по-настоящему любит О-90 (между тем как другого своего любовника, R-13, – «только так, розово-талонно»), правоверная контролёрша Ю с рыбьими жабрами идёт ради него на должностное преступление, покрывая Д-503 перед Хранителями: судя по всему, она любит Д-503 вопреки его неблагонадёжности так же, как I-330 любит его вопреки его же правоверности, по её формулировке – «просто-так-любовью». Разгадка неотразимого сексуального магнетизма Д-503 – в его дикой, природной сущности, ему самому поначалу невнятной.
Любуясь волосатой рукой Д-503, I-330 рассказывает ему, что женщинам Единого Государства случалось любить диких людей из-за Зелёной стены: «И в тебе, наверное, есть несколько капель солнечной, лесной крови. Может быть, потому я тебя и —». Этот излюбленный Замятиным синтаксический приём – незаконченное предложение с двойным тире, всегда передающее душевное смятение, – самый веский аргумент в пользу искренности I-330.
Нет. Количество интерпретаций и конспирологических теорий, построенных вокруг системы нумеров, поистине неисчислимо, вот лишь некоторые.
Легко заметить, что согласными звуками и нечётными числами называются в «Мы» мужские нумера – Д-503, R-13, S-4711, а гласными и чётными – женские: I-330, О-90, Ю. Кроме того, у Замятина была своя теория звукообразов: «Р – ясно говорит мне о чём-то громком, ярком, красном, горячем, быстром. ‹…› Звуки Д и Т – о чём-то душном, тяжком, о тумане, о тьме, о затхлом. ‹…› …О – высокое, глубокое, море, лоно. …И – близкое, низкое, стискивающее и т. д.».
И в его Д-503 действительно скрыта некая смутная тьма, чем дальше, тем больше берущая над ним верх, он боится тумана. «Боишься – потому что это сильнее тебя, ненавидишь – потому что боишься, любишь – потому что не можешь покорить это себе», – объясняет ему I-330 («это» – природное начало Д-503, который недаром ненавидит свои атавистически волосатые руки, или, по Фрейду, подсознательное). О-90 олицетворяет в романе женское, природное начало, которое бунтует, не соглашаясь нормировать материнство – это вполне согласуется со значением «лона» и стихии – «моря». Поэта R-13 действительно отличают громогласность и темперамент, а «стискивающая» I-330 порабощает героя.
Помимо этих умозрительных ассоциаций каждый нумер у Замятина создаёт устойчивый зрительный и психологический образ, по определению самого писателя – «интегральный». Каждый герой появляется со своим набором характеристик – чем-то вроде постоянных гомеровских эпитетов типа «шлемоблещущий Гектор». Так, при каждом появлении О-90 нам будет сказано, что она круглая, розовая, как розовые талоны, дающие право на секс, «круглая, пухлая складочка на запястье руки – такие бывают у детей». На своё имя похожа I-330 – «тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст». То же – «двоякоизогнутая тень», сутулый и пузатый S-4711 с «оттопыренными… крыльями-ушами» и «глазами-буравчиками»: все признаки у него парные – и даже улыбка «двоякоизогнутая», ведь S – двойной агент, Хранитель и заговорщик в одном лице.
Устойчивые признаки R-13 – «негрские» губы, «чёрные, лакированные смехом глаза», фонтанирующий звук «п», затылок – «чемоданчик с посторонним, непонятным мне багажом». У R-13 нет очевидного физического сходства с буквой, зато есть явное сходство с Пушкиным (в русском культурном сознании – поэтом вообще), он воплощает собой конфликт поэта и власти. Эта тема была крайне близка самому Замятину: возможно, не случайно здесь выбрана латинская буква R – зеркальное отражение русской Я.
Никита Струве остроумно отметил, что, даже выполняя свой высокий долг – поэтизируя приговор непокорному собрату по перу, R-13 фактически распространяет крамолу, под видом обличения повторяя кощунственные стихи против Благодетеля[42]. Число 13 в его имени – несчастливое, но, кроме того, в нём можно усмотреть намёк на черновое название «Облака в штанах» – «Тринадцатый апостол»: Маяковский – один из возможных прототипов R-13.
Характеристики I-330 – «странный раздражающий икс» бровей, иррациональное начало, не поддающееся цифровому выражению, острые зубы, огонь, полыхающий в глазах за шторами ресниц, «улыбка-укус»: она олицетворяет инакомыслие и бунт. Буквой i обозначается в математике мнимая единица, то есть число, квадрат которого равен –1: героиня символизирует собой тот самый –1, иррациональный корень, который доводит Д-503 до исступления, потому что его нельзя «осмыслить, обезвредить» – но нельзя и отбросить, он существует в самой математике.
А если учесть, что «перевёрнутый икс» на лице героини превращается в крест, а сцена её казни напоминает сцену распятия, I может означать Иисуса (33 в её номере – возраст Христа). Наконец, графически латинская буква I – одновременно римская цифра 1, единица, индивидуальность в мире коллективизма, а по-английски I – это «я»: противоположность «Мы».
Так называемый Древний Дом – свеобразный музей Единого Государства, многоквартирный дом, законсервированный, как можно судить по его обстановке, в 20-е годы XX века. Его назначение – показать нумерам быт древней эпохи, который, как и следует, поначалу производит на Д-503 гнетущее впечатление: «дикая, неорганизованная, сумасшедшая, как тогдашняя музыка, пестрота красок и форм… исковерканные эпилепсией, не укладывающиеся ни в какие уравнения линии мебели».
Это уже второе столкновение Д-503 с миром, отличным от его собственного, ясного и незыблемого. Первое происходит во время лекции по музыкальной композиции – там I-330 демонстрирует превосходство нового изобретения, музыкометра, производящего до трёх сонат в час, над кустарным древним искусством, которое требовало «вдохновения – неизвестной формы эпилепсии». Музыка Скрябина вместо положенного смеха внезапно пробуждает в Д вихрь чувств: «Дикое, судорожное, пёстрое, как вся тогдашняя их жизнь, – ни тени разумной механичности».
И факт существования подобного этнографического музея, и демонстрация нелепой старинной музыки могут показаться легкомыслием со стороны Благодетеля – для чего сохранять подобные уродства в идеальном мире, если даже в правоверном Д-503 они пробуждают фантазию, остраняя привычный миропорядок.
Но такое легкомыслие свойственно победившим идеологиям. Концерт Скрябина в аудиториуме Единого Государства – прообраз нацистской выставки «Дегенеративного искусства» в мюнхенском «Доме немецкого искусства» в 1937 году; тогда Гитлер, боровшийся с авангардом точно так же, как идеологи Пролеткульта, собирался уничтожить произведения «вырожденцев» – кубистов, футуристов, импрессионистов, дадаистов, сюрреалистов, экспрессионистов, фовистов, предварительно продемонстрировав их народу как отрицательный пример. Выставка вызвала ажиотаж – за четыре года её посетили почти 3 миллиона человек (не побитый до сих пор рекорд), движимых, надо думать, не одним отвращением: немалая часть посетителей воспользовалась последней возможностью увидеть современное искусство.
Та древняя культура, которая меняет сознание нумера Д-503, легко опознавалась его современниками как культура русского модернизма. Над ней издевался, например, Шкловский: «Иногда героиня уходит из уравнённого мира в мир старый, в "Старый Дом", в этом "Старом Доме" она надевает шёлковое платье, шёлковые чулки. В углу стоит статуя Будды. Боюсь, что на столе лежит "Аполлон", а не то и "Столица и усадьба"». «Аполлон» – главный журнал модернистов, который пародировал, скажем, Аркадий Аверченко: «Вечером я поехал к одним знакомым и застал у них гостей. Все сидели в гостиной небольшими группами и вели разговор о бюрократическом засилье, указывая на примеры Англии и Америки. – Господа! – предложил я. – Не лучше ли нам сплестись в радостный хоровод и понестись в обетном плясе к Дионису?!» «Столица и усадьба» – первый русский глянец, выходивший с подзаголовком «Журнал красивой жизни», здесь – символ изнеженной пошлости. В Замятине коллеги согласно увидели протест обывателя-индивидуалиста, которому недоступно величие революции: бунтовщики «Мефи», по ядовитому замечанию Шкловского, поклоняются статуе работы Марка Антокольского[43], а в скорбном портрете I-330 узнавали Анну Ахматову.
Замятин говорил: «Д-503 (и другие мои антигерои) – это я». «Мы» в каком-то смысле проверка на прочность собственных былых идеалов и история разочарования в них: большевик в прошлом, писатель после Октябрьской революции оказался в конфликте с властью большевиков. Как и Д-503, он оказался перед выбором: подчиниться государственной идеологии, отречься от свободы творчества, писать верноподданнические, утилитарные тексты, «хирургически удалив себе фантазию», или эмигрировать – как его «нумер», мечтающий бежать за Зелёную стену.
Насквозь рациональный склад ума у Д-503 – от автора, чей «инженерный» подход к прозе с похвалой или упрёком отмечали современники («гроссмейстером литературы» назвал его Константин Федин). Когда он пишет о литературном ремесле, его речь неотличима от стиля и образности Д-503, вплоть до его любимого слова «ясно»: «Для меня совершенно ясно, что отношение между ритмикой стиха и прозы такое же, как отношение между арифметикой и интегральным исчислением. В арифметике мы суммируем отдельные слагаемые, в интегральном исчислении – мы складываем уже суммы, ряды; прозаическая стопа измеряется уже не расстоянием между ударяемыми слогами, но расстоянием между ударяемыми (логически) словами». Художник Владимир Милашевский писал о Замятине: «По всей чёткости своего существа <он> сродни с щелчком логарифмической линейки, арифмометра». Внешний облик писателя Милашевский назвал «дифференциальным и интегральным»[44].
Наконец, главный физический признак Д-503 – тоже от автора, о котором Чуковский писал в дневнике: «Жесты его волосатых рук были спокойны, он курил медленно»[45].
Первый литератор, который появляется в записях Д-503, – его друг поэт R-13. Несмотря на то что у героя он с самого начала вызывает смутные сомнения (он «не точен, не ритмичен, у него какая-то вывороченная, смешливая логика»), R-13 – официальный поэт, которому выпала высокая честь – сложить гимн в честь публичной казни своего коллеги. Так вводится второй писатель – бунтарь, который решил, что он – гений, а «гений – выше закона», и ни с того ни с сего написал крамольные стихи, где назвал Благодетеля непечатным словом (судя по всему – «палач»), за что его публично казнят. Единственный раз он появляется перед нами безымянным – его золотая номерная бляха сорвана: хотя бы перед смертью он – уже не «нумер».
Третий поэт – Пушкин, чью «курносую асимметрическую физиономию» герой видит на стене Древнего Дома (единственное явное указание, что Единое Государство располагается на территории бывшей России).
Четвёртый поэт – сам Д-503. Поэтом он себя, конечно, не считает: он математик, его «привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм». Но тем не менее отвечает на призыв Государственной Газеты и принимается писать, сочтя, что раз он – носитель коллективного сознания, то все записанные им мысли и факты – «производная от… математически совершенной жизни Единого Государства», а значит, написанное будет «само по себе, помимо моей воли, поэмой» (отсылка к поэме о Великом инквизиторе, которую сочиняет у Достоевского любитель «фактиков» Иван Карамазов).
Наконец, пятый писатель – сам автор, незримо водящий рукой Д-503. Его постоянное присутствие выражается в иронии, недоступной пониманию героя. Когда Д-503 называет величайшим памятником древней литературы «Расписание железных дорог», он и не думает шутить. Когда врач сообщает ему: «Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась душа», Д-503 воспринимает новость с неподдельным ужасом. Не слышит он иронии и в словах R-13: «Мы – счастливейшее среднее арифметическое… Как это у вас говорится: проинтегрировать от нуля до бесконечности – от кретина до Шекспира».
В конечном счёте все писатели, появляющиеся в «Мы», оказываются авторскими двойниками. И сам Д-503 смыкается с автором всё больше по мере того, как обретает собственную речь. Он начинает чувствовать, что живёт «отдельно от всех, один, огороженный мягкой, заглушающей звуки, стеной, и за этой стеной – мой мир» – как будто ему жмут границы текста, «математическая поэма в честь Единого Государства» превращается в «фантастический авантюрный роман».
Пытаясь рационализировать изменения своего текста («густой приключенческий сироп» поможет скормить читателю горькие истины), он перестаёт различать текст и реальность – ведь «фантастическим романом» его записи становятся по мере того, как он конспектирует собственную жизнь. Чем дальше, тем больше Д-503 уверяется, что мир, который он описывает, создал он сам – «мифическим богом в седьмой день творения» называет его при первой встрече I-330, когда он, озирая залитую солнцем утопию, иррационально боится двинуть локтем, чтобы не разбить её в осколки. Неведомый собеседник становится всё более реальным, а окружающие нумера, наоборот, развоплощаются: «А может быть, сами вы все – мои тени. Разве я не населил вами эти страницы – ещё недавно четырёхугольные белые пустыни». В конце книги рукопись рассыпается: мир распадается и из трёхмерного замкнутого куба оборачивается двухмерной схемой на книжной странице – похожий фокус происходит в конце «Алисы в Стране чудес», где Червонная королева, рубящая всем головы, и её приближённые разлетаются колодой карт.
Время написания «Мы» – это время, когда развернулась дискуссия о социальном заказе в искусстве. Замятин зло пародирует риторику и практику поэтов Пролеткульта, в «Мы» изображённого в виде института Государственных Поэтов и Писателей, которые ежедневно, по звонку, от 8 до 11 служат идеологии: «Теперь поэзия – уже не беспардонный соловьиный свист» (привет Борису Пастернаку, в 1917 году определившему поэзию как «двух соловьёв поединок»). «Поэзия – государственная служба, поэзия – полезность».
Главная мишень – пролетарский поэт Алексей Гастев[46], который предлагал «инженерить» человека, чтобы ускорить его слияние с машиной: «Загнать им геометрию в шею. Логарифмы им в жесты». В стихотворении «Гудки» («Поэзия рабочего удара», 1918) Гастев заявляет: «…утром, в восемь часов, кричат гудки для целого миллиона. / Теперь мы минута в минуту начинаем вместе. / Целый миллион берёт молот в одно и то же мгновение» – ему вторит Д-503: «Каждое утро, с шестиколёсной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту мы, миллионы, встаём как один. В один и тот же час единомиллионно начинаем работу – единомиллионно кончаем».
Всё, что выглядит в романе Замятина абсурдной и уродливой гиперболой, было официальной идеологией Пролеткульта. Владимир Луговской[47], по собственной аттестации – «политпросветчик, солдат и поэт», писал в стихотворении «Утро республик» (1927): «Хочу позабыть своё имя и званье, / На номер, на литер, на кличку сменять». Задним числом всё это читается как прямое предсказание ГУЛАГа: на смену Д-503 и S-4711 придёт Щ-854 – солженицынский Иван Денисович. Но Замятина едва ли не больше, чем физическое уничтожение личности при тоталитаризме, волновало уничтожение – в первую очередь самоуничтожение – искусства.
В статье «Я боюсь», созданной в том же 1921 году, что и «Мы», Замятин пишет о новых «придворных поэтах», которые колеблются в своём письме вместе с социальным барометром: «У всех пролеткультцев, – заключает писатель, – революционнейшее содержание и реакционнейшая форма». Среди них он с сожалением выделяет Маяковского, раннего и искреннего певца революции, который, однако, после её победы занялся усовершенствованием «казённых сюжетов и ритмов».
Любимые литературные произведения Д-503 – «Ежедневные оды Благодетелю», «Цветы Судебных приговоров», бессмертная трагедия «Опоздавший на работу» и книга «Стансов о половой гигиене» – звучат как абсурдистский юмор, но в действительности близко перекликаются с утилитарными стихами Маяковского – «Окнами РОСТА[48] и Главполитпросвета» 1919–1922 годов, призывавших: «Не пей сырой воды», «Рабочий, береги золу!», «Все члены партии подлежат проверке» или «Без крупной промышленности коммунизма нету».
Маяковский – один из возможных прототипов R-13, государственного поэта, который трясущимися губами прославляет казнь товарища по цеху. Поэт в тоталитарном обществе вынужден писать под диктовку пропаганды, замолчать или погибнуть: «Настоящая литература может быть только там, где её делают не исполнительные и благонадёжные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики».
Но едва ли не худшая трагедия R-13 состоит в его внутреннем раздвоении: он пытается внутренне примириться с государственной идеологией, сочиняя «райскую поэмку» (прямая аллюзия на «Великого инквизитора») о счастье избавления от бремени свободы, уточняя – непонятно, для Д-503 или для себя: «И при этом тон серьёзнейший…» Чиновник R-13 гибнет как автор, и его физическая смерть в конце романа, в ходе бунта, становится символом освобождения.
Антиутопия Замятина переполнена евангельскими аллюзиями – сам Д-503 проводит параллель между репрессивной идеологией Единого Государства и христианством, сравнивает День Единогласия – ежегодные выборы Благодетеля – с древней Пасхой, тайную полицию – с ангелами-хранителями, а доносы на близких – с исповедью, при которой лица нумеров теплятся, «как лампады». Прямыми предшественниками нумеров он называет христиан, понимавших, что «смирение – добродетель, а гордыня – порок и что «МЫ» – от Бога, а «Я» – от диавола».
В этом свете 40 записей – «конспектов» – самого Д-503 можно уподобить сорока дням Великого поста, предшествующим Пасхе и символизирующим сорокадневное искушение Христа в пустыне. Д-503 тоже переживает опыт искушения, в результате которого у него «образовалась душа». Характерно, что только в конце мы узнаём возраст главного героя – 32 года: он духовно гибнет, не успев войти в возраст Христа, – то есть подвергается операции по удалению фантазии и превращается в «человекообразный трактор». Он оказывается Христом, который не воскрес.
Это кажется противоречием. Однако образ Христа писатель трактует очень неортодоксально: как еретика, бунтаря, провозвестника свободы, которому противопоставлена церковь, репрессивными средствами насаждающая мёртвые бесчеловечные догмы якобы во имя Его. Такому Христу он, напротив, симпатизирует: «Христос на Голгофе, между двух разбойников, истекающий кровью по каплям, – победитель, потому что Он распят, практически побеждён. Но Христос, практически победивший, – Великий Инквизитор»[49], – пишет он ещё в 1918 году, в полемической рецензии на альманах «Скифы»[50]. Подлинный «скиф», революционер (здесь – художник, но не только) всегда работает на будущее и противится всякой оседлости, он никогда не почивает на лаврах и во все времена может быть только диссидентом. Любая идея – например, «Победоносная Октябрьская революция», как именуется она в официальных источниках, – «ставши победоносной, омещанивается», то есть стремится пресечь любую свободу мысли, предотвратить дальнейшие изменения, стать застывшей утопией: «Остричь все мысли под нолевой номер; одеть всех в установленного образца униформу; обратить еретические земли в свою веру артиллерийским огнём».
Вечный конфликт счастья (то есть сытого анабиоза, построенного на рациональных началах) и свободы воли, который решается в «Мы», – продолжение спора братьев Карамазовых. Благодетель близко к тексту пересказывает Д-503 «Легенду о Великом инквизиторе». Бог, говорит он, обрёк Христа на казнь; Бог сжигает неверных на адском костре; Бог – палач. И всё же его славят как Бога любви, потому что «истинная, алгебраическая любовь к человечеству» – непременно жестока; люди – как дети, им нужно, чтобы кто-то цепью приковал их к счастью. «Вспомните: в раю уже не знают желаний, не знают жалости, не знают любви, там – блаженные с оперированной фантазией (только потому и блаженные) – ангелы, рабы Божьи…»
Фабрика-кухня. 1930 год. Фотография Аркадия Шайхета[51]
Закономерно, что таким же двусмысленным, как Христос, оказывается в «Мы» и дьявол – искусительница I-330 с её «улыбкой-укусом» и бровями-рожками и её революционным движением «Мефи», производным от Мефистофеля, «величайшего в мире скептика и одновременно – величайшего романтика и идеалиста»[52]. Брови и носогубные складки I-330 – «неприятный, раздражающий Х» – одновременно кладут на её лицо крест; I – дьявол и Христос в одном лице. Идея в духе времени: здесь можно вспомнить другого священнического сына – Булгакова с его неортодоксальным Иешуа и эпиграфом из того же «Фауста» Гёте, к которому апеллирует Замятин: «Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».
Именно так прочитали роман его первые слушатели и читатели – и возмутились. В 1922 году Михаил Пришвин писал в дневнике, что свой роман Замятин построил «на обывательском чувстве протеста карточной системе учёта жизни будущего социалистического строя и, взяв на карту эротическое чувство… привёл идею социализма к абсурду»[53], посетовав, что столько таланта и мастерства зря потрачено на беззубый обывательский памфлет. Ещё резче – в дневнике Чуковского: «Роман Замятина "Мы" мне ненавистен. Надо быть скопцом, чтобы не видеть, какие корни в нынешнем социализме»[54]. Критик Воронский в том же 1922 году с гневом писал, что роман Замятина «целиком пропитан неподдельным страхом перед социализмом, из идеала становящимся практической, будничной проблемой». Последовательно доказывая, что сатира Замятина никоим образом не может относиться к коммунизму в его советском изводе, критик-большевик тем не менее заканчивает статью характерным призывом – так мог бы написать Д-503, сойдя со страниц утопии:
Мы, коммунисты, помним их твёрдо: мы должны жить теперь как фанатики. А если так, то какую роль играет здесь то узко-индивидуальное, что особенно ценит автор? Вредную, обывательскую, реакционную. В великой социальной борьбе нужно быть фанатиками. Это значит: подавить беспощадно всё, что идёт от маленького зверушечьего сердца, от личного, ибо временно оно вредит, мешает борьбе, мешает победе. Все – в одном, – только тогда побеждают.
Однако стоит помнить, что Замятин сам был большевиком. Ещё в 1905 году он вступил в большевистскую фракцию РСДРП, тогда же был арестован за участие в революционных событиях 1905 года и провёл несколько месяцев в одиночном заключении, в 1914 году за повесть «На куличках» был судим и выслан из Петербурга. В «Автобиографии» 1929 года он писал: «В те годы быть большевиком – значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я тогда был большевиком».
Сатирический пласт «Мы» очевиден, но задача там поставлена более обширная: проверить на прочность идею рационального конструирования человеческого счастья. Писатель буквально ставит эксперимент – создаёт сферический (или, в его случае, квадратно-гнездовой) коммунизм в вакууме и смотрит, что получится. Причём коллизию, которая легла в основу романа, писатель разрабатывал и раньше, в совсем иных декорациях. Уже в повести «Островитяне» (1917), действие которой происходит в английском провинциальном городке Джесмонде, герой, викарий Дьюли, сочиняет трактат «Завет принудительного спасения» – первый набросок Часовой Скрижали Единого Государства, регламентирующий по часам все труды и дни, быт и секс с женой. С воодушевлением устремившись в Россию навстречу революции, писатель с тревогой обнаружил, что механистичные островитяне – это «мы»: «Мы пережили эпоху подавления масс; мы переживаем эпоху подавления личности во имя масс; завтра – принесёт освобождение личности во имя человека, – писал он в 1919 году. – Война империалистическая и война гражданская – обратили человека в материал для войны, в нумер, цифру. Человек забыт – ради субботы: мы хотим напомнить другое – суббота для человека».
По собственному признанию писателя, лучше соотечественников понял его замысел Джордж Оруэлл, писавший в рецензии на «Мы»: «Вполне вероятно, однако, что Замятин вовсе и не думал избрать советский режим главной мишенью своей сатиры. ‹…› Цель Замятина, видимо, не изобразить конкретную страну, а показать, чем нам грозит машинная цивилизация».
«Мы» – роман об уничтожении личности массовой идеологией конвейера, о разрыве человека с природой в век машин. В такой же мере, как к советской России, сам автор относил свою антиутопию к американскому фордизму[55].
«Представьте себе страну, где единственная плодородная почва – асфальт, и на этой почве густые дебри – только фабричных труб, и стада зверей только одной породы – автомобили, и никакого другого весеннего благоухания – кроме бензина. Эта каменная, асфальтовая, железная, бензинная, механическая страна – называется сегодняшним XX столетия Лондоном», – писал Замятин в очерке о Герберте Уэллсе. Такой мир неизбежно рождает свои «механические, химические городские сказки» – и как раз «городской сказкой» он назвал свой роман «Мы». С учётом того, что сам Замятин был инженером-конструктором и строил ледоколы, а в литературе его занимал прежде всего жанр научной фантастики, примечательно, что в его фантастическом мире всевозможной технике – «аэро» и даже ракете «Интеграл» – уделено довольно мало внимания. Настоящие машины в Едином Государстве – люди, нумера.
Плакат фильма «Киноглаз». 1924 год. Режиссёр Дзига Вертов. Художник Александр Родченко[56]
Уподобление людей винтикам и шестерёнкам государственной машины стало уже затрёпанной негативной метафорой. Но для многих современников Замятина уподобление человека машине или её составной части было образом светлого будущего. В те же годы, когда создаётся «Мы», кинорежиссёр-документалист Дзига Вертов пишет в манифесте своего проекта «Киноглаз»:
«Психологическое» мешает человеку быть точным, как секундомер, и препятствует его стремлению породниться с машиной. ‹…› …МЫ исключаем временно человека как объект киносъёмки за его неумение руководить своими движениями. Наш путь – от ковыряющегося гражданина через поэзию машины к совершенному электрическому человеку.
Алексей Гастев, развивая идеи Тейлора[57], призывал распространить «социалистическое нормирование» на весь быт рабочего класса: «Нормировочные тенденции внедряются в… социальное творчество, питание, квартиры и… даже в интимную жизнь вплоть до эстетических, умственных и сексуальных запросов пролетариата»[58].
Вторя теоретику Пролеткульта, Д-503 уподобляет себя машине, а машину, наоборот, наделяет душой; с ракетой «Интеграл» его связывают почти эротические отношения: «Я нагнулся, погладил длинную холодную трубу двигателя. Милая… какая-какая милая. Завтра ты – оживёшь, завтра – первый раз в жизни содрогнёшься от огненных жгучих брызг в твоём чреве».
Однако реальное столкновение с «человекообразными тракторами», – нумерами, перенёсшими Великую Операцию по удалению фантазии, – вызывает у Д-503 не восхищение, а ужас. «Пусть назовут меня идеалистом и фантазёром», писал он когда-то, мечтая, что скоро у людей не останется ни единой личной секунды, не вписанной в единую Часовую Скрижаль, что он наяву превратится в «стального шестиколёсного героя великой поэмы». В конце книги именно это и происходит с Д-503, но счастья ему это не приносит, потому что машины не чувствуют счастья.
Идеология Единого Государства построена на математических принципах – понятно, что именно математик может объяснить их наилучшим образом и фанатично верит в них: идеологическая абстракция для него – реальность. Мы увидели бы совсем другой мир, если бы посмотрели на Единое Государство глазами I-330, R-13 или даже О-90, которая с непосредственной брезгливостью воспринимает намерение Д-503 отправиться с доносом в Бюро Хранителей: «Вы идёте к шпионам… фу!»
Д-503 искренне верит, что мир рационален. Так, например, если счастье – это дробь, где блаженство – числитель, а зависть – знаменатель, из этого выводится принцип обязательного равенства нумеров. Теми же логическими средствами доказывается необходимость тотального контроля и репрессий: «Свобода и преступление так же неразрывно связаны между собой, как… ну, как движение аэро и его скорость: скорость аэро = 0, и он не движется; свобода человека = 0, и он не совершает преступлений. Это ясно».
Прямое следствие из арифметической морали – ничтожная ценность отдельного человека. При испытании «Интеграла» под его соплами оказался «с десяток зазевавшихся нумеров», от которых «ровно ничего не осталось, кроме каких-то крошек и сажи», – Д-503 с гордостью отмечает, что работа при этом не замерла ни на секунду, никто не вздрогнул: «Десять нумеров – это едва ли одна стомиллионная часть массы Единого Государства, при практических расчётах – это бесконечно малая третьего порядка». Жалость арифметически безграмотна, ergo герой её не испытывает (с таким же удовлетворением писал в сборнике «Пачка ордеров» (1921) идеологический оппонент Замятина – Гастев: «Сорок тысяч в шеренгу. ‹…› Проверка линии – залп. Выстрел вдоль линии. Снарядополёт – десять миллиметров от лбов. Тридцать лбов слизано – люди в брак»).
Но именно математика в конце концов подводит Д-503, разрушив его стройное мировоззрение, поскольку содержит в себе самой иррациональное число – –1. Если «всякому уравнению, всякой формуле в поверхностном мире соответствует кривая или тело», значит, должны быть соответствия и для формул иррациональных. А значит, нелепая, неосязаемая «душа» так же реальна, как сапоги.
Спортсмены. 1935 год. Фотография Александра Родченко[59]
В детстве это иррациональное число доводило Д-503 до истерики: «Не хочу –1! Выньте из меня –1!» Это – эхо «Записок из подполья»: «Господи боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся?» Только герой Достоевского отстаивает своё право не любить таблицу умножения, а герой Замятина за собой этого права не признаёт, как и всякого проявления личного сознания, ведь личное сознание – это болезнь: «…Чувствуют себя, сознают свою индивидуальность – только засорённый глаз, нарывающий палец, больной зуб: здоровый глаз, палец, зуб – их будто и нет…»
У психоаналитиков есть анекдот о различии между психотиком и невротиком: «Психотик думает, что дважды два – пять. Невротик знает, что дважды два – четыре, но он это ненавидит». Пусть Д-503 ненавидит иррациональный корень, но, мысля как математик, не может не учитывать его в своих расчётах. В отличие от него, герой другой знаменитой антиутопии – «1984» Оруэлла – в конце под пытками не просто признаёт, но и начинает верить, что дважды два – пять, как того требует государственное «двоемыслие», то есть принудительный психоз.
Джордж Оруэлл в своей рецензии на «Мы» назвал главной заслугой Замятина «интуитивное раскрытие иррациональной стороны тоталитаризма». Если Замятин свою утопию сочинял умозрительно, то сам Оруэлл писал «1984» в 1949 году – уже с натуры, по опыту нацизма и сталинизма. Поэтому антиутопия Оруэлла – уже не геометрический, стерильный стеклянный рай сытости и равенства, а убогие трущобы, где царит дефицит и пахнет нужником, капустой и половыми тряпками. Если бы Замятин, как полагали его критики, действительно написал просто пасквиль на быт эпохи военного коммунизма, реалистический запах нужника витал бы и в Едином Государстве. Но он взял раннесоветские реалии и построил их идеальную математическую проекцию, чтобы показать, что страдания нумеров – не просто временные издержки революции, неизбежные жертвы на пути к светлому будущему: они неотменимо вшиты в саму тоталитарную идеологию, потому что счастье без свободы противно человеческой природе.
«В наши дни единственная фантастика – это вчерашняя жизнь на прочных китах. Сегодня Апокалипсис можно издавать в виде ежедневной газеты; завтра – мы совершенно спокойно купим билет в спальном вагоне на Марс. ‹…› И искусство, выросшее из этой сегодняшней реальности, – разве может не быть фантастическим, похожим на сон?» – писал Замятин в статье «О синтетизме». Его роман опирается на реалии военного коммунизма, но доводит их до гиперболы, до предельной абстракции. Тем не менее, описывая конец света, Замятин довольно точно угадал в нём черты будущего миропорядка.
Когда-то Великая Двухсотлетняя Война между городом и деревней истребила большую часть человечества. Зато выжившие 0,2 % населения земного шара «вкусили блаженство в чертогах Единого Государства», где питаются нефтяной пищей, забыв, что такое хлеб: городская цивилизация победила, отгородившись от природы Зелёной стеной. Это почти предсказание массового голода 1932–1933 годов, ставшего следствием индустриализации – выкачивания ресурсов из деревни ради развития промышленности.
В сцене праздника Правосудия – публичной казни, которую предваряют казённые славословия, – можно увидеть прообраз будущих сталинских публичных процессов, и здесь же Замятин фактически предсказал собственную травлю – появление поэтов, которые оплёвывают своих собратьев и славят репрессии. А одновременно – психологию гражданина тоталитарного государства, который повторяет его догмы с фигой в кармане и сам не знает, во что он верит, – прототип «двоемыслия», описанного позднее Оруэллом. Все персонажи вокруг Д-503 как будто повторяют его же мысли, но и он, и читатель не может не чувствовать подвох.
Из других воплотившихся позднее образов – газовый Колокол, в котором пытают нумеров при допросах: прообраз газовой камеры. Тотальная слежка, которая станет возможной благодаря новым технологиям – таким, как «уличная мембрана», записывающая разговоры для Хранителей. День Единогласия – ежегодные безальтернативные выборы диктатора: в советских избирательных бюллетенях значилось единственное имя, тем не менее выборы оставались обязательным ритуалом.
Наконец, Замятин угадал важный принцип, без которого не могла бы впоследствии существовать плановая экономика: систему блата. В «Мы» множество намёков, что мир Единого Государства не так прозрачен и унифицирован, как полагает простодушный главный герой. I-330, своеобразная богема Единого Государства (она играет на рояле музыку Скрябина во время лекций о музыкальной композиции), пьёт алкоголь и курит сигареты – и то и другое запрещено под страхом смерти, однако подпольно синтезируется медиками, – очевидно, не для одной I-330. Привилегированные нумера – сотрудники Медицинского Бюро, Бюро Хранителей и так далее – выписывают друг другу липовые справки, позволяющие увильнуть от работы для тайного свидания или подрывной деятельности, очевидно могут манипулировать в своих интересах Табелем сексуальных дней и ограждать друг друга от преследования – как и поступает двойной агент S-4711.
Из хорошего утопист предсказал появление электрической зубной щётки.
Велимир Хлебников. Зангези
Пророк по имени Зангези проповедует перед людьми, сообщая им подробности единых законов времени, истории и человеческих судеб, обучая звёздному языку и рассказывая о разновидностях разума. Среди других действующих лиц – боги и птицы, все они разговаривают на своих языках, входящих в утопическую лингвистическую вселенную Хлебникова. Одно из последних произведений Хлебникова, «Зангези» – концентрированная сумма его идей, наитий и приёмов: фигуры поэта-пророка как главного актёра мироздания; мистического предвидения, основанного на математическом священнодействии; словотворчества как нового описания мира.
Тексты, вошедшие в «Зангези», Хлебников пишет в последние годы жизни, с 1920-го по 1922-й. В рукописях Хлебникова есть пометка: «"Зангези" собран-решён 16 января 1922 года» – это, очевидно, относится к окончательному составу, который до этого претерпел много изменений. Последние поправки поэт вносил уже в корректуру будущей книги.
«Зангези» – синтетическая драма, в которой сочетаются прозаические и поэтические фрагменты. Текст разделяется на отдельные «плоскости». Хлебников определил «Зангези» как сверхповесть, то есть произведение, состоящее из «повестей первого порядка», текстов, которые могут восприниматься и как самостоятельные, – примечательно, что публикаторы собрания сочинений 1931 года – Юрий Тынянов и Николай Степанов – относятся к «Зангези» как к сборнику: «Здесь собраны самые разнообразные вещи, написанные, по-видимому, за время с 1920 по 1922 год»[60]. При этом жанрового определения «повесть» мы больше не встретим, будут только «плоскости»: очевидно, созвучные «плоскость» и «повесть» для Хлебникова значат примерно одно и то же.
Тынянов и Степанов продолжают: «В одной из черновых записей В. Хлебников перечисляет, какие именно виды поэтического языка им были использованы в "Зангези": 1. "Звукопись" – птичий язык. 2. Язык богов. 3. Звёздный язык. 4. Заумный язык – "плоскость мысли". 5. Разложение слова. 6. Звукопись. 7. Безумный язык»[61]. Некоторые из этих «языков» укладываются в футуристическую программу деконструкции «бытового», «обыденного» языка, изложенную ещё в манифесте «Слово как таковое»; другие – собственно хлебниковские изобретения. Важнейший среди них – звёздный язык: он мыслится как единый язык будущего, а главную роль в нём играют первичные элементы – звуки, несущие в себе большие, влияющие на мир смыслы.
Велимир Хлебников. 1916 год[62]
Велимир Хлебников. «Мировая страница» (из рукописей «Досок судьбы»). 1922 год[63]
В «Зангези» сказываются ключевые радикально-модернистские техники и контексты: монтажность, сочетание литературных форм, деконструкция языка, эксперименты с религией и мифологией. В этом отношении сверхповесть лежит в русле экспериментов русского футуризма с прозой, поэзией и драмой. Среди многих родственных текстов можно назвать, с одной стороны, трагедию Владимира Маяковского «Владимир Маяковский» (с её ультраромантической установкой на исключительного героя) и его же «Облако в штанах» (как и Маяковский, Хлебников примеряет на себя роль апостола, евангелиста[64]), с другой – заумную поэзию Алексея Кручёных или поэму Василия Каменского «Цувамма» (с её эмоциональной акцентуацией зауми). Впрочем, в футуристическом ландшафте Хлебников – отдельно стоящая величина: он оказал на своих коллег, пожалуй, большее влияние, чем они на него. Известен эпизод, когда Хлебников заявил, что не принадлежит к футуристам; Юрий Тынянов подчёркивал, что он «не случайно… называл себя будетлянином (не футуристом), и не случайно не удержалось это слово»[65].
Вместе с тем Хлебников вовсе не свободен от внешних влияний. «Зангези» во многом зависит от произведения Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра», вообще важного для футуристов. Как пишет филолог Лада Панова (которая в книге «Мнимое сиротство» разоблачает расхожее мнение об отсутствии у футуристов и обэриутов литературных предшественников), «…герой Хлебникова – упрощённо-авангардный клон Заратустры. Согласно "звёздной азбуке", их имена приравниваются начальным З. По образу и подобию Заратустры Зангези проповедует новую идеологию, прибегая к характерным для Ницше парономасиям[66], афоризмам и игре слов. У него те же отношения с аудиторией: одни принимают его просветительские речи, другие их воинственно отрицают. Наконец, он помещён в горно-лесной пейзаж – тот же, что и Заратустра»[67]. Даже само слово «сверхповесть» Панова считает кивком в сторону Ницше (ср. «сверхчеловек»). Ницше и Зороастр (Заратустра) много раз упоминаются в других произведениях Хлебникова[68].
Сидят (слева направо): Велимир Хлебников, Григорий Кузьмин, Сергей Долинский. Стоят (слева направо): Николай Бурлюк, Давид Бурлюк и Владимир Маяковский. 1912 год[69]
Находятся предшественники и у других открытий Хлебникова: так, звёздный язык в работах Цветана Тодорова и Лады Пановой возводится к идеям Стефана Малларме, также изучавшего слова, которые начинаются на одну букву и объединены общими смыслами. Ещё один возможный претекст «Зангези» – поэма в прозе Андрея Белого «Глоссолалия», опубликованная в 1922-м, но написанная пятью годами раньше. Как и в текстах Хлебникова, в «Глоссолалии» исследуются смысловая природа отдельных звуков и возможность духовного синтеза Запада и Востока. Классификация звуков у Белого очень напоминает «звёздную азбуку» Хлебникова; точно так же Белый высказывает утопические пожелания: «Да будет же братство народов: язык языков разорвёт языки; и – свершится второе пришествие Слова». Впрочем, в отличие от Хлебникова, Белый открыто говорил, что его идеи не претендуют ни на какую научность.
Священные тексты – ещё более древний и фундаментальный фон для «Зангези»; даже в самой монтажной структуре сверхповести исследователи усматривают параллель со строением Корана[70]. Разумеется, «Зангези» связан и с Новым Заветом – как непосредственно, так и через полемизирующего с Евангелием Ницше.
«Зангези» вышла сразу отдельной книгой в июле 1922 года – автор не дожил до издания нескольких недель. Тираж не был оплачен, и типография чуть не пустила его на макулатуру: книгу спасло вмешательство наркома просвещения Анатолия Луначарского[71]. Впоследствии сверхповесть переиздавалась в собраниях сочинений Хлебникова начиная с 1931 года; первое переиздание было сделано по рукописи с учётом хлебниковской корректуры 1922 года и замечаний художника Петра Митурича, близкого друга Хлебникова и оформителя первого издания. В 2021 году, к 135-летию Хлебникова, отдельной книгой вышло первое научное издание произведения, предлагающее его новую текстологию (в частности, отказ от принятой ранее нумерации плоскостей): в эту книгу, подготовленную Андреем Россомахиным, вошли комментарии к произведению, новые исследования о нём, история публикации «Зангези» и предпринятой Владимиром Татлиным театральной постановки, отзывы современников и обширный иллюстративный материал.
Первое издание «Зангези». 1922 год[72]
Выход сверхповести совпал со смертью автора, так что современниками «Зангези» ощущалось как итоговое произведение. В некрологе Хлебникову в «Известиях» акмеист Сергей Городецкий особо выделяет эту «поэму cилы, построенную на чистом звуке» и утверждает, что в её появлении – заслуга «именно нашей эпохи» (то есть революционной, советской)[73].