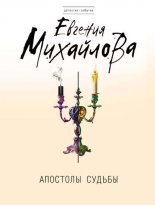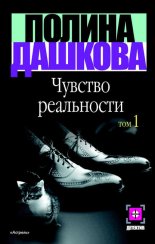Полка. О главных книгах русской литературы Сапрыкин Юрий

Эскизы костюмов Горя и Смеха, сделанных Владимиром Татлиным к спектаклю «Зангези». 1923 год[74]
9 мая 1923 года, почти через год после смерти Хлебникова, в Петроградском музее художественной культуры был поставлен спектакль по «Зангези»: постановщиком выступил художник-авангардист Владимир Татлин. Спектакль был таким же синтетическим произведением, как исходный текст: «одновременно представлением, лекцией и выставкой материальных конструкций»[75]. В постановке приняли участие искусствовед Николай Пунин и поэт Георгий Якубовский, прочитавшие лекции о хлебниковских законах времени и словотворчестве (эти две темы – до сих пор самые частотные в хлебниковедении[76]). Сам Татлин построил аппарат, «с помощью которого устанавливается контакт между Зангези и массой», а в оформлении пространства использовал графемы звёздного языка. Большинство откликов современников соотносят спектакль с исходным текстом – и не всегда положительно. Так, Сергей Юткевич, в будущем известный советский режиссёр и сценарист, резко обругал постановку: «Спектакль был мёртв. Точнее, спектакля не было. Афиша гласила: "действуют люди, вещи, прожектора". Бездействовало всё. Уныло бродил прожектор по умному "контррельефу" Татлина, не оживали малярно выполненные дощечки с хлебниковской заумью, спускавшиеся по тросу, глухо падало и отскакивало порой гениальное слово от ничего не понявшей и отупевшей от 3-часового сидения публики». Юткевич возражал Пунину, который уверял, что Хлебникова и Татлина не поняли из-за господствующей в искусстве установки на рациональность и что время этого искусства ещё впереди.
В целом говорить о большом количестве откликов именно на «Зангези» не приходится – скорее нужно обсуждать восприятие всего позднего творчества Хлебникова, которого воспринимали как нечто среднее между гением и сумасшедшим. Такое колебание в оценках можно увидеть, например, у восхищавшегося «Зангези» Михаила Кузмина. После смерти за Хлебниковым, не без стараний Маяковского, закрепилась слава гениального «поэта для поэтов», открывавшего пути словотворчества. Его нумерологические изыскания – законы времени, позволяющие предсказать будущее, – стали активно обсуждать позже.
Математические расчёты, стихия словотворчества, тяга к классификации – всё это окажет влияние на обэриутов, которые видели в Хлебникове прямого предшественника. Так, будто продолжая хлебниковский реестр видов разума (заум, выум, уум, приум и так далее), Даниил Хармс в полижанровом тексте «Сабля» будет классифицировать гибели: «Гибель уха – / глухота, / гибель носа – / носота, / гибель нёба – / немота, / гибель слёпа – / слепота». Эти же завораживающие «гоум, боум, биум, баум» повторены в детском стихотворении «О том, как мы на трамвайном языке разговаривали» (1935), которое приписывают и Хармсу, и Заболоцкому. Целый пласт хлебниковских влияний обнаруживается в «Лапе» Хармса. А Александр Введенский в небольшой драме «Разговор о вспоминании событий» напишет: «Истина, как нумерация, прогуливалась вместе с вами», тем самым отсылая к законам времени из хлебниковских «Досок судьбы».
Если наследие обэриутов останется именно что эзотеричным до самой перестройки, то Хлебникову повезёт больше. Как и в других случаях, его имя присутствовало в читательском сознании благодаря «защитной» ассоциации с Маяковским и вообще с революционным футуризмом; его стихи время от времени переиздавались, иногда их даже использовали советские композиторы. Если в редких упоминаниях советских критиков после 1930-х хлебниковские эксперименты со словом и числом обычно подаются как курьёз, то советские поэты, от Кульчицкого до Слуцкого, воспринимали его как некоего таинственного предшественника.
Вместе с тем во второй половине XX века «Зангези» как финальное произведение Хлебникова неизменно привлекало внимание исследователей, идущих вслед за Романом Якобсоном и другими опоязовцами[77]. Сверхповесть так или иначе рассматривали Николай Харджиев, Виктор Григорьев, Вячеслав Иванов, Лена Силард, Роналд Вроон, Михаил Гаспаров и другие крупные учёные. Новейшие исследования связывают хлебниковский эксперимент с понятиями гипертекста, гибридного текста и т. д.[78]
Татлинский спектакль 1923 года стал вызовом, на который откликнулись только в конце столетия. В 1986 году в Лос-Анджелесе «Зангези» поставил режиссёр Питер Селларс (известный очень вольной трактовкой классических произведений). В 1992-м «Зангези» адаптировал для сцены петербургский «Чёт-Нечет-Театр» под руководством Александра Пономарёва (постановку консультировал хлебниковед Рудольф Дуганов). Как и спектакль Татлина, пономарёвский получил полярные отзывы: одни критики утверждали, что видение режиссёра совпало с визионерством Хлебникова, другие – что спектакль получился сумбурным, совершенно непонятным.
Наконец, в 1995 году группа «АукцЫон» и Алексей Хвостенко, для которых Хлебников и обэриуты всегда были важны, записали альбом «Жилец вершин» на стихи Хлебникова: значительную часть в нём составляют фрагменты из «Зангези». Впоследствии лидер «АукцЫона» Леонид Фёдоров вновь обращался к хлебниковской поэзии.
Тексту «Зангези» предпослано авторское объяснение:
Повесть строится из слов как строительной единицы здания. Единицей служит малый камень равновеликих слов. Сверхповесть, или заповесть, складывается из самостоятельных отрывков, каждый с своим особым богом, особой верой и особым уставом. На московский вопрос: како веруеши? – каждый отвечает независимо от соседа. Им предоставлена свобода вероисповеданий. Строевая единица, камень сверхповести, повесть первого порядка. Она похожа на изваяние из разноцветных глыб разной породы, тело – белого камня, плащ и одежда – голубого, глаза – чёрного. Она вытесана из разноцветных глыб слова разного строения. Таким образом находится новый вид работы в области речевого дела. Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из «рассказов» есть сверхповесть. Глыбой художнику служит не слово, а рассказ первого порядка.
Замысел такого синтетического жанра у Хлебникова возникает ещё в 1909 году: в это время он пишет коллеге-футуристу Василию Каменскому о желании создать произведение, в котором «каждая глава не должна походить на другую», в нём он хочет «с щедростью нищего бросить на палитру все свои краски и открытия». В других текстах Хлебников именует такой жанр «окрошкой».
«Зангези» не единственная, но самая известная и cложная сверхповесть Хлебникова. Среди других сверхповестей – «Дети Выдры», «Азы из Узы», «Война в мышеловке». Все они так или иначе разделяются на фрагменты, но ближе всего к «Зангези» структура ранних «Детей Выдры» (1913), которые делятся на «паруса», сочетающие стихи, прозу и драму. В основе «Детей Выдры» лежат мифы орочей[79], которые считали выдру праматерью людского рода. Дети Выдры – люди – наблюдают за игрой в мяч, в которой зашифрованы законы мировой истории. Они думают и о мифологической смене великих народов, своего рода мировом переселении душ; в последнем парусе в калейдоскопическом диалоге сходятся Ганнибал, Сципион, Пугачёв, Ян Гус, Ломоносов, Степан Разин и другие исторические персонажи, которыми интересовался Хлебников. Все они попадают на остров Хлебников, где обитает душа Сына Выдры (то есть самого поэта).
«Азы из Узы» и «Война в мышеловке» (обе 1922) – скорее не сверхповести, а сверхпоэмы[80]. Основная тема первой – единение всех народов и особенно духовный союз Азии и России (заглавие сверхпоэмы можно трактовать как «прорыв Азии в союзе с Россией из оков времени и пространства»); вместе с этим союзом явится Единая книга – аналог Библии, Корана, Вед для всего человечества, и эту книгу «скоро ты, скоро прочтёшь». Во второй исследуются темы судьбы и избранничества: мышеловка для Хлебникова – образ торжества над ранее непонятным, а сам он – тот, кто сумел поймать в мышеловку смыслы истории: «Открыв значение чёта и нечета во времени, я ощутил такое чувство, что у меня в руках мышеловка, в которой испуганным зверьком дрожит древний рок».
Основная единица «Зангези» – «плоскость». Ещё в своих черновиках Хлебников именует отдельные темы, на которые должен высказаться (от неких «молний» до истории Степана Разина), плоскостями. Нетрудно заметить здесь перекличку с кубистической живописью, мыслящей объём и движение как разложение плоскостей. Плоскости, как карты, могут быть вынуты из «колод» и вставлены в произведение: так, Плоскость III, в которой люди смеются над учением Зангези, взята «из колоды пёстрых словесных плоскостей». Здесь срабатывает другой приём авангардной живописи – коллаж, сочетание разных материалов.
Единство всему этому обеспечивает синкретический подход автора и, как предполагается, читателя: подобно тому, как весь мир с его разнообразием для Хлебникова был одним стихотворением[81], единое одухотворённое восприятие примиряет разные стили сверхповести, заставляя видеть в ней одно целое.
В «Зангези» Хлебников использует несколько «языков» собственного изобретения – все эти «языки» можно по-разному соотнести с «бытовым языком», который футуристы отрицали в разных манифестах. Так, птичий язык в Плоскости I «Птицы» – это звукоподражание: «Пить пэт твичан!», «Кри-ти-ти-ти-ти-и -цы-цы-цы-сссыы» и т. д. Подобную имитацию птичьего пения мы можем встретить и во вполне реалистических описаниях дикой природы, скажем у Пришвина или Бианки, но Хлебников делает его одним из полноправных языков мира, принципиально не переводимым на человеческий. (Птичьими звукоподражаниями Хлебников пользовался и раньше, например в стихотворении «Мудрость в силке» (1914); стоит помнить, что его отец был орнитологом и сам он в молодости писал работы по орнитологии.) Спустя сорок два года после «Зангези» в финале «Прощальной оды» Бродского птичий язык захватит мир текста, вытеснив человеческие слова: как и у Хлебникова, звукоподражания способны передать настроение, только «Прощальная ода» гораздо мрачнее – птичьи крики здесь должны вселять в человека не ликование, а ужас.
За птичьим следует язык богов, знакомство с которым начинается уже с имён. В Плоскости II перечислены божества: Тиэн, Шангти, Юнона, Ункулункулу. Боги Тиэн и Шангти присутствуют в китайской мифологии, Юнона – жена римского Юпитера, аналог греческой Геры, а Ункулункулу – первопредок в космогонии зулусов. Создаётся синкретическое теологическое пространство, где божества говорят на равных, а их имена на фоне «обычного» русского языка выглядят равно заумно. Это пространство Хлебников выстраивает и в поэме «Боги»: «Туда, туда, / Где Изанаги / Читала «Моногатари» Перуну, / А Эрот сел на колена Шанг-ти… / Где Амур целует Маа Эму, / А Тиен беседует с Индрой, / Где Юнона и Цинтекуатль / Смотрят Корреджио / И восхищены Мурильо, / Где Ункулункулу и Тор / Играют мирно в шахматы…» Этот фрагмент почти дословно повторяется в «Азах из Узы», а ещё текст «Богов» частично использован в «Зангези» – Хлебникова явно завораживала идея «божественного интернационала с представительством от всех концов света», воплощающая, по мнению Михаила Гаспарова, «мечту о мирном братстве, любви и взаимопонимании всего человечества»[82]. Можно трактовать это и как утопическое стремление к первоначальному Единству, Абсолюту[83]. Язык, на котором говорят боги в «Зангези», напоминает о детских считалках[84], магически устанавливающих взаимопонимание в пространстве игры:
- Мара-рома,
- Биба-буль!
- Укс, кукс, эль!
- Редэдиди дидиди!
- Пири-пэпи, па-па-пи!
- Чоги гуна, гени-ган!
- Аль, Эль, Иль!
- Али, Эли, Или!
- Эк, ак, ук!
Кое-где в этих восклицаниях возникают слова, относящиеся к сакральным контекстам («Эли» или «Ольга»). Это связывает язык богов со звёздным языком: в следующих плоскостях слова «Эль», «Эр», «Ка» будут играть большую роль.
Некоторые исследователи относят к звёздному языку (он же – «вселенский язык», «мировой язык», «азбука ума») самые разные эксперименты Хлебникова, в том числе стихотворение «Бобэоби пелись губы…»[85], но в рамках «Зангези» звёздный язык выражен во вполне определённых односложных лексемах. Они обладают множеством фонетически ассоциированных смыслов, которые объединяются в противопоставленные друг другу гнёзда: наиболее выражена в «Зангези» борьба Эль (связываемого с такими земными понятиями, как ласка, лень, любовь, улей и так далее) с Эр (Россия, праща, рог, Перун). Столкновение этих начал пресуществляет вещи и явления. Когда одолевает Эль, то «порох боевой он заменяет плахой, / А бурю – булкой». Если побеждает Эр, то больной превращается в борца; Эр «лапти из лыка заменит ропотом рыка». Итак, при сопоставлении русского языка со звёздным первый согласный «определяет семантический объём всего слова, превращаясь в звуковое выражение заложенной в нём идеи»[86].
Эти идеи необязательно согласуются друг с другом: «имеются места, где… автор, явно преднамеренно, выпускает из-под контроля или, может, даже акцентирует диссонансы, вызываемые онтологическим значением согласного в противоречивом единстве всего слова»: вроде бы «положительное» Л встречается в словах «зло» и «голод», а вроде бы «отрицательное» Р – в таких словах, как «добро» и «гражданин»[87]. Таким образом показывается, что исторические процессы, определяемые борьбой стихий, по определению сложны, противоречивы. Сами же согласные трактуются как чистые идеи:
- Где рой зелёных Ха для двух
- И Эль одежд во время бега,
- Го облаков над играми людей,
- Вэ толп кругом незримого огня
- И Ла труда, и Пэ игры и пенья… —
тут же даётся толкование: например, Ха – это «преграда плоскости между одной точкой и другой, движущейся к ней (хижина, хата)», а Пэ – «беглое удаление одной точки прочь от другой, и отсюда для многих точек, точечного множества, рост объёма (пламя, пар)». Если нумерология «досок судьбы» призвана открыть законы времени, то слова звёздного языка характеризуют пространство: «Поскоблите язык – и вы увидите пространство и его шкуру».
Эти лексемы не случайно так минимальны, точечны: Хлебникова интересовали "бесконечно малые" художественного слова», на которых будет построен смысл, внятный всем и каждому. С одной стороны, само название звёздного языка отсылает к его эзотеричности (он ясен только в «звёздных сумерках»), с другой – он должен быть общим «всей звезде, населённой людьми»[88]. Как показывает Виктор Григорьев, звёздный язык напрямую связан с идеями лингвистов XIX–XX веков, которые пытались изобрести язык для международного общения[89]. Лингвисты, впрочем, характеризуют звёздный язык как «выдающуюся поэтическую игру с русским языком, но всё же не шаг к универсальному языку»[90].
Корни русского языка (и других славянских) и впрямь дают Хлебникову огромный материал для новой семантики. Среди частых словообразовательных приёмов Хлебникова – словослияние; корни двух слов складываются в одно, образуя новое значение: так появляется «божестварь» – не просто тварь божья, а и тварь и божество (так себя именует Зангези, и это отсылка к богочеловеку христианства), – которая может обернуться и «глупостварью». Другой важный приём – образование новых значений с помощью суффиксов: так, из слова «умножение» и «профессионального» суффикса -арь- получается «умножарь», а слово «гроб» в сочетании с обозначающим некий признак суффиксом -изн- даёт «гробизну». Больше всего такого словотворчества в речах Зангези, связывающего земной и надмирный контексты: «Вечернего воздуха дайны, / Этавель задумчивой тайны, / По синему небу бегуричи, / Нетуричей стая, незуричей, / Потопом летят в инеса, / Летуры летят в собеса!»
Такое же богатство смыслов обеспечивают приставки, как нормативные, так и вымышленные. Например, в «Плоскости мысли IX» Зангези представляет слушателям «все оттенки мозга» и «все роды разума»: среди них есть гоум, оум, уум, паум, соум, моум, проум, приум, выум, раум и так далее. У каждого из этих слов – своё определение: если оум – это ум «отвлечённый, озирающий всё кругом себя, с высоты одной мысли», то выум – это «изобретающий ум», проум – предвидение, соум – разум-сотрудник, а раум – «не знающий границ, преград, лучистый, сияющий ум». Важно, что даже этот последний не какой-то итоговый ум, а один из «оттенков мозга» – все вместе они сливаются в «единый, всепроникающий и всеохватывающий мировой Ум», которым, по выражению Рудольфа Дуганова, является для поэта весь мир[91].
В Плоскости X мы видим целую россыпь словотворческих приёмов на основе корней -мог-, -мож-, обозначающих могущество и возможность:
- Иди, могатырь!
- Шагай, могатырь! Можарь, можар!
- Могун, я могею!
- Моглец, я могу! Могей, я могею!
- Могей, моё я. Мело! Умело! Могей, могач!
- Моганствуйте, очи! Мело! Умело!
- Шествуйте, моги!
- Шагай, могач! Руки! Руки!
- Могунный, можественный лик, полный могебнов!
- Могровые очи, могатые мысли, могебные брови!
- Лицо могды. Рука могды! Могна!
- Руки, руки!
- Могарные, можеские, могунные,
- Могесные, мощные, могивые!
- Могесничай, лик!
Читатели Хлебникова сразу вспомнят здесь его раннее стихотворение «Заклятие смехом»: «О, рассмейтесь, смехачи! / О, засмейтесь, смехачи! / Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, / О, засмейтесь усмеяльно!» Но у этого отрывка есть и общий смысл, выражаемый на звёздном языке: «Это Эм ворвалось в владения Бэ, чтоб не бояться его, выполняя долг победы». Человеческая вера и судьбы мира, вершимые время-пространственными силами, взаимозависимы. Своим заклинанием Зангези приводит слушателей «из владений ума в замок "Могу"». Коллективный выкрик «Могу!» не просто порождает эхо в горах – это сами горы отвечают верующим (благодаря «зеркальности» Зангези, ведь Зэ на звёздном языке означает «отражение»), и с гор спускаются растревоженные боги.
К птичьему языку близки «песни звукописи», восходящие, вероятно, к символистским открытиям, – Зангези подбирает сочетания звуков, напоминающие о тех или иных явлениях, возможно синестетически:
- Лели-лили – снег черёмух,
- Заслоняющих винтовку.
- Чичечача – шашки блеск,
- Биээнзай – аль знамён,
- Зиээгзой – почерк клятвы.
Здесь, конечно, сразу вспоминается другое раннее и знаменитое стихотворение Хлебникова: «Бобэоби пелись губы, / Вээоми пелись взоры, / Пиээо пелись брови, / Лиэээй – пелся облик, / Гзи-гзи-гзэо пелась цепь. / Так на холсте каких-то соответствий / Вне протяжения жило Лицо». Если в этом стихотворении Хлебников набрасывает сетку звуковых координат, из которых возникает ощущение человеческого портрета, то в «Зангези» он точно так же с помощью «каких-то соответствий» воссоздаёт ощущение битвы.
Один из самых интересных языков, при внешней простоте, – безумный язык. В Плоскости XVI с одним из слушателей Зангези делается эпилептический припадок, и он начинает выкрикивать: «Азь-два… Ноги вдевать в стремена! Но-жки! Азь-два. / Ишь, гад! Стой… Готов… Урр… урр. / Белая рожа! Стой, не уйдёшь! Не уйдёшь! / Стой, курва, тише, тише!» Перед нами крошево из военных выкриков – оскорблений, междометий, приказов: поставленные в контекст безумия, они тоже напоминают заумные заклинания, иллюстрируют распад Логоса (и предвосхищают приёмы постмодернистской деконструкции, явленные, например, в прозе Владимира Сорокина). «Этот припадочный, / Он нам напомнил, / Что война ещё существует», – говорит Зангези. Возможно, Хлебников полемизирует здесь с основателем футуризма Филиппо Томмазо Маринетти, у которого подобные милитаристские выкрики выражали не ужас, а прелесть войны, восторг разрушения.
Наконец, ещё один языковой пласт в «Зангези» – тот самый профанный «бытовой» язык, которому Хлебников противопоставляет «самовитое слово». На бытовом языке разговаривает толпа учеников и слушателей Зангези: «Зангези! Что-нибудь земное! Довольно неба! Грянь "камаринскую"! Мыслитель, скажи что-нибудь весёленькое». Прохожие, не внемлющие учению Зангези, и вовсе называют его лесным дураком и интересуются, не пасёт ли он коров. Этот профанный язык реализуется и в ремарках: так, после разговора птиц «проходит мальчик-птицелов с клеткой» – и птичий язык заканчивается. Приближение же к Зангези и его текстам начинает трансформировать бытовой язык: например, чтение «Досок судьбы» заставляет прохожего понять, что в них «запечатлены судьбы народов для высшего видения», а толпа, призывая пророка, называет его «смелый ходун» – это уже близко к собственному обращению Зангези с суффиксами. Даже речь уголовников в Плоскости XVII в присутствии Зангези обретает свирепую поэтику – объясняющуюся тягой Хлебникова к разбойничьей вольнице (можно вспомнить его поэмы о Разине).
Всё это не исчерпывает возможностей поэта: в книге Виктора Григорьева приводится список из 53 хлебниковских «языков»[92], впрочем поддающийся сокращению. Но в целом калейдоскопическая смена языков превращает «Зангези» в энциклопедию «Что может Хлебников».
В черновых записях Хлебникова, собранных в его последней рукописной книге «Гроссбух», встречаются варианты имени героя: Зенгези, Мангези, Чангези, Чангили – все эти имена звучат достаточно экзотично и необычно, «нецивилизованно» (здесь можно вспомнить киплинговского Маугли) и в то же время позволяют вчитать в себя множество смыслов. По мнению хлебниковеда Виктора Григорьева, окончательный вариант имени «контаминирует назв[ания] рек – Ганга и Замбези как символы Евразии и Африки»: «Этого поэту вполне достаточно для отражения интересов всего человечества или по крайней мере его внушительного большинства»[93]. Скульптор Степан Ботиев, автор памятника Хлебникову, «высказал предположение, что в основе имени героя лежит калмыцкое слово «занг» – весть, новость, так что Зангези понимается как «вестник Азии»[94]. Очевидным кажется сопоставление имени Зангези с Заратустрой – в трактовке Ницше, оказавшего на Хлебникова сильное влияние. Авторы примечаний в последнем на сегодня полном собрании сочинений Хлебникова вспоминают, что «звукоимя Зэ в глоссе "звёздного языка" объясняется как идея отражения («Пара взаимно подобных точечных множеств, разделённая расстоянием»…) То есть в свете хлебниковского философствования в имени Зангези сфокусировано всё мировое единство»[95].
В хлебниковских ерновиках встречаются варианты реплик верующих: «Ты многозовен. / Чангези, когда мы тебя чаем. / Зангези, когда мы <тебя> зовём. / Мангези, когда ты…» (вероятно, «нас манишь»). Окончательный вариант утверждает – по крайней мере в сознании верующих – «призванность» Зангези: его пророческий статус, таким образом, подтверждается самим именем.
Да – в том смысле, в каком фигура богочеловека или пророка инвариантна, имеет общие черты в разных религиях. Пророк противопоставлен другим людям, но имеет круг избранных учеников; далеко не все его речи воспринимаются толпой как божественное откровение – они могут возмущать или казаться бессмыслицей, бредом сумасшедшего. Самоименование Зангези «божестварь» отсылает нас к богочеловеческой природе Христа, разговоры Зангези об умножении и могуществе, возможно, к сурам Корана[96]; о зависимости хлебниковского героя от ницшеанского Заратустры уже не раз говорилось. Есть и другие фигуры в истории мировых религий, к которым можно возвести Зангези: так, Виктор Григорьев трактует восклицание верующих «Чангара Зангези пришёл!» как отсылку к Шанкаре (Шанкарачарье) – индийскому философу и реформатору индуизма, основателю адвайта-веданты. Женственность Зангези, возможно, позволяет сблизить его с фараоном Эхнатоном, основателем первого монотеистического культа в Египте, а слова «Мне, бабочке, залетевшей / В комнату человеческой жизни…» могут отсылать к известной легенде о даосском философе Чжуан-цзы.
Очень любопытное сопоставление есть в работе американского слависта Рональда Вроона[97]: он сопоставляет черты Зангези из черновиков Хлебникова («он последний потомок старого рода», «он сумасшедший тоже») с «последним в своём роде» князем Мышкиным – героем «Идиота» Достоевского. Как известно, к замыслу «Идиота» в черновиках Достоевского относятся слова «Князь Христос» – писатель хотел изобразить совершенного, чистого сердцем человека. Пророк Зангези – гораздо более «громогласное» существо, чем тихий Мышкин, но их связь будто бы образует триаду с самим Хлебниковым («робкой фигурой поэта, «оскорблённого за людей, что они такие»[98]). Небольшие аллюзии на «Идиота» (например, «красивый почерк» рукописи пророка, которая «забилась в мышиную нору», – вспомним, что Мышкин умелый каллиграф) обнаруживаются и в беловом тексте «Зангези».
Но, несмотря на все эти параллели, нельзя сказать, что Зангези – зашифрованный портрет того или иного бога, пророка или литературного героя. Перед нами образ победительного «поэта, каким он должен быть», одно из финальных воплощений этой чаемой фигуры в футуристических текстах: не забудем, что «Зангези» – поздний футуристический текст, в 1922 году заумь – уже не актуальная современность, а периферия новой советской эстетики, поэты-футуристы стремительно политизируются (тот же Маяковский давно сотрудничает с РОСТА, а в 1922-м появляется «Леф»[99]). Образ ницшеанского пророка-футуриста, покорителя поэзии, всё более проблематичен: в 1930 его будет одновременно мифологизировать и разоблачать Илья Зданевич в своём «Восхищении». Но в 1922-м Хлебников, делая Зангези автором «досок судьбы», ещё вполне может соотносить своего героя с самим собой, Королём Времени и Председателем Земного Шара[100].
«Досками судьбы» Хлебников называл «скрижали», где он записывал и обосновывал математические соответствия между историческими событиями, катаклизмами, биографиями. Целью этой работы было вывести законы времени, рассчитать промежутки, через которые повторяются те или иные исторические ситуации. К поиску законов времени Хлебникова подтолкнуло Цусимское сражение[101] 28 мая 1905 года. «Я хотел найти оправдание смертям», – вспоминал он.
«Доски судьбы», делящиеся на семь «листов», выходили отдельными изданиями: Хлебников успел увидеть только самое первое, а реконструкция всего замысла была опубликована лишь в 2000 году. Отрывок из «Досок судьбы» в «Зангези» (представленный как рукопись пророка) даёт хорошее представление о том, как они выглядят в целом:
105 + 104 + 115 = 742 года 34 дня. Читайте, глаза, закон гибели царств. Вот уравнение: Х = k + n (105 + 104 + 115) – (105 – (2n – 1) 11) дней. k – точка от<с>чёта во времени, римлян порыв на восток, битва при Акциуме. Египет сдался Риму. Это было 2/IХ 31 года до Р. Хр. При n = 1 значение Икса в уравнении гибели народов будет следующее: Х = 21/VII 711, или день гибели гордой Испании, завоевание её арабами. Пала гордая Испания!..
Икс в этой непростой формуле – дата падения очередного царства. Числа 10 и 11 – не самые характерные в нумерологии Хлебникова, для которого важны в первую очередь 2 и 3, но по этому отрывку видны и хлебниковский метод, и абсолютная уверенность в правильности расчётов. Все они находятся в прямом родстве с мечтами Хлебникова о всемирном языке: ведь математика и является таким языком, и многие создатели искусственных языков пытались строить их именно на математических принципах. Ещё в 1915 году Хлебников с восторгом цитировал Лейбница: «Настанет время, когда люди вместо оскорбительных споров будут вычислять[102]».
Вычисления привели в конце концов Хлебникова к открытию «чистых законов времени». Вот как он писал об этом: «Чистые законы времени мною найдены 20 года, когда я жил в Баку, в стране огня, в высоком здании морского общежития, вместе с Доброковским, именно 17/ХI». В другом месте: «Когда будущее становится благодаря этим выкладкам прозрачным, теряется чувство времени, кажется, что стоишь неподвижно на палубе предвидения будущего».
Два главных закона времени сводятся к следующему. Историей управляют чёт и нечет, двойка и тройка (они же – положительное и отрицательное начала). «Через 2n… объём некоторого события растёт», а «через 3n событие делается противособытием». Период, через который те или иные события усиливаются или превращаются в свою противоположность, исчисляется в днях: «Во времени происходит отрицательный сдвиг через 3n дней и положительный через 2n дней; события, дух времени становится обратным через 3n дней и усиливает свои числа через 2n дней; между 22 декабря 1905 московским восстанием и 13 марта 1917 прошло 212 дней; между завоеванием Сибири 1581 г. и отпором России 1905 25 февраля при Мукдене прошло 310 + 310 дней». В ключевой Плоскости XVIII «Зангези» в одно нумерологическое повествование увязаны битва при Марафоне и завоевание Константинополя, восстание декабристов и европейские революции 1848 года, покушение на польского наместника Берга и убийство американского президента Гарфилда и – любимый пример Хлебникова – покорение Сибири и Мукденское сражение:
- Через два раза в десятой степени три
- После взятья Искера,
- После суровых очей Ермака,
- Отражённых в сибирской реке,
- Наступает день битвы Мукдена,
- Где много земле отдали удали.
- Это всегда так: после трёх в степени энной
- Наступил отрицательный сдвиг.
А пример «усиления события», опять же, – Февральская революция: она не могла не случиться, потому что «прошло два в двенадцатой / Степени дней / Со дня алой Пресни» (то есть с Кровавого воскресенья).
Кроме того, в нумерологии Хлебникова большую роль играют числа 317 и 365 (а также разница между ними – число 48). Число 365, священное у вавилонян и обозначающее количество дней в году, также можно представить как равенство: 365 = 35 + 34 + 33 + 32 + 31 + 30 + 1. Сумма степеней тройки, разумеется, не могла не привлечь внимания Хлебникова. На основании 365 он вывел законы рождения гениев и падения царств. Сроки, кратные 365 годам, разделяют рождения Будды и Спинозы, Сократа и Вольтера, Аристотеля и Джона Стюарта Милля и так далее. В написанном в 1912 году диалоге «Учитель и ученик» Хлебников на основании выведенной им формулы подобных событий z = (365 + 48y) х определяет, через какое число лет в мире рушатся государства: это (365 + 48 2) 3 = 1383 (обратим внимание, что в качестве переменных здесь снова возникают двойка и тройка). После нескольких примеров Ученик делает знаменитое предсказание: «…в 534 году было покорено царство Вандалов; не следует ли ждать в 1917 году падения государства?»
Если допустить справедливость хлебниковских законов, можно ждать в 2066 году некоего великого объединения народов, в 2222 году – крупной морской битвы, а на дату 30 октября 2025 года, согласно хлебниковеду и экономисту Валерию Кузьменко, намечен «окончательный исход тоталитаризма, взращённого коммунистической диктатурой, из нашего общества». Примечательно, что этот прогноз совпадает с предсказаниями Нострадамуса[103]. В другой работе Кузьменко доходит до того, что предлагает с помощью «Досок судьбы» предупреждать политические кризисы, природные и техногенные катастрофы – и такие предложения высказывает не он один.
Попытки связать математику с искусством и эзотерикой были не уникальны для синтетического сознания авангарда и вообще модерна, внимательно следившего за наукой: «ненормальные» геометрия Лобачевского и физика Эйнштейна (оба имени важны для «поэта-учёного» Хлебникова) вполне отвечали модернистскому восприятию мира, который утратил цельность и ищет способов вновь её обрести. К примеру, художник и теософ Николай Рерих стремился соединить мудрость Вед с Эйнштейном, революционер Николай Морозов с помощью метеорологии, астрономии и астрологии высчитывал дату написания Апокалипсиса, а оккультист Пётр Успенский строил свою теорию синтеза духа и религии, превращения сознания в сверхсознание на математических рассуждениях о четвёртом измерении. Хлебников читал Морозова, был знаком с Успенским и интересовался его трудами; идеи Успенского повлияли на футуристическую оперу «Победа над Солнцем», в создании которой принял участие и Хлебников. Целью этой оперы было буквальное «приближение будущего».
Нумерологией и прогнозированием будущего, кроме того, увлекались символисты – Вячеслав Иванов, Зинаида Гиппиус, Владимир Соловьёв, их влияние на Хлебникова показано в книге Лады Пановой[104]. Основания же для соположения математики с мистикой заложены ещё в учении Пифагора и его школы: филолог Владимир Марков называл идеи Хлебникова «наивным пифагореизмом». Однако, даже если смотреть на Хлебникова не как на первопроходца, а как на властолюбивого компилятора чужих открытий (такой экстремальный вывод следует из книги Пановой), «Доски судьбы» оказываются самым полным в русской практике выражением «законов будущего»: Хлебников полагает, что если его нельзя, как хотели футуристы, приблизить, то можно предвидеть.
Конечно, мы не можем относиться к «Доскам судьбы» как к сугубо научным текстам. Исследователи корректируют Хлебникова: так, Андрей Щетников «специально пересчитал… интервалы и убедился, что подборы одних временных промежутков произведены… с точностью в один день, других – в несколько дней»; кроме того, Хлебников «забыл учесть, что за 1 годом до Р. Х. сразу же следует 1 год от Р. Х., и никакого "нулевого года" в порядке лет не вводится»[105]. Михаил Погарский замечает, что Хлебников забывает и о високосных годах[106]. Кое-где Хлебников, по предположению Александра Парниса и Хенрика Барана, «сознательно жертвовал исторической точностью ради "возвышающего обмана"»[107].
Скептический взгляд на «Доски судьбы» и на любую нумерологию подразумевает, что в большом массиве дат и исторических событий можно подобрать (или подогнать друг под друга) любые соответствия. Гораздо важнее сама смелость Хлебникова, взявшего на себя труд упорядочения времени. Тот же Погарский, комментируя приведённый выше отрывок из «Зангези», говорит, что в первую очередь перед нами «высочайшая поэзия», свидетельство провидческого дара, позволяющего поэту проникать «в самую суть вещей».
В Плоскости XVII трое разбойников, уходя на какой-то роковой кутёж, просят у Зангези прикурить. Тот предлагает им «спички судьбы». Это созвучно «доскам», но почти полярно им по смыслу: для Хлебникова спички – символ укрощения огня, управления судьбой. «Огромные спички», наряду с шахматами, позволяющими разыграть мировые события, появляются в сверхповести «Дети Выдры», а в «Войне в мышеловке» поэт-пророк, горделиво перечисляя свои вселенские заслуги, говорит, что «весь род людей сломал, как коробку спичек». В стихотворении «Как стадо овец мирно дремлет…» (1921) спички – это приручённые боги огня, спрятанные в малом пространстве коробка. Вдохновлённый этой победой людей, говорящий в стихотворении хочет «делать сурово / Спички судьбы, / Безопасные спички судьбы! / Буду судьбу зажигать, / Разум в судьбу обмакнув». Хлебников ни на миг не забывает о божественной сущности, всё ещё таящейся в спичках, и его спички судьбы – некий поэтический аналог, позволяющий от физики вновь перейти к метафизике. Не стоит забывать, что при помощи спичек часто тянут жребий. Приложив к судьбе законы времени, эти спички и можно обезопасить.
«Вы говорите, что умерли Рюрики и Романовы, / Пали Каледины[108], Крымовы[109], Корниловы и Колчаки…» – так начинает Зангези свою проповедь в Плоскости VII. Это ставит проповедь Зангези не только в надмирный контекст, но и во вполне конкретный, русский, революционный: получается, что Зангези – современник первых читателей сверхповести.
Михаил Ларионов. Женская голова и птичка с веткой в клюве. Из альбома «Путешествие в Турцию». Около 1928 года[110]
Все имена, названные Зангези, находятся в звуковом соответствии с лексемами звёздного языка – Эр, Эль и Ка. Слова, начинающиеся на К, в представлении Хлебникова олицетворяли покой, закованность, смерть; стихия Ка, которую олицетворяют застрелившийся Каледин и побеждённый Колчак, повержена стихией Эль (которая у Хлебникова ассоциируется не только с ленью, но и с полётом):
- Вздор, что Каледин убит и Колчак,
- что выстрел звучал,
- Это Ка замолчало, Ка отступило,
- рухнуло наземь.
- Это Эль строит морю мора мол,
- а смерти – смелые мели.
Михаил Ларионов. Чёрт. 1913 год[111]
Таким образом, в самих именах деятелей Белого движения было зашифровано и их предназначение, и неминуемое поражение. Сами по себе деятели – просто агенты одной из стихий: «А! Колчак, Каледин, Корнилов только паутина, узоры плесени на этом кулаке! Какие борцы схватились и борются за тучами? Свалка Гэ и Эр, Эль и Ка! Одни хрипят, три трупа, Эль одно». Эти слова вполне поддаются исторической трактовке: в Гэ и Эр читаются Германия и Россия, только что завершившие Мировую войну («мир приехал у какого-то договора на горбах»), ну а Колчака, Каледина, Крымова, Корнилова (и Керенского, которого Хлебников не упоминает) побеждает Ленин.
Сверхповесть Хлебникова, по замечанию венгерской исследовательницы Лены Силард, «держится на числе 22»: 21 «плоскость» и предваряющая их «колода плоскостей слова»[112]. Силард подчёркивает сакральный характер числа 22. Здесь имеет значение, во-первых, число букв финикийского и древнееврейского алфавитов (отсюда и частое появление в тексте понятия Азбуки): согласно каббале, буквы – это священные первоэлементы мира, он построен из этих 22 букв. Во-вторых, из 22 глав состоит Откровение Иоанна Богослова. Ещё один важный контекст – карты Таро, на мысль о которых наводит выражение «колода плоскостей слова». Колода карт Таро, наделяемых сакральными и эзотерическими значениями и применяемых для гадания, делится на так называемые арканы – старшие (они же большие или великие) и младшие. На старших картах представлены фигуры, среди них – Маг, Император, Влюблённые, Отшельник, Повешенный, Смерть, Колесо Судьбы, Солнце, Мир. К 21 карте добавляется особая, 22-я – «Шут». По теории Карла Густава Юнга, эти фигуры отображают главные архетипы коллективного бессознательного человечества. Знакомый Хлебникову оккультист Пётр Успенский полагал, что в основе старших арканов – сюжет древнеегипетской Книги Тота (схожие мысли развивал Алистер Кроули, создавший свою «Книгу Тота» и колоду «Таро Тота»). Среди ранних эзотерических мыслей Хлебникова была и мысль о том, что Россия – это современный, переродившийся Древний Египет. В своём исследовании Силард показывает: если структура «Зангези» и впрямь отсылает к Таро, это означает усиление в хлебниковском космосе мотива судьбы. Несмотря на то что Зангези говорит о победе над судьбой и установлении её законов, cлучай здесь по-прежнему властен (взять хотя бы «неумную шутку» о самоубийстве Зангези, которая возникнет в последней плоскости). С другой стороны, зная мистические законы, понимая символику Таро, с судьбой всё же можно играть – гораздо осмысленнее, чем, например, Германн в «Пиковой даме». Преследуя собственные задачи, творя собственную мифологию, Хлебников маскирует обращения к Таро с помощью «карнавального снижения»: «К примеру: аркан № 16 ("Башня"), символизирующий ситуацию падения с достигнутой высоты… у Хлебникова помечен вынесенным в название Плоскости XVI словом "Падучая". Плоскость XVII соответствует аркану № 17, который обычно носит название "Звезда" и символизирует "выбор судьбы", что у Хлебникова знаменовано карнавальной формулой Зангези: "Спички судьбы". Плоскость XXI – "Весёлое место" – эквивалентна аркану № 21, символизирующему мир, и т. д.»[113]. Кроме того, в работе с картами Таро заложена идея инициации, посвящения в таинства; «путь Зангези по плоскостям колоды ведёт не только учеников и верующих – персонажей "сверхповести", – он ведёт и читателя, и зрителя»[114].
Есть и ещё один смысл числа 22, вероятно связанный со всеми уже названными. 22 года в поэзии футуристов – возраст одновременно молодости и зрелости, телесного и духовного совершенства. «Мир огромив мощью голоса, / иду – / красивый, / двадцатидвухлетний», – говорит о себе тринадцатый апостол – Маяковский в «Облаке в штанах». В «Войне в мышеловке» Хлебников упоминает «милое государство 22-летних», – правда, герою-поэту это прекрасное государство больше не нужно, о нём можно забыть на пути к единому Государству Земного Шара.
Плоскость XX занята драматической поэмой «Горе и Смех»: она носит вставной характер и не принадлежит к общему сюжету «Зангези» явно. Показательно, что Хлебников раздумывал, не заменить ли её другой своей поэмой – «Ночной обыск». Возможно, на окончательное решение повлияла опять-таки символика Таро. Исследовательница Ольга Лукьянова, развивая мысли Лены Силард, соотносит «Горе и Смех» с 20-м старшим арканом Таро «Суд»[115]: в поэме «происходит спор между Горем, в которое "собралась печаль мировая", и Смехом, "громоотводом от мирового гнева"». Смех здесь – мужчина «без шляпы, толстый, с одной серьгой в ухе, в белой рубашке»; «одна половина его чёрных штанов синяя, другая золотая» (алогизм этой детали усиливает комическое впечатление); «у него мясистые весёлые глаза». Полную противоположность представляет женщина-Горе: она «одета во всё белое, лишь чёрная, с низкими широкими полями, шляпа». Они рассказывают о себе, Смех отмечает их зависимость друг от друга: «А я тяну улыбки нитки, / Где я и ты, / Тебе на паутине пытки / Мои даю цветы. / И мы – как две ошибки / В лугах ночной улыбки». Он утверждает, что Горе состоит с ним в любовной связи: «Ты всё же тихим поцелуем / Мне поручи несёшь любви». Но, стремясь соединиться с Горем, Смех быстро понимает, что речь пойдёт не о любовном акте, но о битве (подобие физической любви и войны отмечено давно – хотя бы в «Камасутре»):
- Что же, мы соединим
- Наши воли, наши речи!
- Смех никем не извиним,
- Улетающий далече!
- Час усталый, час ленивый!
- Ты кресало, я огниво!
- Древний смех несу на рынок.
- Ты, весёлая толпа,
- Ты увидишь поединок
- Лезвия о черепа.
«На снегах твоей сорочки / Алым вырастут шиповники» – сексуальная метафора, подразумевающая насилие, довольно прозрачна, однако гибнет в поединке именно Смех:
«Ах, какой полом! (Смех падает мёртвый, зажимая рукоятью красную пену на боку)».
Исследователи отмечают полемическую связь «Горя и Смеха» с «Балаганчиком» Блока (как и «Ночного обыска» – с «Двенадцатью»)[116]. Действительно, «необыкновенно красивая» Коломбина в белом у Блока олицетворяет Смерть, и эта ипостась реальнее, чем ипостась «картонной невесты» Пьеро. Исчезновение или гибель Арлекина в «Балаганчике» – это гибель смехового начала.
Слово «смех» в звёздном языке должно восходить к Эс, а первоочередная ассоциация Эс – солнце/сияние. Не является ли триумф Горя той самой «победой над Солнцем», которую призывали футуристы и которую Хлебников переосмысляет в своих последних текстах? Наконец, в «Горе и Смехе» есть ещё один персонаж – зловещий Старик. Слово «старик» также начинается на С и актуализирует ещё один «архетипический» смысл – Смерть; усиленное связью с Горем, это «мрачное» Эс побеждает «светлое».
В Плоскости XIX Зангези подводят коня, он садится на него и едет в город, произнося последние монологи с предсказаниями и «богочеловеческим» самовозвеличением: «Та-та! / Будет земля занята / Сетью крылатых дорог. / Та-та! Ежели скажут: ты бог, – / Гневно ответь: клевета, / Мне он лишь только до ног!» – и в то же время: «Я ведь такой же простой и земной!» Затем он удаляется, повторяя просьбу звуков: «Войны даём вам / И гибель царств / Мы, дикие звуки, / Мы, дикие кони. / Приручите нас: / Мы понесём вас / В другие миры, / Верные дикому / Всаднику / Звука» (здесь стоит вспомнить, что Хлебников, открыв законы времени, был «полон решимости, если эти законы не привьются среди людей, обучать им порабощённое племя коней»). Далее следует Плоскость XX с поэмой «Горе и Смех», а действие последней Плоскости XXI происходит в «Весёлом месте» (в рукописи обозначено «Кафэ», – возможно, речь идёт о московском «Кафе поэтов»[117], существовавшем в 1917–1918 годах). Двое посетителей читают в газете известие о смерти Зангези: он якобы зарезался бритвой, потому что его рукописи уничтожили «злостные негодяи», – вероятно, те самые прохожие, которые подобрали и прочитали вслух «Доски судьбы». В этот момент входит Зангези и произносит: «Зангези жив, / Это была неумная шутка», – на этом сверхповесть заканчивается.
Непонятно, кто именно пошутил: распространители слухов, газетчики или сам Зангези, который мог, например, инсценировать самоубийство, а потом разочароваться в этом замысле. В любом случае в контексте фигуры пророка перед нами явная пародия на главный сюжет христианства: вместо казни и воскресения – самоубийство и развеянные слухи; последние слова Зангези произносит не на звёздном, а на бытовом языке. Это явное снижение пафоса происходит в городе: такое впечатление, что, покидая любимое заповедное место, Зангези теряет и свою исключительность. О том же говорит и «клишированный сигнал в стиле бульварных романов»[118] «Продолжение следует», которым завершалась первая книжная публикация «Зангези». Нам неизвестно, действительно ли Хлебников планировал продолжение. В посмертных изданиях эта ремарка исчезает.
Вспомним, наконец, что ложному известию о самоубийстве Зангези предшествует гибель Смеха в поэме «Горе и Смех». «Это была неумная шутка», – говорит Зангези и тем самым убивает эту шутку, вообще травестийное начало. Читатель остаётся со скомпрометированным пафосом – но и с горем, которое никуда не делось из мира и которое вскоре вновь осуществится со смертью автора.
Исаак Бабель. Конармия
Кирилл Васильевич Лютов, корреспондент газеты «Красный кавалерист», участвует в польском походе 1-й Конной армии Семёна Будённого и рассказывает о том, что видит и переживает. За кровавым хаосом смутного времени он пытается разглядеть будущий космос новой России, но неизменно впадает в тоску.
Весной – осенью 1920 года Бабель действительно участвовал в походе в качестве корреспондента газеты «Красный кавалерист». Параллельно он вёл дневник и делал наброски для будущих рассказов. Часть рукописей пропала на фронте. По замыслу писателя, в конармейском цикле должно было быть 50 рассказов, но с 1923 по 1937 год он написал 37.
В форме коротких, иногда очень коротких – в два-три абзаца – рассказов и новелл, объединённых местом и временем действия, а в большинстве случаев – и рассказчиком. Стиль «Конармии» состоит из множества элементов, которые могут произвести впечатление эклектичной перенасыщенности. Но, пожалуй, именно такое смешение всего со всем соответствует состоянию мира во время революции и гражданской войны.
Метафорика Ветхого Завета, холодная наблюдательность и точность французской натуральной школы, традиции классической русской прозы (повествовательная манера Чехова; проза Толстого и «Капитанская дочка» Пушкина – в поздних рассказах цикла), особый речевой строй литературы на идиш, южная сочность гоголевского языка.
Исаак Бабель. 1930-е годы[119]
Бойцы Первой Конной армии на митинге по случаю вручения им Почётного революционного Красного Знамени ВЦИК, начало 1920-х годов[120]
Рассказы из цикла выходили в 1923–1924 годах, сначала в одесской газете «Известия», а потом в московских литературных журналах «Леф» и «Красная новь». В 1926-м они были собраны в книгу. Позже Бабель дополнял и дорабатывал свой цикл, последними он написал рассказы «Аргамак» и «Поцелуй».
«Конармии» с самого начала сопутствовал читательский успех. Кроме Горького, Маяковского и главного редактора «Красной нови» Александра Воронского, которые высоко ценили, публиковали и всячески поддерживали Бабеля, новеллы хорошо приняли и пролетарские критики: например, один из руководителей Всероссийской ассоциации пролетарских писателей Г. Лелевич в журнале «На посту» писал, что в бабелевских рассказах имеются «все признаки огромного таланта и мастерства: изумительный лаконизм, умение немногими словами дать законченный, навсегда врезывающийся в память образ, яркая оригинальность, полное неразрывное соответствие между содержанием и формой, несравненный, красочный, сочный, выразительный народный язык…» Правда, такая оценка не помешала разгореться скандалу. Рассказами были оскорблены командиры 1-й Конной Будённый и Ворошилов. И хотя едва ли Будённый действительно сам читал книгу, в журнале «Октябрь» вышла заметка от его имени под заголовком «Бабизм Бабеля в "Красной нови"», где Бабель назван «дегенератом от литературы», а его тексты – клеветой и безответственными небылицами. Главным защитником Бабеля стал Горький, вступивший в публичную полемику с Будённым. Он утверждал, что рассказы возбуждают любовь и уважение к бойцам 1-й Конной, показывают их героями, которые «глубоко чувствуют величие своей борьбы». Горький также сравнил конармейцев Бабеля с запорожцами Гоголя и предложил товарищу Будённому «не судить о литературе с высоты своего коня». Скандал сошёл на нет, но разгорелся снова в 1928 году, после выхода книги. Впрочем, к тому моменту Бабель уже стал литературной знаменитостью – и успеху «Конармии» ничто не помешало.
Бабель постоянно дорабатывал «Конармию», книга выдержала несколько переизданий – последнее прижизненное издание вышло в 1933 году, хотя последние рассказы цикла были написаны в 1937-м. В 1939 году Бабеля арестовали, в 1940-м – расстреляли по ложному обвинению в шпионаже. Его тексты оказались под запретом. После реабилитации в 1955-м переиздания возобновились, тексты писателя начали активно изучать литературоведы. «Конармия» была переведена на 20 языков. Бабель написал около 80 рассказов, несколько пьес, киносценариев, циклы статей, но «Конармия» и «Одесские рассказы», над которыми он работал одновременно, стали его главным литературным наследием.
Виктор Дени. Плакат «Ясновельможная Польша – последняя собака Антанты». 1920 год[121]
Формально рассказы цикла объединяют время и место действия, рассказчик – альтер эго автора Лютов – и единая авторская оптика. Лютов наблюдает за событиями, участником которых становится, записывает разговоры и байки конармейцев, создавая на их основе короткие «портретно-биографические очерки», иногда приводит их письма («Письмо», «Соль», «Солнце Италии»). Знакомится и наблюдает за жизнью местного еврейского и польского населения. Редко – сам оказывается главным или одним из главных действующих лиц («Мой первый гусь», «Смерть Долгушова», «Поцелуй»). Некоторые тексты представляют собой бессюжетные художественные медитации, и здесь скорее звучит голос автора, чем рассказчика (например, «Путь в Броды», «Учение о тачанке»). В текстах с чужими голосами Бабель использует разные формы сказа, копируя эпистолярный стиль жителей казачьих станиц или говор местечковых евреев; в новеллах – короткие, ёмкие, динамичные фразы; в медитациях – размеренный ветхозаветный ритм. Можно проследить и другие звучащие сквозь весь цикл, сплетающиеся линии: армейскую/революционную и традиционные украинскую, еврейскую, польскую, со своими характерами и ритмикой. Рассказы «Конармии» очень по-разному написаны, но эта эклектичность повествования – способ описать хаос, собрать части расколовшегося мира. То есть именно пёстрая мозаика цикла и есть та цельная картина, которую рисует Бабель.
Весной 1920 года, во время так называемой Советско-польской войны, 1-ю Конную армию перебрасывают с Кавказа на юго-западный фронт, где она вступает в сражения с польскими войсками за Житомир и Бердичев, ведёт бои под Львовом. В польском походе Бабель присоединяется к Конармии в качестве корреспондента: его командируют в штаб, чтобы он писал для газеты «Красный кавалерист» тексты, поднимающие боевой дух. Для этой задачи Бабель не был обязан участвовать в сражениях и находиться на передовой. Хотя он пытался провести некоторое время в боевой дивизии (об этом рассказ «Аргамак»), он был неумелым наездником, не мог выстрелить в человека, не говоря уже о том, чтобы рубить шашкой, – для бойцов он был скорее помехой, поэтому ему не мешали оставаться в стороне от основных событий. При этом поход, в котором писатель присоединился к Конармии, не был его первым военным опытом: он отслужил несколько месяцев рядовым на румынском фронте Первой мировой в 1917 году, откуда дезертировал. После этого Бабель написал цикл из четырёх рассказов «На поле чести», в котором объединил мемуары французских солдат из книги «Герои и истории великой войны» Гастона Видаля и собственные впечатления. В «Конармии» Бабель писал о феномене войны с другого угла – скорее как о перевёрнутом мире, в котором старые понятия уже не работают, а новые ещё не сложились. И этот мир он наблюдал в основном во время остановок и переходов.
В «Конармии» жизнь евреев в черте оседлости[122] служит образом старого мира, где ещё бытуют традиции, сохраняется понятие священного. Этот мир, хорошо знакомый и близкий Бабелю, рушится у него на глазах, страдает от грабежей и погромов: иудейские святыни оскверняются, стариков убивают, чтить традиции или хотя бы сохранять человеческое достоинство становится практически невозможным, а молодёжь зачастую отрекается от традиционного уклада, надеясь, что революция принесёт им лучшую жизнь. Жизнь в еврейских поселениях – «ветхозаветная» составляющая «Конармии», «новым заветом» выступает революция, логика войны за будущее против прошлого. Бабель и его герой Лютов разрываются между прошлым и будущим, видят неизбежную гибель старого и несовершенство нового, отчасти принадлежат тому и другому, а в итоге оказываются всем чужими. Ключевое противоречие, с которым сталкивается в польском походе Бабель, проговаривает старый еврей Гедали, мечтающий об «интернационале хороших людей»: «Революция – это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди».
Стиль Бабеля до сих пор не до конца исследован, хотя литературоведы уже многое поняли о его устройстве. Например, одно из главных его свойств в том, что он строится на сближении противоположностей или несопоставимых элементов, играет с антитезами и контрастами. Контрастными парами могут быть страшное и смешное, высокое и низкое, красивое и отвратительное, неожиданно переходящие одно в другое: «Молодой парень с льняным висячим волосом и прекрасным рязанским лицом подошёл к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки». Эффект тем сильнее, чем лаконичнее фраза, внутри которой, по выражению Михаила Вайскопфа, «плюс и минус сгущаются»: например, «успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула», «сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи». Ещё один приём, усиливающий впечатление от контрастов, – ровная «регистрирующая» интонация повествователя, его эмоциональное отчуждение от того, о чём идёт речь. Как метко выразился Виктор Шкловский, «смысл приёма Бабеля состоит в том, что он одним голосом говорит и о звёздах, и о триппере»[123].
Другое базовое свойство бабелевского письма – рваное, импульсивное повествование и фрагментарность сюжета. Литературовед Николай Степанов ещё в 1928 году писал о том, что фабула разворачивается у Бабеля не по событийной канве, а по «скрытым "внутри" рассказа ассоциациям». Нарратолог Вольф Шмид также утверждал, что контрасты и аналогии для Бабеля важнее, чем причинно-следственные связи[124]. Даже в набросках к рассказам Бабель часто указывал сам себе: «без сюжета» или «не соблюдать непрерывности». В результате текст, который мы читаем, прежде всего представляет не историю, а сгусток ярких образов и ассоциаций, через которые история прочитывается, несмотря на множество пробелов и неясностей. «Сюжет ["Конармии"] пропадает из виду, как Афонька в тылу врага», – пишет Вайскопф[125].
Иссахар-Бер Рыбак. Из серии «Погромы». 1918 год[126]
Сюжетные пробелы заполнены красками, звуками, запахами. Бабель был экспрессионистом от природы – все его чувства были обострены, он имел привычку жадно вдыхать запахи и долго ощупывать предметы, старался получить все возможные сильные впечатления (отсюда убеждённость историков в том, что он ходил смотреть на расстрелы, хотя подтверждают этот факт только слухи, циркулировавшие среди бабелевского окружения). Здесь же можно отметить недооформленность, недовоплощённость предметов и персонажей, которую Бабель постоянно использует, удовлетворяясь каким-нибудь выражением вроде «мясистое омерзительное лицо» или «огромное бесформенное существо» (об обилии мясных и кровавых метафор в описании людей пишет Михаил Вайскопф в своей книге «Между огненных стен», посвящённой структурам мышления писателя). Зато ему нет равных в описании ощущений и состояний. Как писал Фазиль Искандер, Бабель сумел сконцентрировать «невиданное до него многообразие человеческого состояния на единицу литературной площади»[127].
Здесь нужно иметь в виду две ситуации: реальную и литературную. В реальности Бабель получил документы на имя Кирилл Васильевич Лютов (национальность – русский), отправляясь в Конармию. Во-первых, это имя защищало его в обществе конармейцев: бойцы недолюбливали его за очки, пацифизм и образованность, но редко догадывались, что он ещё и еврей. Во-вторых, под именем Лютова он писал в газету, а под своим настоящим именем публиковал рассказы; две эти субличности, можно сказать, имели разные политические взгляды. В книге Лютов – имя рассказчика, который принимает участие в событиях и позволяет автору дистанцироваться от происходящего. Благодаря двум точкам зрения снимается окончательность, правильность любой из них, хотя Бабель и так стремится к безоценочности: есть точка зрения участника событий и авторская, данная в образах и подтексте, они не обязательно совпадают.
«Конармия» основана на реальных событиях, участником которых был Бабель, но не претендует на историческую объективность. В ней много фактических неточностей: сдвиги во времени, «примерная» география – Бабель писал о событиях по памяти, с большой долей условности. Кроме этого, одни персонажи встречаются в его дневниках, а другие нет, – скорее всего, это вымышленные или собирательные образы. Как документ более точен «Конармейский дневник» Бабеля, который тоже частично сохранился и был опубликован после смерти писателя. В «Конармии» Бабель пытался разобраться, что перед ним за люди и какое они несут будущее, его интересовала их психология, «внутреннее устройство», и собственный опыт переживания войны. Сам поход в этом случае скорее среда для наблюдения.
Конный корпус Будённого под Воронежем. Октябрь 1919 года[128]
О том, как менялось отношение Бабеля к конармейцам, можно судить по его дневнику. Поначалу он пытался найти в них черты нового, духовно возродившегося народа, но постепенно разочаровался, назвал бойцов «зверьём с принципами» и наградил их целым облаком нелестных ассоциаций: «барахольство, удальство, звериная жестокость, бархатные фуражки, изнасилования, чубы, бои, революция и сифилис». Казаки, присоединившиеся к Будённому, отличались особой жестокостью, а кроме того, должны были сами добывать себе лошадей, оружие и пропитание. Попадая в мирные поселения, они грабили, жгли дома и убивали любого, кто пытался оказать им сопротивление. При этом конармейцы у Бабеля – одновременно разбойники и герои, не лишённые своеобразных представлений о чести, которые отчасти компенсируют беспричинную жестокость. Михаил Вайскопф даже утверждает, что «под давлением цензуры и самоцензуры он неимоверно облагородил конармейцев»[129].
Лучшей иллюстрацией к тому, кто такой бабелевский персонаж, служит рассказ «Соль», написанный в форме письма конармейца в газету («Дорогой товарищ редактор. Хочу описать вам за несознательность женщин, которые нам вредные»). Он рассказывает о том, как бойцы пускают в поезд женщину с грудным ребёнком и относятся к ней с непривычным уважением, как к собирательной фигуре матери, которая есть у каждого большевика. Однако выясняется, что женщина везёт не ребёнка, а контрабанду – мешок соли. Раскрыв обман, бойцы сбрасывают женщину с поезда и убивают из винтовки. Главный принцип конармейцев – революционная справедливость, понимаемая, конечно, по-своему. Всё, что несёт пользу революции, заслуживает жизни, но за пределами этой полезности человеческая личность и жизнь, в том числе и их собственная, ничего не стоит. Другая яркая иллюстрация представлений конармейцев о ценности человеческой жизни – «Письмо», в котором мальчик вперемешку с бытовыми подробностями и беспокойством о чесотке у коня рассказывает об убийстве своего отца-белогвардейца («…и Семён Тимофеич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Фёдоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому я был усланный со двора. ‹…› Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеич Курдюков. Мамка, доглядайте до Стёпки, и бог вас не оставит»). Ещё один важный рассказ – «Смерть Долгушова», в котором Лютов не решается добить смертельно раненного бойца, хотя это необходимо, чтобы не оставить его на растерзание полякам: «Афонька… выстрелил Долгушову в рот. – Афоня, – сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку, – а я вот не смог. – Уйди, – ответил он, бледнея, – убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку…» Здесь Бабель явно противопоставляет гуманизм своего альтер эго конармейцам так, что становится ясно: разрушение системы ценностей, которое несёт революция, требует более глубокого анализа; ценности больше не универсальны – принципы оказываются важнее. «Экономическая справедливость» конармейцев отражена в рассказах о том, как они добывают себе коней: «На деревне стон стоит. Конница травит хлеб и меняет лошадей. Взамен приставших кляч кавалеристы забирают рабочую скотину. Бранить тут некого. Без лошади нет армии» («Начальник конзапаса»). В рассказе «История одной лошади» заодно можно увидеть и то, как бойцы понимают коммунизм: «Коммунистическая партия… основана, полагаю, для радости и твёрдой правды без предела». Их представления о чести по-своему отражены в рассказе «Прищепа», в котором бежавший от белых боец вырезает всю деревню за то, что разграбили имущество в его доме, а потом сжигает и дом.
В газете «Красный кавалерист» Бабель публиковал пропагандистские тексты, воспевая подвиги конармейцев и призывая их уничтожать врага. В дневнике, а потом и в «Конармии» он фиксировал свои личные впечатления и рассуждения, которые сильно расходились с официальными. К счастью для писателя, военное руководство не видело, что он писал о Конармии в своём дневнике. Впрочем, Будённый и Ворошилов прекрасно знали, что конармейцы имеют репутацию бандитов, да и первые рассказы Бабеля появились в печати задолго до скандала. Однако именно в этот момент, в 1924 году, возникла более серьёзная, внелитературная причина для нападок военачальников на Бабеля. В верхах власти разворачивалась борьба между Сталиным, Троцким и их окружением. Конная армия была одним из аргументов за Сталина и против Троцкого: последний, всё ещё фактически контролировавший военные силы страны, недолюбливал конницу как неблагонадёжную. Поэтому в лагере Ворошилова была спланирована многоходовая акция, которая должна была начаться с травли Бабеля и близкого к Троцкому редактора Воронского, а в итоге стать кампанией по популяризации Конармии. За реакцию Будённого, который вряд ли читал рассказы и тем более сам мог написать статью в «Октябрь», отвечал надёжный человек Ворошилова – Сергей Орловский, впоследствии возглавивший литературно-художественную секцию землячества[130] Конармии. «Замысел был следующий, – пишет исследователь Юрий Парсамов, – статья Будённого в "Октябре" должна была открывать полемику. Вслед за ней в редакцию "Правды" и Политбюро должны были поступать письма и статьи от "возмущённых" конармейцев. Кульминацией же всего этого должен был стать погромный доклад Ворошилова в ЦК». В ноябре 1924 года действительно началась антибабелевская кампания в прессе и Политбюро, но в 1925 году Троцкий покинул пост наркомвоенмора[131], и литературная дискуссия потеряла политический смысл. Осенью 1928 года дискуссия возобновилась в газете «Правда», где Будённый вспомнил старые обиды на Горького (тот высмеял литературные суждения командарма перед молодыми писателями), но на этот раз Сталина ссора не заинтересовала. Скандал неловко затих, породив целую серию анекдотов о Будённом и Бабеле, а Бабель временно получил возможность спокойно работать.
Литература довольно быстро отреагировала на события Гражданской войны – к середине двадцатых кроме «Конармии» были написаны уже самые разные произведения: «Железный поток» Александра Серафимовича, «Падение Даира» Александра Малышкина, «Белая гвардия» Михаила Булгакова, «Донские рассказы» Михаила Шолохова, «Бронепоезд 14–69» Всеволода Иванова. В советском литературоведении существовал миф, что в это время уже вовсю формировался соцреализм – основа будущей советской официальной литературы. Но на самом деле литература двадцатых годов была ещё далека от той структурированности и идейного единства, к которым ей пришлось прийти за следующие десять лет. Когда в журналах выходили новеллы из «Конармии», единственным, что объединяло писателей разных взглядов, было ощущение хаоса, противоречивости и неопределённости окружающего мира, а вместе с ним – потерянности, романтического одиночества попавшего в этот вихрь человека. Недаром основной – а вовсе не исключительной – литературной стратегией стал экспрессионизм, который мог передать это ощущение. Даже читая тексты, написанные скорее в реалистическом ключе, нельзя не заметить, насколько смелыми образами пользовались современники Бабеля, как тяготели к ритмизации и увлекались поэмами в прозе. Вот почему «Конармия», хоть и была выдающимся произведением, вряд ли могла произвести на читателя шокирующее впечатление. Скорее она воспринималась как один из пиков современного, весьма разнообразного и скоротечного, но всё-таки мейнстрима. Что касается идеологии, то и здесь скандал, связанный с публикацией рассказов, был обусловлен только конкретным политическим моментом. Тот же Лелевич, благосклонно отзывавшийся о «Конармии», не преминул написать, что Бабеля ещё рано называть «пролетарским писателем», однако в целом для 1924–1926 годов никакого радикального жеста писатель не совершил.
Южная, она же южнорусская, она же юго-западная, она же одесская литературная школа – историко-литературный конструкт, который до сих пор вызывает споры. О том, что такая школа фактически существует, заявил Виктор Шкловский, чья статья «Юго-Запад» в «Литературной газете» в 1933 году дала старт скандальной дискуссии о формализме, хотя была написана с совсем другой целью. В статье Шкловский писал, что в современной литературе имеет смысл выделить группу писателей, чья поэтика определяется их географическим происхождением: это одесситы Валентин Катаев, Юрий Олеша, Илья Ильф и Евгений Петров, Лев Славин, Эдуард Багрицкий, Исаак Бабель и другие. Шкловский предложил романтическую концепцию юго-западного литературного направления: он сравнил одесских писателей с александрийцами[132], подчёркивая их ориентацию на европейскую традицию и сюжетность плутовского романа, за что был раскритикован на Первом съезде советских писателей и был вынужден публично от статьи отказаться. Однако и вне идеологических установок писательского съезда концепция Шкловского оказалась искусственной. Часть из названных авторов в 1920–1922 годах действительно состояла в одном одесском литературном кружке – «Коллективе поэтов», но он распался как раз из-за того, что большинство участников уехали в Москву и Харьков. Общей поэтики у них тоже не было, а плутовской роман и вовсе был редким жанром. Когда в шестидесятые годы тексты Бабеля снова вернулись к читателю, одесский колорит в литературе, и в частности «одесский язык» (то есть русская калька с идиш, на которой говорила часть местного еврейского населения), считался его изобретением, но и это было ошибкой. В том числе благодаря Шкловскому одесситы двадцатых годов были оторваны в литературоведении от своих старших коллег, писавших в Одессе до революции: Юшкевича, Дорошевича, Жаботинского; кроме того, на молодых литераторов сильно повлияли оказавшиеся в Одессе в 1919–1920 годах Волошин, будущие эмигранты Бунин, Алданов и другие. Вадим Ярмолинец, анализирующий эту историю в статье «Одесский узел Шкловского»[133], предполагает, что южная литературная школа гипотетически может быть выделена, если расширить её исторические рамки от конца девятнадцатого века и вплоть до девяностых годов века двадцатого, но и при таком обширном контексте для выделения собственно школы потребуются критерии и методология, которых на сегодняшний день нет. Словом, южная школа – историко-литературный фантом, который может помочь разве что запомнить, кто из писателей двадцатых годов приехал в Москву из Одессы. И всё-таки идея выделить южное направление русской литературы и противопоставить его северному до сих пор привлекает некоторых историков литературы, поэтому и термин продолжает бытовать, в том числе в связи с Бабелем.
Исаак Бабель. Одесские рассказы
О жизни в Одессе начала XX века, где «в купальнях блестят на солнце мускулистые бронзовые фигуры юношей, занимающихся спортом, мощные тела рыбаков, не занимающихся спортом, жирные, толстопузые и добродушные телеса "негоциантов", прыщавые и тощие фантазёры, изобретатели и маклера».
Среди всех этих характерных персонажей особенно интересны для Бабеля преступники во главе с Беней Криком, прототипом которого был известный одесский бандит Мишка Япончик (Мойше-Яков Вольфович Винницкий). Но Бабель далёк от дотошного описания колоритных одесских быта и нравов: авантюрная жизнь Бени Крика и его коллег, а также сосуществование русских и евреев на территории черты оседлости подталкивают его к размышлению о месте насилия в обществе и истории.
Четыре рассказа – «Король», «Как это делалось в Одессе», «Любка Казак» и «Отец» – были закончены и опубликованы в периодике в 1921–1924 годах. Один из них, «Любка Казак», в 1925 году вышел отдельной книжкой.
Согласно современным исследованиям, именно эти четыре рассказа и составляют «каноническую» версию «Одесских рассказов», другие же рассказы об Одессе часто называются дополнением к ней. Впрочем, главный текстолог-исследователь бабелевского наследия Елена Погорельская предостерегает от слишком вольного включения отдельных рассказов в одесский цикл. По-видимому, подобная свобода границ цикла сложилась после небольшой книжки 1931 года (и последовавших за ней сборников «Избранного», издаваемых вплоть до 1936 года), в которой «Одесские рассказы» были опубликованы рядом с примыкающими к ним по смыслу текстами. К ним Погорельская относит «Справедливость в скобках», «Закат», «Фроим Грач», «Конец богадельни» и некоторые другие рассказы, но не рекомендует включать в цикл рассказы «Мой первый гонорар», «Гюи де Мопассан», «Дорога», «Иван-да-Марья», а также рассказы, входящие в условный цикл «История моей голубятни» (так как их действие происходит в других городах).
Исаак Бабель. Конец 1920-х годов[134]
Несмотря на то что входящие в цикл рассказы об Одессе объединены местом действия и сквозными персонажами, стиль их неоднороден и часто меняется.
Бабель то обращается к экспрессионистской манере, напоминающей орнаментальную прозу, то переходит на язык важной для 1920-х годов очерковой фактографии, то пишет в стилистике натурализма столь любимой им французской раннемодернистской прозы. Вот, например, характерное начало рассказа «Король», открывающего «Одесские рассказы»:
Венчание кончилось, раввин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. ‹…› Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопчённые двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человечьего мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток Торы, крохотная и горбатая.
Разностилье рассказов об Одессе выдержано Бабелем совершенно сознательно: он считал, что переломное для России и мира время не может быть сведено к одному художественному стилю.
На стилистику и темы прозы Бабеля повлияли самые разные явления, в диапазоне от хасидских притч и фрейдовского психоанализа до французской литературы натуралистического направления и русской прозы XIX века (особенно Лев Толстой и Николай Гоголь). Старые притчи и рассказы, которые он мог слышать от старших родственников и читать в литературных текстах на идиш (Шолом-Алейхема, например), в его текстах получали скорее пародийное преломление (что позволяло и дистанцироваться от своей традиционной культуры, и сохранить память о ней). Психоаналитические исследования и тексты Мопассана и Золя позволили ему выработать оригинальный писательский взгляд на человеческое тело, ввести в свою прозу проблематику сексуальности. От Гоголя Бабель перенял привычку к мрачному юмору. А Толстой оказался важен для поздней прозы Бабеля, которая становится более сдержанной и объективистской.
Улица Ришельевская, Одесса. Начало XX века[135]
Рассказы, составляющие каноническую версию цикла, публиковались в начале 1920-х в советской периодике. Первый рассказ, «Король», был опубликован в июньском выпуске газеты «Моряк» за 1921 год. Через два года в «Литературном приложении» к «Известиям Одесского губисполкома, губкома КП(б)У и губпрофсовета» вышел рассказ «Как это делалось в Одессе». В пятом номере журнала «Красная новь» за 1924 год были опубликованы рассказы «Отец» и «Любка Казак».
В отличие от «Конармии», спровоцировавшей бешеную реакцию предводителя Первой Конной армии Семёна Будённого, рассказы об Одессе не вызвали резкой критики со стороны литературных и политических функционеров. Более того, они привлекли внимание артистического цеха: так, сверхпопулярный в те годы Леонид Утёсов взял несколько рассказов Бабеля для исполнения со сцены. А Виктор Шкловский написал о Бабеле небольшой очерк, где высказан тезис о том, что «он иностранец даже в Одессе» (то есть смотрит на свой родной город как бы со стороны). В 1928 году вышел небольшой сборник научных статей о Бабеле (который всегда воспринимался как писатель-«попутчик») под редакцией Бориса Казанского и Юрия Тынянова (авторы статей – известные филологи Николай Степанов, Григорий Гуковский и Павел Новицкий).
После публикации канонического корпуса «Одесских рассказов» в 1924 году Бабель переживает пик писательской славы. В середине 1930-х он совершает несколько поездок во Францию и Бельгию, но, вопреки желаниям живущих там родственников, всё-таки возвращается в Советский Союз. Тогда же он сближается с семьёй Николая Ежова и Евгении Хаютиной, якобы собирая материал для романа о работниках НКВД, черновик которого был изъят при обыске (или вовсе не существовал). В 1939 году Исаак Бабель арестован по ложному обвинению в шпионаже и в следующем году расстрелян.
Последний прижизненный сборник Бабеля вышел в 1936 году. Следующая книга появилась только в 1957 году (с предисловием Ильи Эренбурга): в этот сборник под названием «Избранное» наряду с «Конармией» вошли и рассказы об Одессе, которые позднее переиздавались в среднем раз в десятилетие, но особенно интенсивно на рубеже 1980–90-х годов (когда вышло более пяти разных по качеству сборников Бабеля). Тогда же рассказы об Одессе были экранизированы: в 1989 году вышли фильмы «Биндюжник и Король» Владимира Аленикова и «Искусство жить в Одессе» Георгия Юнгвальда-Хилькевича, а в 1990 году – «Закат» Александра Зельдовича. В конце 1980-х появились и первые театральные постановки рассказов Бабеля: среди них особое место занимает «Закат» Андрея Гончарова, поставленный в 1987 году в Московском театре им. В. Маяковского. Через десять лет в Театре на Таганке выходит известный спектакль «Пять рассказов Бабеля» Ефима Кучера. Ещё при жизни Бабеля его рассказы исполнялись со сцены Леонидом Утёсовым, что, по-видимому, положило начало традиции устного «одесского юмора», в 1960–70-е годы доведённой до блеска Михаилом Жванецким и Романом Карцевым.
Одесская тема появилась в творчестве Бабеля ещё до написания «Одесских рассказов»: в 1916 году он пишет небольшой очерк-манифест «Одесса». Его взгляд на родной город, как и на мир вообще, одновременно жесток и нежен: с одной стороны, он пишет о том, что «в Одессе очень бедное, многочисленное и страдающее еврейское гетто, очень самодовольная буржуазия и очень черносотенная городская дума», с другой – что «в Одессе сладостные и томительные весенние вечера, пряный аромат акаций и исполненная ровного и неотразимого света луна над тёмным морем». Бабель придавал Одессе важную роль в «европеизации» России, в то же время противопоставлял её другому «окну в Европу» – холодному и промозглому Петербургу, способному рождать мрачные сюжеты Достоевского. Благодаря своему пограничному расположению и мягкому климату Одесса оказывается «единственным в России городом, где может родиться так нужный нам наш национальный Мопассан». Кого имеет в виду Бабель? Помня о его страстном увлечении Мопассаном, можно предположить, что себя: по крайней мере написанные позднее «Конармия» и «Одесские рассказы» показывают, что он хорошо усвоил уроки французского новеллиста, сделав его взгляд ещё более бескомпромиссным.
Леонид Утёсов ещё при жизни Бабеля читал «Одесские рассказы» со сцены[136]
Можно сказать, что Одесса для Бабеля не только родной город, но и мир в миниатюре (как Йокнапатофа Уильяма Фолкнера или Макондо Габриэля Гарсиа Маркеса).
По словам немецкой исследовательницы советской литературы Мирьи Лекке, бабелевская Одесса универсальна, то есть представлена как пример пограничной территории, разделяющей Россию и Европу (и шире – Восток и Запад), бедность и богатство, тепло и холод и т. д. При этом специфика жизни в Одессе такова, что Бабель попросту не мог отказаться от отражения множества колоритных деталей речи жителей, городского быта и географии. Центральное место в бабелевской Одессе (которая может и не совпадать с Одессой исторической, фактической) занимает Молдаванка – район, в котором родился Бабель и где происходит почти всё основное действие «Одесских рассказов». В начале прошлого века Молдаванка была бедным и криминальным районом: по сути, трущобами, отделёнными от построенной итальянскими архитекторами центральной части Одессы, которая к началу XX века стала одним из самых европеизированных городов Российской империи (причинами тому были историческая связь с Францией, многонациональный состав населения и находящийся в самом сердце города морской порт). Но под пером Бабеля Молдаванка приобретает своеобразный праздничный блеск, в котором социальные и культурные противоречия – в том числе почти государственный антисемитизм – отходят на второй план, а сама Молдаванка предстаёт своего рода карнавальным воплощением всей дореволюционной Одессы, местом скопления разношёрстной публики, которая живёт, любит, работает, грабит и даже убивает играючи и с юмором.
Почтовая открытка. 1910-е годы[137]
Последний из «Одесских рассказов» – «Любка Казак» – заканчивается словами о хитром управляющем Цудечкисе: «Он пробыл в своей должности пятнадцать лет, и за это время я узнал о нём множество историй». Когда закончились эти пятнадцать лет? Предположим, что в 1919 году, событиям которого посвящён рассказ «Фроим Грач», дополняющий «Одесские рассказы». Думается, именно в эти пятнадцать (плюс-минус два-три года) лет (1904–1919) и происходит действие одесских текстов Бабеля: это период между двух революций, когда жизнь в России сначала постепенно, а затем и вовсе радикально изменяется. Зафиксировать эти временные изменения и стремился Бабель.
Вряд ли юный Исаак Бабель был знаком с известным одесским бандитом Мишкой Япончиком и его бандой, но интерес для него они представляли всегда. Именно поэтому он пошёл не столько по пути критики бандитского образа жизни (как Антон Макаренко, Л. Пантелеев или режиссёр фильма «Путёвка в жизнь» Николай Экк), а по пути заворожённого описания их быта, речи и манер (которые он мог наблюдать со стороны, а позднее додумать и дофантазировать). В 1920-е годы «Одесские рассказы» и дополняющие их тексты могли сойти за описание косного дореволюционного быта, тогда как уже в начале 1930-х чуткий к веяниям времени Бабель начал писать роман «Коля Топуз» о перековке одесского бандита в советского рабочего-шахтёра (но роман не был закончен).
Обаяние преступников в рассказах Бабеля связано с интересом и даже восхищением, которое испытывает к ним автор – особенно это касается Бени (Бенциона) Крика, прототипом которого и был Мишка Япончик. Для описания Бени и его жизни Бабель не жалел стилистических возможностей: речь, одежды, манеры Крика описаны очень подробно и ярко, а сам он всегда оказывается на первом плане. Почему же Бабеля привлекала фигура Бени Крика и других бандитов? Во-первых, экзотические герои требовались Бабелю для того, чтобы закрепиться в советской литературе (пусть и в качестве «попутчика»): в 1920-е ей были нужны яркие и неоднозначные персонажи, которые могли бы оживить литературу, освободить «от бытовщины и от набившей оскомину промозглой петербургской духовности». На более глубоком уровне Бабеля привлекал врождённый авантюризм Крика-Япончика, помогающий в, казалось бы, безвыходных ситуациях. В отличие от другого одесского авантюриста, Остапа Бендера, Крик не стремился пользоваться противоречиями общества, а создавал сообщество, которое мог бы возглавить. В этом проявляется столь важное для Бабеля героическое начало, возвышающее Крика над более зависимыми жителями Молдаванки (реальный Япончик возглавлял один из отрядов еврейского сопротивления погромам). Восхищение Беней, разумеется, разделяли не все: живший в те же годы в Одессе певец Леонид Утёсов считал, что бандиты не были романтиками, артистами, поэтами, но стали таковыми только после выхода «Одесских рассказов».
Буквально в каждом одесском рассказе Бабеля есть ситуация, которая заставляет читателя содрогнуться, – иногда из такой ситуации или ситуаций состоит весь текст («Как это делалось в Одессе») Но, помимо трагических смертей, в рассказах об Одессе часто присутствуют и сцены физического насилия, психологического давления (на почве антисемитизма и не только), испытываемого героями страха, ужаса, отчуждения и т. д.
Всё это указывает на то, что насилие для Бабеля – не просто черта того или иного исторического времени и связанных с ним событий, но неотъемлемая часть общественного договора и человеческого существования вообще, без которого оно потеряло бы остроту. А экстремальные исторические события (война, еврейские погромы, революции), сопряжённые с многократным увеличением насилия, делают проживание жизни более интенсивным, наполненным.
Это вовсе не значит, что Бабель – апологет насилия, смакующий в своей прозе эпизоды жестокости. Скорее он заворожённый исследователь, который, в отличие от предшественников, не может позволить себе отвернуться от страшного и несправедливого, но и не может изменить его ход (в этом смысле его подход близок к документальному кино и фотографии, но сделанным как бы с подчёркнутой экспрессией). Бабель стремился понять, что заставляет людей быть жестокими по отношению друг к другу, животным, природе.
Ещё до написания «Конармии» и «Одесских рассказов» Бабель опубликовал в Петербурге несколько рассказов, в том числе «Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна», описывающий встречу старого одесского еврея и проститутки из Орла. Из эротических моментов в этом тексте упоминается только поцелуй «в седеющую щеку», но цензура сочла этот и другие рассказы Бабеля порнографическими. Впрочем, революционные события помешали судебным заседаниям.
В дальнейшем Бабель часто обращался к сексуальной коллизии, которая могла быть как главной темой рассказа, так и своего рода подтекстом, соединяясь с другими важными мотивами, например едой. Так, например, открывающий «Одесские рассказы» «Король» начинается с сочного описания готовки и свадебного пира; в другом рассказе цикла, «Отец», запутанные матримониальные истории решаются в накалённом чувственностью одесском воздухе, где «парни тащили… девушек за ограды, и поцелуи раздавались на могильных плитах». Здесь заявлена и ещё одна важная для Бабеля тема, связанная с сосуществованием сексуальности и смерти, которое наиболее рельефно отражено в жестоких, порой садистских эпизодах «Конармии». Среди других одесских текстов можно назвать также рассказ «Закат», в котором Лёвка, брат Бени Крика, влюбившись в девушку по имени Табл, уходит на три дня из дома, чем провоцирует семейный конфликт:
– Уходи, грубый сын, – сказал папаша Крик, завидев Лёвку.
– Папаша, – ответил Лёвка, – возьмите камертон и настройте ваши уши.
– В чём суть?
– Есть одна девушка, – сказал сын. – Она имеет блондинный волос. Её зовут Табл. Табл по-русски значит голубка. Я положил глаз на эту девушку.
Но самым частым эпизодом в прозе Бабеля можно считать встречу бедного и сексуально неискушённого юноши с опытной, экспансивной женщиной (чаще всего секс-работницей). Подобный эпизод присутствует во многих рассказах Бабеля и выполняет сразу несколько функций, которые не исключают друг друга. С одной стороны, секс для него связан с резким взрослением, дистанцированием от консервативной «отцовской культуры» и обретением психологической независимости в чувственном мире. С другой стороны, важен и культурно-национальный контекст сексуальных сцен: в рассказах Бабеля молодой еврейский студент овладевает взрослой русской женщиной так же, как прожжённый Беня Крик – Катюшей, которая «накаляла для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай». Впрочем, по мнению Александра Жолковского, само писательство для Бабеля связано с сексуальностью: автору необходимо пройти своеобразную инициацию, «овладев» темой, стилистикой и т. д.
Как и в «Конармии», в «Одесских рассказах» и в примыкающих к ним текстах Бабель стремился не просто передать повседневную речь жителей (как это делал бы автор-бытописатель), но как бы театрализовать её, представляя каждый длинный монолог и отдельные реплики персонажей почти как оперную арию. При этом Бабель не считал себя родоначальником так называемого одесского языка (составленного из смеси русского, украинского и идиш), создание которого ему иногда приписывают (что вызывает возмущение у многих одесситов, находящих у Бабеля массу «ошибок»).
Многие исследователи сходятся на том, что речь персонажей Бабеля связана с еврейской фольклорной традицией, берущей начало чуть ли не в речи библейских апостолов и пророков (у Бабеля, кстати, есть множество намёков на этот культурный пласт: например, «Ты сеешь неприятности, Арье-Лейб, ты получишь завирюху», отсылающее к словам пророка Осии: «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю»). Этот тип речи разбавляется столь виртуозно переданными в прозе Бабеля просторечными репликами одесских жителей и уголовного элемента:
Об чём думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях – и ничего больше.
Можно сказать, что два этих типа речи (и не только они) в рассказах об Одессе контрастно отчуждали друг друга, что делало рассказы особенно смешными. При этом автор находился как бы за пределами текста, «подвешивая» религиозный пафос городских проповедников и житейскую мудрость небогатых еврейских семей. Думается, подобная авторская вненаходимость имела этическую природу: как и сам Бабель, рассказчик не хочет ассоциировать себя ни с религиозной, ни с городской (одесской) темой, но смотрит на обе с некоторой дистанции.
Бабель представлял незнакомых большинству современников героев, помещая их в необычные обстоятельства: собственно, это и вызывало у читателей и слушателей улыбку, а юмор позволял Бабелю отстраниться от своих персонажей, не смешаться с ними. Одесский мир у Бабеля наполнен множеством социальных ритуалов и речевых особенностей, природа которых не всегда понятна жителям средней полосы и уж тем более Центральной Европы (где бабелевские рассказы переводились довольно оперативно).
Думается, смеховая реакция просчитывалась Бабелем, который стремился совместить добрый юмор Шолом-Алейхема и более мрачный юмор Гоголя: жизнь многих героев Бабеля поистине ужасна, но мягкий одесский климат не позволяет воспринимать происходящее слишком серьёзно.
Бабель наделяет повествователя, а также некоторых героев «Одесских рассказов» и примыкающих к ним текстов многими чертами своей биографии и характера, но эти тексты нельзя назвать автобиографическими. Человек XX века, Бабель был хорошо знаком с неврозом постоянного несовпадения с собой, который усиливался его еврейским происхождением, советским подданством и т. д. Ему удалось перенести этот «симптом» в свои тексты, при помощи стилистического блеска и мрачного юмора обострив отношения между биографическим автором и повествователем: можно сказать, что рассказчик – это идеальная версия самого Бабеля, которому, по его собственным признаниям, в жизни не хватало внимательности, жёсткости, чувства осмысленности происходящего (хотя известно, что Бабель был склонен умалять свои способности и заслуги).
Железнодорожник. Одесса. Начало ХХ века[138]
Автор смотрит на повествователя и персонажей-прототипов как бы со стороны, с часто присутствующей на фотографиях самого Бабеля грустной улыбкой. Впрочем, иногда грустная улыбка сменяется страхом или даже омерзением: так происходит во многих рассказах цикла «Конармия», где дистанция между бабелевским альтер эго Лютовым и воинственным окружением обсуждается практически постоянно. Дистанция подчёркивается обращением Бабеля к псевдодокументальным источникам (письма, статьи), показывающим отличие языка повествователя от языка его персонажей.
Сам Исаак Бабель считал себя советским писателем. Несмотря на то что он был достаточно быстро переведён на европейские языки – в частности, на наиболее близкий ему французский, – он так и не решился остаться в эмиграции в 1930-х, боясь языкового вакуума и особенно авторской невостребованности. Можно сказать, что этот выбор в конечном итоге стоил ему жизни.
С другой стороны, для Бабеля были важны иудаистские мотивы, которые проникали в его жизнь через обязательное для еврейского юноши изучение талмудической традиции и богатейший еврейский фольклор, растворённый в повседневной речи одесских жителей. Как показывает филолог Михаил Вайскопф, следы этих влияний довольно часты в рассказах Бабеля: они могут выражаться как на уровне сюжета (травестия хасидской притчи о хромой лошади в рассказе «Начальник конзапаса»), так и в артистичной речи почти всех персонажей «Одесских рассказов»:
Нужны ли тут слова? Был человек, и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке, – и вот он погиб через глупость. Пришёл еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живого человека. Нужны ли тут слова?
Как и его ровесники еврейского происхождения, Исаак Бабель оказался перед сложным этическим и политическим выбором: эмигрировать из СССР и больше не вспоминать о своём происхождении или хранить память о нём, сделав его элементом своей частной жизни. В разные периоды своей жизни Бабель склонялся то к одному, то к другому полюсу, но все его основные жизненные выборы и обстоятельства были связаны с секулярным, «гражданским» сценарием: безоговорочное принятие Октябрьской революции, интерес к шокирующим сюжетам, непростые отношения с женщинами и т. д.
Детский – как и подростковый – взгляд на те или иные события очень важен для Бабеля. С одной стороны, это один из способов обозначить зазор между автором и повествователем, автором и персонажем, с другой – он позволяет встретиться с каждым событием словно бы в первый раз, увидеть мир свежим, незамыленным взглядом. Причём это могут быть совершенно разные события: первое столкновение с человеческой жестокостью, вопиющей несправедливостью, историческими событиями или первая любовь, потеря невинности, встреча с искусством и т. д.
Согласно Бабелю, детство и юность – несправедливое и жестокое время тревожной растерянности перед миром и бесконечной зависимости от рода, традиций, предписаний и других людей. Все эти черты сближают как юного героя (прототипом которого, по всей видимости, был сам Бабель) не входящего в одесский цикл рассказа «История моей голубятни», оказавшегося в эпицентре еврейского погрома, так и мальчика по фамилии Курдюков из «конармейского» рассказа «Письмо», простодушно рассказывающего о казни своего отца-самодура. Можно сказать, что подростки – главные жертвы в нестабильном мире, который описывает Бабель: они не всегда способны физически и психологически защититься от насилия, но в то же время часто обладают интуицией, позволяющей им понять его причины. С другой стороны, юные герои вполне способны быть проводниками насилия, не всегда понимая его последствия.
Традиция русской южной прозы, героями которой становились живущие в приграничных землях украинцы, евреи, румыны и русские, после Октябрьской революции 1917 года переживает особенный подъём. Если до революции она обращалась к разного рода локальным сюжетам, не стремясь конкурировать с большой русской литературой, то в начале 1920-х о себе заявила целая плеяда «южных» авторов, не желавших мириться со своим маргинальным положением. Немаловажно, что многие из них родились и выросли в Одессе, чьё периферийное положение позволяло им смешивать в своих текстах самые разные мотивы: от грубой, на грани садизма, физиологии до вдохновенного интереса к авантюрным персонажам-трикстерам. К классическим примерам такого южного (одесского) письма можно отнести «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, а также стихотворные тексты Эдуарда Багрицкого, поэтизировавшего полууголовный мир одесских портов, и более поздние автобиографические тексты Валентина Катаева.
Место Бабеля в этом ряду совершенно законно, хотя и парадоксально: он хочет не просто быть автором, пишущим об Одессе, но и понять, что значит быть одесским автором в новых, послереволюционных условиях. В отличие от Эдуарда Багрицкого, Бабель не стремится полностью раствориться в южной речи и одесских сюжетах. Он вводит иронический подтекст, чтобы увидеть родной город как бы со стороны, глазами удивлённого одесской сутолокой иностранца.
Марина Цветаева. Поэма Горы
О противостоянии долга и страсти, о богоборческом смысле любви. Истинная любовь, по Цветаевой, способна достигать совершенства, подвластного только Богу, но именно из-за этого обречена на его возмездие. Несмотря на то что в основу «Поэмы Горы» положена реальная любовная история Цветаевой, сама поэма не локализована ни во времени, ни в пространстве. В её центре сюжет о том, как люди встречаются (поднимаются на Гору), люди влюбляются (находятся на Горе), но не женятся, а расстаются и прощаются навсегда (спускаются с Горы).
Цветаева пишет «Поэму Горы» в январе 1924 года, подводя символическую черту под романом с Константином Родзевичем. В это время она живёт с мужем[139] и дочерью[140] в Праге (Эфрон получает студенческую стипендию, Цветаева, как русский поэт, – вспомоществование от чешского правительства плюс гонорары от еженедельника «Воля России»). Сюжет будущего произведения она, по сути, проговаривает в январском письме другому своему увлечению Александру Бахраху[141], сообщая, что рассталась с Родзевичем «любя и любимая, в полный разгар любви… Разбив его и свою жизнь», Цветаева формулирует: «Ничего не хочу, кроме него, а его никогда не будет. Это такое первое расставание за жизнь, потому что, любя, захотел всего: жизни: простой совместной жизни, то, о чём никогда не "догадывался" никто из меня любивших. – Будь моей. – И моё: – увы!»[142] Пишет Цветаева «Поэму Горы» быстро, буквально на одном дыхании. Только закончив послесловие, тут же приступает к её сюжетному продолжению – «Поэме Конца». Работа над вторым текстом, напротив, растягивается: пять месяцев и 140 страниц черновиков, за это время Цветаева не написала ни одного стихотворения.
Марина Цветаева. 1925 год[143]
Вторая редакция «Поэмы Горы» была сделана в декабре 1939 года, после возвращения Цветаевой в СССР, её муж и дочь к тому времени уже были арестованы. Цветаева переписала «Поэму Горы» для литературоведа Евгения Тагера (к которому она тоже была неравнодушна), убрав из «Посвящения» следующие строки:
- Если б только не холод крайний,
- Замыкающий мне уста,
- Я бы людям сказала тайну:
- Середина любви – пуста.
Из «Послесловия» тоже исчез солидный отрывок:
- Та гора хотела! Песнь
- Брачная – из ямы Лазаревой!
- Та гора вопила: – Есмь!
- Та гора любить приказывала…
- Та гора была – миры!
- – Господи! Ответа требую!
- Горе началось с горы.
- И гора и горе – пребыли.
- Послесловие вышло длинное —
- Но и память во мне долга.
Сидят (слева направо): Марина Цветаева, Екатерина Еленева, Константин Родзевич, Олег Туржанский. Стоят: Сергей Эфрон, Николай Еленев. Чехия, 1923 год[144]
«Поэма Горы» вместе с «Поэмой Конца» отмечают начало нового этапа в цветаевской поэзии – по ним часто проводят границу между «ранней» и «поздней» Цветаевой. В «Поэме Горы» стих всё ещё достаточно сдержан и легко читается, но уже начинает рваться: расходятся синтаксические и метрические границы, место активных глаголов занимают ещё более стремительные тире, превращая строку в формулу, появляются курсивы, педалирующие смысл, и знаки ударения, педалирующие ритм. Цветаева старается работать не с фразами и словами, а со слогами и звуками – отсюда впечатляющая фонетическая организация поэмы, вся построенная на согласных «г» и «р» (Фёдор Степун[145] называл звукопись Цветаевой «фонологической каменоломней»).
Рукопись «Поэмы горы». 1924 год[146]
Если ранние стихи Цветаевой писались скорее с последней ударной строчки, а начало подгонялось под конец, то в «Поэме Горы» центральной становится именно первая строфа, она задаёт стиль и интонацию всей поэме. Михаил Гаспаров писал, что зрелые стихи Цветаевой «начинаются с начала: заглавие дает центральный, мучащий поэта образ… первая строка вводит в него, а затем начинается нанизывание уточнений и обрывается в бесконечность».
Содержательно – античные мифы и Библия, особенно Ветхий Завет. Интонационно – немецкая поэзия эпохи романтизма (из дневника Цветаевой: «Когда меня спрашивают: кто ваш любимый поэт, я захлёбываюсь, потом сразу выбрасываю десяток германских имён»). Ритмически – стихи Владимира Маяковского, это влияние сильнее всего скажется в последующей «Поэме Конца», но и в «Поэме Горы» тоже довольно заметно – по часто встречающимся анжамбеманам[147] и эллипсисам[148].
В дебютном номере парижского журнала «Вёрсты»[149], вышедшем в июле 1926 года (его название отсылает к одноимённой цветаевской книге, вышедшей ещё в Москве в 1921 году). Редакторами журнала были Дмитрий Святополк-Мирский, Пётр Сувчинский[150] и муж Цветаевой Сергей Эфрон. В литературном отделе были также опубликованы перепечатки стихов Пастернака, Сельвинского, Есенина, прозы Бабеля и Артёма Весёлого[151], в виде приложения – «Житие протопопа Аввакума» с примечаниями Алексея Ремизова. Таким образом, цветаевская «Поэма Горы» была гвоздём номера – единственной громкой новинкой.
На «Поэму Горы» одними из первых отреагировали эмигранты старшего поколения, до этого по преимуществу обходившие Цветаеву вниманием[152], в отличие от её ровесников. Зинаида Гиппиус под псевдонимом Антон Крайний поиздевалась над выдернутой из поэмы фразой «Ты… полный столбняк!» и добавила: «…Это – не дурные стихи, не плохое искусство, а совсем не искусство». Иван Бунин саркастически выделил другую цитату: «Красной ни днесь, ни впредь / Не заткну дыры» (любопытно, что в редакции 1939 года Цветаева заменила «красную» дыру на «чёрную»). Жёсткая реакция во многом объясняется обстоятельствами публикации: ругали даже не саму поэму, а новый журнал «Вёрсты», где она впервые была напечатана. Журнал получил репутацию евразийского[153], для многих эмигрантов это было очевидным синонимом просоветского.
Кульминацией борьбы с «красными» «Вёрстами» и Цветаевой как его эмблематическим автором стала статья в журнале «Новый дом», затеянном как своеобразный отпор эмигрантскому «эстетическому большевизму»[154]. В статье за авторством Владимира Злобина[155] журнал «Вёрсты» был назван публичным домом, а сама Цветаева, пусть и завуалированно, – проституткой, в качестве доказательства выступила подборка двусмысленных цитат из «Поэмы Горы». Статья неприятно поразила русских литераторов Парижа: на одном из вечеров Союза молодых поэтов и писателей Вадим Андреев (сын писателя Леонида Андреева) предложил публично осудить журнал «Новый дом»[156], его поддержал поэт Владимир Сосинский, заявив, что даёт редакции журнала «публичную пощёчину». Страсти так накалились, что организаторам вечера во избежание потасовки пришлось выключить в здании электричество[157]. На следующем вечере один из редакторов «Нового дома» Юрий Терапиано[158] дал Сосинскому уже не символическую, а самую реальную пощёчину, после чего был вызван на дуэль. Дуэль, правда, не состоялась: коллега по «Новому дому» Владислав Ходасевич запретил Терапиано драться, заметив, что русских интеллигентов и так мало и им не пристало стрелять друг в друга. По воспоминаниям Сосинского, Цветаева в знак благодарности за рыцарское поведение подарила ему серебряное кольцо с гербом Вандеи[159]. Позднее Терапиано сознался, что настоящим автором скандальной рецензии «Нового дома» была Зинаида Гиппиус, а не Злобин – или по крайней мере статья была написана при её активном участии.
Первая посмертная книга стихов Цветаевой в СССР была издана только в 1961 году. В сборник «Избранное» вошли 151 стихотворение и две поэмы – «Поэма Горы» и «Поэма Конца». Книга смогла увидеть свет благодаря колоссальным усилиям дочери поэта Ариадны Эфрон, вернувшейся из ссылки с началом хрущёвской оттепели. Согласно плану Гослитиздата, сборник должен был выйти ещё в 1957 году, но из-за начавшейся в газетах и журналах антицветаевской кампании[160] он, уже свёрстанный и готовый к публикации, из плана был исключён. Книга вышла из печати четыре года спустя, составителем и автором предисловия выступил литературовед Владимир Орлов[161]. После её выхода Ариадна Эфрон писала Орлову: «Вокруг книги в Москве творится невообразимое. Получаю много писем от доставших, а ещё больше от не доставших книжечку. На "чёрном рынке" цена уже десятикратная»[162]. Сборник был издан довольно скромным по советским меркам тиражом – 25 тысяч экземпляров. В 1965 году вышло уже более солидное собрание цветаевских текстов, в серии «Библиотека поэта». Эти два издания, по сути, дали начало советской «цветаевомании». В самом начале 1960-х с творчеством Цветаевой познакомился Иосиф Бродский, и именно благодаря «Поэме Горы»: «Не помню, кто мне её дал, но когда я прочёл "Поэму Горы", то всё стало на свои места. И с тех пор ничего из того, что я читал по-русски, на меня не производило того впечатления, какое произвела Марина». Преодолев период молчания в 1970-е годы, в следующее десятилетие поэзия Цветаевой заполнила книжные полки: всего вышло около 70 книг общим тиражом в 8,3 миллиона экземпляров.
Особенной датой для цветаеведения стал 2000 год: был открыт личный цветаевский архив, засекреченный по воле Ариадны Эфрон. Дочь Цветаевой не хотела, чтобы интимные биографические подробности жизни её матери пришли к широкой публике раньше, чем книги. Среди открытых документов архива была и переписка Цветаевой с Константином Родзевичем, адресатом «Поэмы Горы». Именно благодаря этой переписке стало возможным утверждать, что Родзевич действительно испытывал сильные чувства к Цветаевой, что она эти чувства не придумала (как это довольно часто с ней случалось).
Сегодня «Поэма Горы» остаётся в поле современной популярной культуры. Очевидную отсылку к цветаевской поэме, к примеру, можно обнаружить в рефрене песни «Гора», выпущенной Земфирой в 2013 году:
Врёте, вы всё врёте, и гора говорит: «Нет».
Константин Болеславович Родзевич, как и Сергей Эфрон, учился в Пражском университете. Они с Эфроном были друзьями, вместе эмигрировали в Берлин, а затем и в Прагу. В отличие от товарища, во время Гражданской войны воевавшего против большевиков, Родзевич воевал за красных, потом попал в плен к белым, был приговорён к смертной казни, но помилован генералом Слащёвым[163] (прототип генерала Хлудова в булгаковском «Беге»). Вместе с белыми он бежал из Крыма в Галлиполи[164], а затем и в Европу. Считается, что роман между Цветаевой и Родзевичем вспыхнул в конце августа 1923 года, ей тогда было 30, ему – 27: встречались в кафе или отелях, много гуляли по Праге. Уже в сентябрьском письме возлюбленному Цветаева признаётся: «Я в первый раз люблю счастливого, и может быть в первый раз ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть! Я в Вас чувствую силу, этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня – хаос! – а лучшую меня, главную меня». По воспоминаниям поэта Алексея Эйснера, Родзевич был красивым, изящным, чем-то напоминал Андрея Болконского: «Этот человек был абсолютной противоположностью Серёжи: ироничный, мужественный, даже жестокий. К Марине он большого чувства не питал, он её стихов не ценил и даже, вероятно, не читал»[165].
Время разрыва обычно соотносят с периодом написания «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца», то есть с началом 1924 года, однако есть и другие свидетельства. Сам Родзевич в разговоре с Вероникой Лосской, исследовательницей творчества Цветаевой, говорил, что отношения продлились чуть ли не два года[166]. Друг Цветаевой Марк Слоним[167] полагал, что Родзевичу посвящены все цветаевские стихотворения, написанные с 1922 по 1928 год[168], а также подчёркивал, что в жизни Цветаевой это был единственный настоящий, «не интеллектуальный» роман.
Летом 1926 года Родзевич женился на Марии Булгаковой, дочери религиозного философа Сергея Булгакова. Известно, что Цветаева подарила невесте на свадьбу подвенечное платье и специально переписанную для неё «Поэму Горы». В письме журналисту Даниилу Резникову Цветаева пишет: «Кстати знаете ли Вы, что мой герой Поэмы Конца женится, наверное уже женился. Подарила невесте свадебное платье (сама передала его ей тогда с рук на руки, – не платье! – героя), достала ему carte d'identite или вроде, – без иронии, нежно, издалека. – "Любите её?" – "Нет, я Вас люблю". – "Но на мне нельзя жениться". – "Нельзя". – "А жениться непременно нужно". – "Да, пустая комната… И я так легко опускаюсь". – "Тянетесь к ней?" – "Нет! Наоборот: даже отталкиваюсь". – "Вы с ума сошли!"» Впрочем, то, что Цветаева подарила на свадьбу платье, Булгакова опровергала. Вероятнее всего, именно о новом романе Родзевича идёт речь в цветаевском стихотворении «Попытка ревности», написанном 19 ноября 1924 года: