Сказки Уайльд Оскар
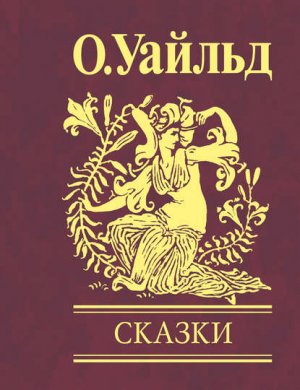
– Ах, какое у тебя чудное сердце! – вскричала жена. – Ты всегда думаешь о других. Смотри не забудь взять большую корзинку для цветов.
И вот Мельник, закрепив крылья своей мельницы крепкой железной цепью, с корзинкой в руке спустился с холма в долину.
– Здравствуй, Маленький Ганс, – сказал он.
– Здравствуйте, – отвечал Ганс, нагнувшись над своей лопатой и широко улыбаясь.
– Ну как ты провел зиму?
– Вы очень добры, что спрашиваете об этом, – воскликнул Ганс, – мне подчас приходилось тяжело, но теперь, когда пришла весна, я снова счастлив, да и мои цветочки тоже.
– Зимой мы часто вспоминали о тебе, Ганс, и думали о том, как ты поживаешь.
– Вы очень добры, – повторил Ганс, – а я уже думал, что вы совсем забыли меня.
– Ганс, ты меня удивляешь, – сказал Мельник, – друзей не забывают. В этом и состоит прелесть дружбы; но я боюсь, что ты никогда не поймешь поэтической стороны жизни. Кстати, как хорош твой первоцвет.
– Да, он действительно красив, – согласился Ганс, – и как хорошо, что его у меня много. Я отнесу эти цветы на рынок и продам дочери бургомистра, а на вырученные деньги выкуплю свою тачку.
– Выкупишь тачку? Кажется, ты хочешь сказать, что заложил свою? Неужели ты сделал такую глупость?
– Дело в том, что мне пришлось это сделать. Видите ли, эта зима была очень тяжелая для меня, и у меня совсем не было денег, чтобы купить хлеба. Поэтому я сначала заложил серебряные пуговицы от моей праздничной куртки, потом мою серебряную цепочку, потом большую трубку и, наконец, мою тачку. Но теперь я все это снова выкуплю.
– Ганс, – сказал Мельник, – я дам тебе свою тачку; она не совсем исправна – один бортик сломан и со спицами тоже что-то неладно; но все-таки я дам ее тебе. Я знаю, что это чрезвычайно великодушно с моей стороны, и многие назвали бы меня безумным за то, что я отдаю ее, но я не таков, как другие. Я думаю, что великодушие – это основа дружбы, и, кроме того, я купил себе новую тачку. Ты можешь быть спокоен: я дам тебе мою тачку.
– Право, это очень великодушно с вашей стороны, – сказал Маленький Ганс, и его забавное круглое лицо засияло от удовольствия. – Я могу легко починить ее, у меня как раз есть доска!
– Доска? – обрадовался Мельник. – А мне как раз нужна доска для крыши моей риги. В ней образовалась большая дыра, и все зерно отсыреет, если я не заделаю ее. Как кстати ты упомянул о доске! Замечательно, право: одно доброе дело сейчас же порождает другое. Я дам тебе тачку, а ты мне отдашь свою доску. Конечно, тачка стоит гораздо дороже, чем доска, но истинная дружба никогда не считается с такими пустяками. Пожалуйста, найди твою доску, и я сегодня же починю свою ригу.
– Конечно! – И Маленький Ганс побежал в сарай и притащил доску.
– Э, да она не очень велика, – сказал Мельник, взглянув на нее, – я боюсь, что после починки моей крыши тебе ничего не останется для ремонта тачки; но, конечно, это не моя вина. Ну а теперь, когда я обещал тебе тачку, ты, наверное, дашь мне цветов. Вот корзинка, смотри, наполни ее доверху.
– Доверху? – немного опечалился Маленький Ганс. Корзина была очень велика, и он знал, что если наполнит ее доверху, то у него не останется цветов для продажи, а ему так хотелось вернуть свои серебряные пуговицы!
– Право, – продолжал Мельник, – мне кажется, что за тачку я могу попросить у тебя немного цветов. Может быть, я ошибаюсь, но я думаю, что дружба, истинная дружба совершенно свободна от какого бы то ни было эгоизма.
– Мой дорогой друг, мой лучший друг! – воскликнул Ганс. – Я с радостью отдам вам все цветы моего сада. Я предпочитаю лучше заслужить ваше одобрение, чем вернуть свои серебряные пуговицы. – И, срезав все свои красивые цветы, он уложил их в корзину Мельника.
– Прощай, Маленький Ганс, – небрежно проронил Мельник, подымаясь на гору с доской на плече и корзинкой цветов в руках.
– Прощайте! – крикнул Ганс и весело продолжил копать землю: он был так рад тачке.
На другой день Ганс, занятый подвязкой жимолости, услышал голос Мельника, зовущий его с дороги. Поспешно спрыгнув с лестницы, мальчик бросился в конец сада и перегнулся через забор.
Там стоял Мельник с большим мешком муки на спине.
– Милый Маленький Ганс, – сказал он, – не снесешь ли ты вместо меня этот мешок на рынок?
– О, мне очень жаль, – отвечал Ганс, – но я занят сегодня. Мне надо подвязать все мои вьющиеся растения, полить все мои цветы и выполоть траву.
– Однако, – возразил Мельник, – после того, как я обещал тебе свою тачку, ты поступаешь не по-дружески, отказывая мне.
– О, не говорите так! Я ни за что не соглашусь поступить не по-дружески. – И, быстро надев шапку, Маленький Ганс уже шагал к городу с большим мешком на плечах.
День был очень жаркий, дорога покрыта пылью и, прежде чем Ганс успел достигнуть шестой мили, он почувствовал сильную усталость и должен был сесть отдохнуть. Как бы то ни было, он храбро продолжил путь и наконец пришел на рынок. Спустя некоторое время мальчику удалось продать муку за очень хорошую цену, и он немедленно отправился домой, опасаясь встречи с разбойниками, если бы подождал до вечера.
«Сегодня был трудный день, – подумал Ганс, ложась в постель, – но я рад, что не отказал Мельнику, потому что он мой лучший друг и, кроме того, он подарит мне свою тачку».
На другой день рано утром Мельник пришел за деньгами, но Маленький Ганс, утомившийся накануне, еще лежал в постели.
– Честное слово, ты очень ленив, – заявил Мельник. – Право, помня, что я дал тебе свою тачку, ты мог бы работать усерднее. Леность – большой порок, и я, конечно, не хочу, чтобы кто-нибудь из моих друзей ленился или любил спать. Ты не должен сердиться за мою откровенность, Конечно, я бы не стал говорить так, если бы не был твоим другом. Но что за польза в дружбе, если не высказывать того, что думаешь. Каждый может говорить приятные и лестные вещи, и только верный друг говорит неприятное, не считаясь с тем, что это может обидеть. И если он истинный друг, то избирает этот путь, будучи уверен, что принесет этим пользу.
– Мне очень стыдно, – сказал Маленький Ганс, протирая глаза и поспешно снимая свой ночной колпак, – но я так устал вчера, и мне хотелось полежать еще немножко и послушать, как поют птицы. Знаете ли, после того как я их послушаю, мне всегда работается лучше.
– Ну, я рад этому, – сказал Мельник, хлопая Маленького Ганса по плечу, – я как раз хочу взять тебя на мельницу, чтобы ты починил крышу на моей риге.
Бедный Маленький Ганс должен был поработать в своем саду: его цветы не были политы уже два дня, но ему не хотелось отказывать Мельнику, своему лучшему другу.
– Вы думаете, я поступил бы не по-дружески, сославшись на то, что занят? – спросил он робким, смущенным голосом.
– Право, я не думаю, – отвечал Мельник, – что прошу у тебя слишком многого после того, как я обещал тебе мою тачку; но, конечно, если ты отказываешься, я пойду и сам сделаю это.
– Нет, ни в коем случае! – вскричал Маленький Ганс, вскочил с кровати, оделся и пошел чинить крышу.
Он работал там целый день до захода солнца, а вечером Мельник пришел посмотреть, как идет работа.
– Ну что? Заделал ты дыру в крыше, Ганс? – закричал Мельник веселым голосом.
– Работа совсем окончена, – отвечал мальчик, спускаясь с лестницы.
– Ах, – сказал Мельник, – нет ничего более приятного, как потрудиться для другого.
– Конечно, это наслаждение – слушать вас, – отвечал Маленький Ганс, садясь и вытирая пот со лба, – это большое наслаждение. Но я боюсь, что у меня никогда не будет таких возвышенных мыслей, как у вас.
– О, это придет, – сказал Мельник, – но ты должен об этом позаботиться. До сих пор ты знал только практику дружбы, когда-нибудь овладеешь и теорией.
– Вы в самом деле так думаете? – спросил Маленький Ганс.
– Я в этом не сомневаюсь, – отвечал Мельник. – Ну а теперь, когда ты починил крышу, тебе бы следовало пойти домой и отдохнуть; завтра ты должен будешь отвести в горы моих овец.
Бедный Маленький Ганс не смел ничего возразить на это, и на следующее утро Мельник согнал своих овец, и Ганс отправился с ними в горы. На то, чтобы дойти туда и обратно, ему понадобился целый день, а вернувшись, он был так утомлен, что уснул в своем кресле и проспал до самого рассвета.
«Как хорошо я поработаю в своем саду», – подумал он проснувшись и сейчас же принялся за дело.
Но позаботиться как следует о своих цветах ему никак не удавалось, потому что его друг Мельник то и дело заходил к нему, посылая мальчика по поручениям или требуя его помощи на мельнице.
Бедный Маленький Ганс очень горевал о своих заброшенных цветах, но утешал себя сознанием, что Мельник его лучший друг. Кроме того, он постоянно вспоминал о необыкновенном великодушии Мельника, обещавшего ему тачку.
Так и работал Ганс на Мельника, который продолжал высокопарно разглагольствовать о дружбе. Все его изречения Ганс записывал в тетрадку и перечитывал их по ночам, стараясь заучить.
Однажды вечером, сидя перед своим очагом, Маленький Ганс услышал громкий стук в дверь. Ночь была ненастной, ветер так страшно завывал вокруг, что сначала мальчик принял этот стук за шум бури. Но вот удары повторились, затем еще и еще, и наконец посыпались непрерывно.
«Верно, это какой-нибудь бедный путник», – подумал Ганс и пошел отворить дверь.
На пороге стоял Мельник с фонарем в одной руке и с длинной палкой в другой.
– Милый Маленький Ганс, – сказал он, – я в большом горе. Мой мальчик упал с лестницы и ушибся; я бегу за доктором. Но он живет так далеко, а ночь такая ненастная; и вот мне пришло в голову, что ты можешь сходить за ним вместо меня. Ты знаешь, ведь я хочу дать тебе мою тачку, и простая порядочность обязывает тебя сделать что-нибудь и для меня.
– Конечно! – воскликнул Ганс. – Я очень ценю то, что вы обращаетесь именно ко мне, и сейчас же отправлюсь в путь. Но я попрошу у вас фонарь, а то ночь такая темная, что я боюсь свалиться в какую-нибудь канаву.
– Как жаль, – отвечал Мельник, – но это мой новый фонарь, и если с ним что-то случится, это будет большим убытком для меня.
– Ну хорошо, я обойдусь и без него, – согласился Маленький Ганс и, накинув свою шубу, теплую красную шапку и повязав горло шарфом, пустился в дорогу.
Бушевала ужасная буря! Ночь была так темна, что Ганс ничего не видел перед собой, а сильный ветер чуть не сбивал его с ног. Однако он храбро шел вперед и после трех часов ходьбы добрался до дома доктора и постучался в дверь.
– Кто там? – закричал доктор, высовывая голову из окна своей спальни.
– Это я, Маленький Ганс, господин доктор.
– Что же тебе надо, Маленький Ганс?
– Сын Мельника упал с лестницы и расшибся; Мельник просит вас сейчас же прийти к нему.
– Хорошо! – сказал доктор. Затем, приказав оседлать лошадь и подать себе большие сапоги и фонарь, он вышел на улицу и поехал в направлении дома Мельника, а Маленький Ганс побрел вслед за ним. Между тем буря все усиливалась, дождь лил как из ведра, Ганс не видел, куда идет, и постепенно отставал от лошади. В конце концов он сбился с дороги, попал в глубокое болото и утонул в нем. На следующий день тело его нашли пастухи в большой яме, залитой водой, и принесли к его дому.
Все соседи пришли на похороны Маленького Ганса, которого очень любили, но больше всех горевал Мельник.
– Так как я был его лучшим другом, то мне подобает идти первым, – заявил он, и, идя во главе процессии в длинной черной одежде, он время от времени утирал глаза большим носовым платком.
– Всем нам будет не хватать Маленького Ганса, – сказал кузнец, когда, после окончания похорон, все провожавшие сидели в опрятной гостинице и пили вино, заедая его сладкими пирожками.
– Для меня, во всяком случае, это большая потеря, – отвечал Мельник. – Как же! Я даже обещал ему мою тачку, а теперь не знаю, что с ней делать. Дома она только место занимает, а между тем она пришла в такое состояние, что нечего и думать продать ее! Без сомнения, я никогда уже больше не вздумаю отдать что-нибудь другим. За свою доброту всегда бываешь наказан.
– Ну… – спросила Водяная Крыса после долгой паузы.
– Это конец, – сказала Коноплянка.
– А что же стало с Мельником? – снова полюбопытствовала Крыса.
– О, не знаю, – ответила Коноплянка, – да и, право, не хочу знать!
– В таком случае совершенно ясно, что вы очень черствы, – заявила Крыса.
– Боюсь, что вы не совсем поняли мораль этой истории, – заметила Коноплянка.
– Что? – пропищала Крыса.
– Мораль.
– Вы хотите сказать, что эта история имеет мораль?
– Конечно, – сказала Коноплянка.
– Право, – заметила Крыса сердитым тоном, – вы должны были предупредить меня об этом до начала рассказа. Если бы вы это сделали, я, конечно, не стала бы вас и слушать, я бы просто сказала «глупости», как говорил критик. Впрочем, я могу сказать это и теперь. – И, выкрикнув на высоких нотах «глупости!», она взмахнула хвостом и быстро исчезла в своей норе.
– А как вам нравится Водяная Крыса? – спросила Утка, плывя обратно. – У нее очень широкие взгляды, но, что касается меня, я преисполнена материнских чувств и не могу без слез смотреть на убежденную старую деву.
– Я боюсь, что не угодила ей, – отвечала Коноплянка. – Дело ведь в том, что я рассказала ей историю с моралью.
– Ах, это всегда бывает опасно! – сказала Утка.
И я с ней совершенно согласен.
Соловей и Роза
– Она сказала, что будет танцевать со мной, если я принесу ей алую розу, – воскликнул молодой Студент, – но в моем саду нет ни одной красной розы!
Соловей услышал это, сидя в своем гнезде на дереве, столетнем дубе, и с изумлением выглянул из листвы.
– Ни одной красной розы! – восклицал юноша, и его чудные глаза наполнились слезами. – Ах, от каких пустяков зависит иногда счастье! Я прочитал все, что когда-либо писали мудрецы, я постиг тайны философии, но жизнь моя может быть разбита, потому что у меня нет красной розы!
– Вот он наконец-то, настоящий влюбленный, – сказал Соловей. – Ночь за ночью пел я о нем, хотя и не знал его; от зари до зари рассказывал я его историю звездам – и вот он предо мною. Его волосы темнее, чем цвет гиацинта, а губы алеют, как роза, которую он ищет; но лицо его побледнело от страсти и стало белее слоновой кости, а горе наложило свою печать на его чело.
– Завтра принц дает бал, – шептал юный Студент, – и моя милая будет в числе гостей. Если я достану ей алую розу, она будет танцевать со мной до рассвета. В награду за этот цветок ее головка будет покоиться на моем плече, я буду держать ее в объятиях, и рука моя будет сжимать ее руку. Но у меня в саду нет красных роз, и на этом вечере я останусь один: она пройдет мимо, не удостоит меня взглядом, и сердце мое разорвется от горя.
– Да, это настоящий влюбленный, – сказал Соловей, – то, о чем я пою, он переживает; то, что для меня радость, для него – печаль. Да, любовь – непостижимое чувство. Она дороже изумрудов и благороднее опалов. Ее не купить за жемчуга и за гранаты; она не выставляется в витринах, не продается в магазинах и не может быть оценена за деньги.
– Оркестр будет греметь на хорах, – продолжал горевать Студент, – а моя милая будет танцевать под звуки арф и скрипок. Она танцует так легко, едва касаясь пола; придворные в пышных нарядах будут толпиться вокруг нее. А со мной она танцевать не будет, так как я не могу достать для нее красную розу! – и, бросившись на траву, он закрыл лицо руками и заплакал.
– О чем он плачет? – спросила пробегавшая мимо маленькая Ящерица, помахивая хвостиком.
– О чем, в самом деле? – поинтересовалась Бабочка, порхавшая в солнечных лучах.
– О чем? – прошептала своему соседу Маргаритка тихим, нежным голосом.
– Он плачет о красной розе, – сказал Соловей.
– О красной розе! – вскричали все хором. – Как это смешно! – И маленькая Ящерица без стеснения засмеялась.
Но Соловей, понимавший горе Студента, молча сидел на дубе, размышляя о тайне любви.
Вдруг он расправил свои коричневые крылышки и взвился в воздух. Словно тень, промелькнул он в листве и бесшумно полетел через сад.
Посреди зеленой лужайки рос пышный Розовый Куст; Соловей направился к нему и опустился на одну из его ветвей.
– Дай мне красную розу, – попросил он, – и я спою тебе мою нежную песню!
Но Куст покачал головой.
– Мои розы белее снега на горных вершинах, – отвечал Куст, – они белы, как пена морская. Иди к моему брату, что растет возле солнечных часов, может быть, он исполнит твою просьбу.
И Соловей полетел к кусту у солнечных часов.
– Дай мне красную розу, и я спою тебе мою звонкую песню, – обратился он к нему.
Но Куст отвечал, качая головой:
– Мои розы желтее цветов златоцвета, украшающих поле, пока их не срежет коса, они желты, как волосы морской девы, что сидит на янтарном троне в глубине океана. Но лети к моему брату под окном Студента: он, может быть, даст тебе то, о чем ты просишь.
И Соловей полетел дальше, к Розовому Кусту под окном Студента.
– Дай мне красную розу, и я спою тебе свою самую нежную песню!
Но и этот Куст покачал головой.
– Мои розы краснее кораллов, колеблющих свои веера в глубинах морских; они красны, как нежные лапки голубки. Но зима сковала мою кровь, мороз убил мои бутоны, буря поломала ветви, и мне не суждено цвести в этом году.
– Одну красную розу – это все, что я хочу, – молил Соловей, – только одну розу! Неужели невозможно ее раздобыть?
– Есть один способ, – отвечал Розовый Куст, – но он так ужасен, что я не осмеливаюсь сказать тебе.
– Говори, – настаивал Соловей, – я не испугаюсь.
– Если хочешь добыть красную розу, ты должен создать ее из звуков музыки при лунном сиянии и окрасить ее кровью твоего собственного сердца. Пронзив грудь моим шипом, ты должен петь мне всю ночь до зари, пока шип не проколет твое сердце и твоя кровь, перелившись в меня, не воскресит во мне жизнь.
– Смерть за красную розу – очень дорогая цена! – вскричал Соловей. – Каждый дорожит своей жизнью. Так привольно жить в зеленом лесу и любоваться солнцем в его золотой колеснице и луной в жемчужном уборе. Сладко упиваться ароматом боярышника… А как красивы колокольчики, прячущиеся в долинах, и вереск, цветущий на холмах. Но любовь краше жизни, и что стоит сердце птицы в сравнении с сердцем человека?
Расправив свои коричневые крылышки, Соловей поднялся в воздух. Словно тень, промчался он по саду и тихо опустился в листву.
Студент все еще лежал в траве, на том же месте, и слезы еще стояли в его прекрасных глазах.
– Не печалься, – закричал ему Соловей, – ободрись, у тебя будет красная роза! Я создам ее из музыки при лунном сиянии и окрашу ее кровью моего собственного сердца. В награду я прошу только обещания верно любить. Любовь глубже самой глубокой мудрости и сильнее самого несокрушимого могущества. На огненных крыльях летит она и зажигает сердца. Уста ее сладки, как мед, и дыхание ее благоухает, как мирра.
Студент, прислушиваясь, приподнялся в траве; но язык птички был ему непонятен: ведь он знал только то, что написано в книгах.
Зато понял старый Дуб и опечалился: он был очень привязан к птичке, свившей гнездо в его ветвях.
– Спой же мне свою последнюю песню, – прошептал он, – мне будет так одиноко без тебя!
И Соловей запел для старого Дуба, и голос его был подобен журчанию воды, падающей в серебряную урну. Когда он смолк, Студент встал и вынул из кармана записную книжку и карандаш.
– Бесспорно, он мастер формы, – сказал он сам себе, идя домой. – Этого у него не отнять; но есть ли в нем чувство? Думаю, что нет. Да, он похож на большинство артистических натур. Он олицетворяет изящество, но без внутреннего тепла. Он бы не пожертвовал собой для других. Он думает лишь о музыке, а искусство – эгоистично, это всем известно. Все же надо сознаться, что его трели прекрасны. Как жаль, что в них нет смысла и они лишены практического значения.
И он вошел в свою комнату, бросился на кровать и стал думать о своей возлюбленной; но вскоре заснул. А когда луна озарила небосклон, Соловей полетел к Розовому Кусту и прижался грудью к его шипу. Так пел он всю ночь, а хрустально-холодная луна слушала его. Всю ночь, пока он пел, острый шип все глубже вонзался ему в грудь, постепенно высасывая живительную кровь.
Сначала он пел о нежной привязанности мальчика и девочки. И на верхнем сучке деревца расцветала чудная роза, лепесток развертывался за лепестком, по мере того как одна песня сменяла другую. Вначале роза была бледна, как туман, что стелется над рекой, как утренняя заря, и серебрилась, словно крылья рассвета. Как розовая тень на серебряном стекле зеркала, как розовый отблеск на поверхности воды – так нежна была роза, что расцветала на верхней ветке Куста.
Но вот Куст заставил Соловья крепче прижаться к шипу.
– Прижмись крепче, маленькая птичка, – кричал он, – иначе день наступит раньше, чем роза успеет расцвести.
И Соловей сильней прильнул к шипу грудью, а песнь становилась все звонче и нежнее, воспевая любовь юноши и девушки.
И едва заметный румянец разлился по лепесткам розы, как лицо жениха, целующего свою невесту. Но шип еще не проник в сердце Соловья, и роза еще не ожила – только кровь соловьиного сердца вызывает к жизни сердце розы.
И Куст снова потребовал, чтобы Соловей еще сильнее прильнул к нему.
– Прижмись сильнее, Соловушка, – кричал он, – или роза до утра не успеет расцвести!
Соловей придвинулся ближе, шип вонзился ему в сердце, и дикая боль зажглась в нем. Острее и острее становилась мука, и все страстнее лилась песня, рассказывая о любви, освященной смертью, о той любви, которая не умирает в могиле.
И стала роза алой, подобно утренней заре на востоке. Пурпуром зарделись ее лепестки и, как рубин, покраснело ее сердце.
Но голос Соловья вдруг ослаб, крылья затрепетали, и глаза подернулись пеленой. Слабее звучала теперь песня, и что-то клокотало у него в груди.
Наконец прозвучала последняя трель. Бледная луна услышала ее и, позабыв о рассвете, застыла на небе. Красная роза задрожала в экстазе и развернула свои лепестки навстречу холодному утреннему ветру. Эхо унесло этот звук к своим багряным пещерам в холмах и пробудило спавших пастухов. Он отозвался в прибрежных тростниках, наперегонки понесших его к морю.
– Смотри, смотри, – вскричал Куст, – роза расцвела!
Но Соловей не ответил, он лежал в высокой траве мертвый, с сердцем, пронзенным шипом.
В полдень Студент, отворив окно, выглянул в сад.
– Какое счастье! Вот она, алая роза! Я никогда в жизни не видал ничего подобного. Она дивно хороша, я уверен, что у нее длинное латинское название! – И, протянувшись, он сорвал ее.
Схватив шляпу, он побежал к дому профессора, держа цветок в руке.
Дочь профессора сидела у порога, разматывая клубок голубого шелка, а ее маленькая собачка спала у ее ног.
– Вы обещали танцевать со мной, если я достану вам красную розу! – закричал Студент. – Вот самая красная из роз на свете. Вы приколете ее сегодня вечером к вашей груди, и во время танцев она расскажет вам, как я люблю вас!
Но девушка нахмурилась и сказала:
– Я боюсь, что она не подойдет к моему платью; и, кроме того, племянник Чемберлена прислал мне настоящие драгоценности, а всякий знает, что они стоят гораздо дороже цветов.
– Как вы неблагодарны! – воскликнул сердито Студент и бросил розу на улицу; она упала на мостовую, а проезжавший мимо экипаж смял ее своим колесом.
– Неблагодарна? – вскричала девушка. – А я скажу вам, что вы очень дерзки. Да кто вы такой, всего-навсего простой студент. Я думаю, что у вас даже нет серебряных пряжек на башмаках, как у племянника Чемберлена! – И, встав со стула, она ушла в дом.
– Какая глупость – эта любовь! – сказал Студент уходя. – Она и вполовину не так полезна, как логика, потому что ничего не доказывает, вызывает несбыточные надежды и заставляет верить в то, что не заслуживает доверия. Она очень непрактична, а в наш век быть практичным – это всё. Лучше я снова примусь за философию и метафизику.
И, вернувшись в свою комнату, он достал большую пыльную книгу и стал ее читать.
Дух Кэнтервилля
Мистер Хирам Отис, американский посол, покупал Кэнтервилльский замок. Все считали, что он делает очевидную глупость: в замке, без сомнения, есть привидение.
Сам лорд Кэнтервилль, человек честный до щепетильности, счел себя не в праве скрыть от мистера Отиса это обстоятельство перед окончанием сделки.
– Мы сами не живем в этом замке, – сказал лорд Кэнтервилль, – с тех пор как с двоюродной моей бабушкой, вдовствующей герцогиней Болтон, внезапно сделались судороги, от которых она никогда не смогла оправиться: одеваясь, она увидела, что какой-то скелет кладет ей на плечи свои руки. Должен предупредить вас, мистер Отис, что дух и теперь еще является членам семьи Кэнтервилль. Его видел и преподобный Август Дампир, пастор нашей общины, магистр Королевского колледжа в Кембридже. После несчастья с герцогиней от нас ушла вся прислуга, а леди Кэнтервилль часто не могла ночью уснуть от разных шорохов, доносившихся из коридора и библиотеки.
– Милорд, – ответил посол, – я покупаю у вас весь дом с обстановкой и духа беру в придачу; в моей передовой стране есть все, что можно купить за деньги, и, глядя на нашу бойкую молодежь, которая оставляет вас без лучших оперных примадонн и актрис, я скажу вам вот что: если бы в Европе действительно оказалось нечто вроде привидения, оно бы давным-давно было по ту сторону океана, в каком-нибудь музее или в разъездном паноптикуме.
– Боюсь, что привидение все же существует, – сказал лорд Кэнтервилль с улыбкой, – даже если оно и отклоняло до сих пор предложения ваших импресарио: вот уже триста лет – с 1584 года, если быть точным, – о нем знают все: оно появляется каждый раз незадолго до смерти кого-нибудь из членов нашей семьи.
– Обычно в таких случаях приходит домашний врач, милорд. Нет, привидений не бывает, и, смею думать, что законы природы нельзя отменить даже в интересах британской аристократии.
– В Америке просвещенный взгляд на вещи, – ответил лорд Кэнтервилль, не совсем, видимо, поняв последнее замечание мистера Отиса. – И если привидение вас не стесняет, то дело улажено. Но не забудьте – я вас предупредил.
Через несколько недель покупка состоялась, и по окончании сезона посол с семьей переехал в замок Кэнтервиллей. Когда миссис Отис звалась еще мисс Лукрецией Р. Таппан (Нью-Йорк, 53-я Западная улица), она славилась своей красотой; теперь это была все еще очень привлекательная дама средних лет с прекрасными глазами и безупречным профилем. Многие американки, покинув родину, начинают со временем изображать хронически больных, принимая это за признак европейской утонченности, но миссис Отис не сделала этой ошибки: она обладала прекрасным телосложением и выдающейся предприимчивостью. Она была, таким образом, во многих отношениях настоящей англичанкой и недурным примером того, что теперь у нас с Америкой нет разницы ни в чем, кроме, конечно, языка. Старший сын ее, которого родители в приливе патриотизма назвали Вашингтоном, – о чем он всю свою жизнь сожалел, – был красивым молодым блондином, без сомнения будущим дипломатом, так как в течение трех зим дирижировал кадрилью в казино Ньюпорта и даже в Лондоне слыл превосходным танцором. У него было всего две слабости: гардении и Готский альманах[2]; в остальном же он был необычайно рассудителен. Мисс Виргиния Отис была пятнадцатилетней девочкой, миловидной и грациозной, как молодая серна, с чудными ясными голубыми глазами. Замечательная наездница, она как-то устроила скачку со старым лордом Бильтоном вокруг Гайд-парка и обошла его на полтора корпуса перед самой статуей Ахиллеса; этим она так восхитила юного герцога Чеширского, что в ту же минуту он сделал ей предложение и вечером того же дня, весь в слезах, был отправлен в свою школу в Итоне. Потом шли близнецы – два прелестных мальчика, единственные, за исключением, конечно, главы дома, республиканцы в семье.
Восемь миль отделяют замок Кэнтервилль от ближайшей железнодорожной станции в Аскоте, и мистер Отис заблаговременно вызвал за семьей экипаж. Ехать было весело. Воздух в этот чудный июльский вечер был напоен запахом сосен. То тише, то громче доносился издалека нежный голос лесной горлинки, и пестрый фазан, пробираясь в зарослях папоротника, показывался иногда у самой дороги. Любопытные белки смотрели с высоких деревьев на проезжавших американцев, а дикие кролики стремительно неслись через низкую поросль по мшистым кочкам, высоко задрав белые хвостики. Но как только экипаж въехал в парк Кэнтервилльского замка, небо вдруг заволокло темными облаками; стало вдруг тихо: стая галок молча пролетела над их головами. Они не доехали еще до дому, как стали падать тяжелые капли дождя.
На крыльце их встретила старая женщина, в черном шелковом платье, белом чепце и переднике. Это была миссис Эмни, экономка замка. Леди Кэнтервилль настоятельно просила миссис Отис оставить миссис Эмни в прежней должности. Она перед каждым низко присела и по старинному странному обычаю проговорила: «Добро пожаловать в замок Кэнтервилль».
Они прошли в дом и через прекрасную старинную залу времен Тюдоров попали в библиотеку, длинную низкую комнату с обшивкой из черного дерева и большим витражным окном. Здесь был подан чай; хозяева, сняв пальто, уселись и стали осматриваться; миссис Эмни разливала чай.
Вдруг миссис Отис заметила большое красное пятно на полу, как раз перед камином, и сказала миссис Эмни:
– Смотрите, здесь что-то пролили.
– Да, сударыня, – ответила старая экономка шепотом, – на этом месте пролилась кровь.
– Какой ужас! – воскликнула миссис Отис. – Я не желаю, чтобы в комнатах были пятна крови. Велите его смыть сейчас же.
Старушка улыбнулась и ответила тем же тихим, загадочным голосом:
– Это кровь леди Элеоноры Кэнтервилль, которую на этом самом месте убил сэр Симон де Кэнтервилль, ее супруг, в 1575 году. Сэр Симон жил потом еще девять лет и вдруг исчез при очень загадочных обстоятельствах. Тела так и не нашли, но грешный дух его и теперь еще бродит по замку. Это несмываемое пятно поражает всех туристов, его нельзя уничтожить.
– Что за глупости! – воскликнул Вашингтон Отис. – Универсальное средство Пинкертона выведет его в одну минуту. – И не успела испуганная экономка удержать юношу, как он уже стоял на коленях и тер пятно на полу чем-то вроде фабры для усов. Пятно исчезло.
– О, я был уверен в «Пинкертоне»! – с торжеством вскричал он, обернувшись к родным. Но едва он произнес это, темную комнату резко осветила яркая вспышка молнии, и оглушительный удар грома заставил всех вскочить со своих мест. Миссис Эмни упала в обморок.
– Какой отвратительный климат, – спокойно сказал американский посол, зажигая новую сигару. – Эта допотопная страна так густо населена, что на всех не хватает даже приличной погоды. Эмигрировать – это все, что остается англичанам.
– Друг мой Хирам, – произнесла миссис Отис, – что нам делать с женщиной, которая страдает обмороками?
– Вычти из ее жалованья, как за битье посуды, и это не повторится, – сказал посол.
И действительно, миссис Эмни вскоре пришла в себя. Но, несомненно, она была очень взволнована и предупредила миссис Отис, что ее дому грозит беда.
– Сударь, – сказала она, – я своими глазами видела такие вещи, что у всякого доброго христианина волосы стали бы дыбом; Господи, были ночи, когда я глаз не смыкала, такие ужасы здесь происходили.
Но хозяин и хозяйка успокоили женщину, объяснив, что не боятся привидений, и старая экономка, призвав благословение небес на своих новых господ и попросив прибавки жалованья, вся дрожа, ушла в свою комнату.
Буря пробушевала всю ночь, но больше не случилось ничего особенного. Однако утром, когда семья сошла вниз к завтраку, страшное пятно оказалось на том же месте.
– Не думаю, чтобы в этом было виновато мое средство, – сказал Вашингтон, – его я всегда применял с успехом, следовательно, это дело рук привидения.
Он опять стер пятно, но назавтра оно появилось снова; то же случилось и послезавтра, хотя мистер Отис вечером собственноручно запер библиотеку, а ключ спрятал в карман. Все семейство было заинтриговано, мистер Отис стал подумывать, не слишком ли скептически он относился к привидениям, и выразил желание сделаться членом психологического общества, а Вашингтон написал длинное письмо господам Мейр и Подмор о неустранимости кровяных пятен в случае их связи с преступлением. В наступившую затем ночь всякое сомнение в существовании привидений было навсегда отброшено.






