Костяные часы Митчелл Дэвид
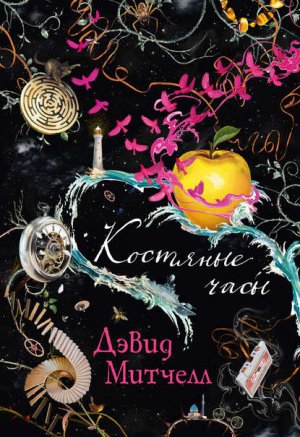
– Но это же не значит, что по острову Шеппи бродит Джек-потрошитель номер два с мясницким ножом в руках. Я схожу в контору, узнаю, что там и как. А Мэгс побудет здесь за главную. – Миссис Харти кивает женщине, что разливала чай, и уходит.
– Ну, теперь можно не волноваться, – говорит Дебби. – Миссис Шерлок Харти ведет расследование. В общем, так: если сегодня ночью на двери амбара не будет надежного замка и засова толщиной в руку, я немедленно отсюда уезжаю, отвезите меня на станцию.
Кто-то спрашивает, говорили ли по радио, как именно произошло убийство, и Стюарт поясняет, что сообщили про «жестокое нападение», а это, мол, скорее всего, означает убийство неким острым предметом, а не из огнестрельного оружия, но пока никто ни в чем не уверен. В общем, можно спокойно возвращаться к работе, потому что на открытой местности среди людей всегда безопасней.
– По-моему, это очень похоже на любовный треугольник, – заявляет Гэри. – Двое мужчин и девушка. Классическое преступление на почве ревности.
– А по-моему, тут замешаны наркотики, – предполагает его приятель.
– А по-моему, вы оба несете полную херню, – говорит Дебби.
Если в голову западет мысль о психе, который вполне может скрываться в купе деревьев на краю поля или за зеленой изгородью, то боковым зрением начинаешь замечать какие-то фигуры. Как радиолюди, только их не полуслышишь, а почти видишь. Я пытаюсь понять, когда именно произошли убийства: вдруг это случилось, пока я шла через поля к мосту Кингсферри? А может, убийца – тот велосипедист, спятивший от горя и тоски по умершему сыну? Он, правда, совсем не похож на психа, но, если честно, в реальной жизни вот так сразу психа тоже не вычислишь. И веселая компания парней и девиц в автофургоне «фольксваген» тоже выглядела подозрительно… Пока мы обедаем – Гвин угощает меня бутербродами с сыром и пикульной приправой «Брэнстон», да еще и банан дает, потому что догадывается о моих запасах еды, – над мостом пролетает вертолет, а в час дня «Радио Кента» сообщает в новостях, что на место преступления прибыла команда судебных медиков, что там все обследуют с собаками-ищейками и так далее. Полиция еще не объявила имена жертв, но знакомая миссис Харти, жена местного фермера, рассказывает, что там по выходным жила некая молодая женщина по имени Хайди Кросс, которая учится где-то в Лондоне, и, судя по всему, ее-то и убили. Поговаривают, что Хайди Кросс и ее бойфренд увлекались «радикальной политикой», и теперь студент Гэри утверждает, что это наверняка убийство на политической почве, возможно спонсированное ИРА, или ЦРУ, если убитые выступали против американского вмешательства, или MИ-5, если они были на стороне бастующих шахтеров.
Наверное, зря я считаю, что в университеты берут только самых умных, но все-таки очень хочется верить Гэри, потому что если он прав, то в стогах сена никакого психа-убийцы нет, а то я никак не могу отделаться от этой мысли.
После обеда мы еще пару часов собираем клубнику, а потом возвращаемся на ферму, где миссис Харти меняет наши жетоны на деньги. Сегодня я заработала больше пятнадцати фунтов. Гэбриел Харти прилаживает засов на дверь сарая, с внутренней стороны, как и хотела Дебби из Дерби. Похоже, нашему работодателю совсем не хочется, чтобы все сборщики дружно сбежали, а клубника осталась гнить в поле. Гвин говорит, что обычно все сборщики пешком ходят в Лейсдаун за продуктами и пивом, но сегодня туда отправляются только те, у кого есть машина. Что ж, я сэкономлю деньги, поужинаю плошкой мюсли из тех остатков, что найдутся на кухне, и крекерами «Ритц», да еще Гвин обещала угостить меня хот-догом. Мы с ней сидим и курим в теплой тени под полуобвалившейся стеной, на поросшем травой склоне у входа на ферму. Смотрим, как Алан Уолл развешивает выстиранную одежду на просушку. Он голый по пояс, весь такой мускулистый, с темным загаром и с выгоревшими светлыми волосами; Гвин он явно нравится. Алан совершенно невозмутим, говорит мало и только по делу, и его нисколько не пугает, что где-то по кустам шастает псих-убийца. Гвин убийства тоже не беспокоят.
– Если ты вчера зверски прирезал троих, то вряд ли станешь искать убежища на острове, плоском, как лепешка, всего в миле от места преступления. А на любого незнакомца здесь смотрят как на трехголового… Адольфа Гитлера! Ну, в общем…
В общем, это вполне достойный аргумент. Мы с Гвин, затягиваясь по очереди, выкуриваем последнюю сигарету «Бенсон и Хеджес». Я пытаюсь извиниться за свою грубость утром.
– Из-за моей утренней проповеди, что ли? – усмехается Гвин. – Да ладно, я сама знаешь какая была, когда из дома сбежала… – Противным ехидным голосом она произносит: – «Мне ваша помощь не требуется, ясно? Вот и чешите отсюда!» – Потянувшись, она ложится на траву. – Господи, я вообще ничего не знала. Ничегошеньки!
Мимо проезжает грузовик с клубникой, собранной нами за день.
Похоже, Гвин хочет мне что-то рассказать, но не может решить, надо ли, а если да, то сколько.
– Я, как паровозик Айвор, жила в горной долине у деревни Риулас, недалеко от Бангора, в самом верхнем левом углу Уэльса. Я единственный ребенок в семье. У отца была птицеферма, да и сейчас, наверное, есть. Больше тысячи кур, каждая в клетке размером с обувную коробку, все в точности так, как рассказывают борцы за права животных. От яйца до курицы на полке супермаркета – шестьдесят шесть дней. Мы жили в домике за огромным курятником. Домик и землю отец получил в наследство от дяди и постепенно завел хозяйство. Когда Господь раздавал людям обаяние, моему отцу досталась тройная порция. Он спонсировал местную команду регбистов, а раз в неделю уезжал в Бангор, пел в тамошнем мужском хоре. Его считали суровым, но справедливым работодателем. Он делал взносы в «Плайд камри», Национальную партию Уэльса, и во всем Гвинеде не было человека, который сказал бы о нем хоть одно плохое слово.
Гвин закрывает глаза. Веко пересекает едва заметный шрам.
– И никто не подозревал, что на самом деле мой отец – двуличный тип. На людях он был эдаким столпом местного общества, а дома – злобным и жестоким деспотом. И это еще мягко сказано. Он очень любил правила. Как убирать дом. Как накрывать на стол. Как должны лежать зубные щетки. Какие книги читать, какие радиостанции слушать – телевизора у нас не было. Только правила постоянно менялись, потому что он хотел, чтобы мы с мамой их нарушали и ему было бы за что нас наказывать. А наказывал он нас отрезком металлической трубы, тщательно обернутым ватой, чтобы на теле не оставалось следов. За каждую порцию наказания его следовало благодарить. И мне, и маме тоже. Если же мы не проявляли должной благодарности, нас наказывали по второму разу.
– Черт возьми, Гвин! Он бил тебя, ребенка?
– Да, он всегда был таким. И его папаша вел себя так же.
– И твоя ма от него не ушла? Все это ему спускала?
– Знаешь, этого никогда не могут понять те, кто на себе этого не испытал. Считай, тебе здорово повезло. Подчинение всегда основано на страхе. Если боишься наказания, то не станешь возражать, не дашь отпор, не сбежишь. Все безропотно принимаешь, со всем соглашаешься, чтобы таким способом выжить. Постепенно это становится нормальным. Чудовищным, но все-таки нормальным. Чудовищным именно потому, что считается чем-то нормальным. Ты, наверное, скажешь, что, мол, не давая отпор, позволяешь над собой издеваться, но дело в том, что если тебя всю жизнь воспитывали в страхе, то ты не в состоянии противостоять мучителю. Жертвами становятся не из трусости. Посторонним невдомек, сколько мужества требуется для того, чтобы выжить в подобных условиях. Моей маме некуда было идти, понимаешь? Ни братьев, ни сестер. Родители ее умерли еще до того, как она вышла замуж. Отцовские правила навсегда отрезали нас от окружающих. Подружишься с кем-то в деревне – значит пренебрегаешь родным домом, а стало быть, заслуживаешь трубы. От страха я даже в школе друзей не заводила. Приглашать гостей в дом не полагалось, ходить по гостям – тоже, потому что так поступают только неблагодарные свиньи, для которых одно средство – труба. В общем, его безумие было весьма последовательным.
Алан Уолл уходит в дом. С рубашки и джинсов на веревке капает вода.
– А ты или твоя ма не могли на него заявить?
– Кому заявить? Отец пел в бангорском хоре вместе с судьей и начальником полиции. Он совершенно очаровал моих школьных учителей. Жаловаться в службу социальных проблем? Но тут наше слово было против его слова, а отец наш, между прочим, сражался в Корее, получил награду за храбрость. Мама была совершенно опустошенной, постоянно сидела на валиуме, а из меня, затюканной девчонки, двух слов было не вытянуть. А напоследок, – горько усмехается Гвин, – он пригрозил, что убьет и маму, и меня, если я попытаюсь очернить его имя. И подробно объяснил, как именно это сделает, будто зачитал вслух инструкцию из серии «Сделай сам». И как легко ему потом удастся выйти сухим из воды. Не хочу даже говорить, как именно он надо мной надругался, ты, наверное, и сама догадываешься. Мне было пятнадцать… – напряженным голосом произносит Гвин, и я уже не рада, что мы вообще завели этот разговор. – Столько же, сколько тебе сейчас. – (Я невольно киваю.) – С тех пор уже пять лет прошло. Мама обо всем знала – домик-то маленький, – но не осмелилась его остановить. А на следующее утро я, как обычно, ушла в школу, сунув в спортивную сумку еще кое-какую свою одежду, и с того дня в Уэльс ни ногой. У тебя сигареты еще остались?
– Гэрины все кончились, будем мои курить.
– Если честно, мне «Ротманс» больше нравятся.
Я протягиваю ей пачку:
– Моя настоящая фамилия – Сайкс.
Она кивает:
– Холли Сайкс, значит. А я – Гвин Бишоп.
– Я думала, ты Гвин Льюис.
– В обеих фамилиях есть буква «и».
– А что было после того, как ты уехала из Уэльса?
– Манчестер, Бирмингем, полубездомная, а потом и вовсе бездомная жизнь. В Бирмингеме я попрошайничала в торговом центре «Буллринг». Спала в чужих домах, вместе со сквоттерами или у друзей, которые вели себя совсем не по-дружески. В общем, прозябала. Если честно, то чудом выжила. А второе чудо – то, что меня не отправили домой. Понимаешь, пока тебе нет восемнадцати, сотрудники социальной службы обязаны сдать тебя местным властям, а те, естественно, вернут тебя домой. Мне до сих пор снятся кошмары, будто меня приводят к отцу, он приветствует блудную дочь и полицейский смотрит на душещипательную сцену и думает: «Все хорошо, что хорошо кончается», а отец запирает за ним дверь и… Все, хватит. Короче, я рассказала тебе эту светлую и радостную историю, чтобы ты поняла, как должно быть плохо дома, чтобы решиться на побег. Как опустишься на самое дно, так оттуда не выберешься. Пять лет прошло, и я только сейчас стала надеяться, что самое плохое уже позади. Вот я смотрю на тебя и… – Она умолкает, потому что прямо перед нами резко тормозит какой-то велосипедист.
– Сайкс!
Эд Брубек? Ну да, Эд Брубек!
– Ты что здесь делаешь?
Волосы у него встопорщенные, мокрые от пота.
– Тебя ищу.
– На велосипеде? А как же школа?
– Утром сдал экзамен по математике и теперь свободен. Сел с велосипедом на поезд, доехал до Ширнесса, а потом сюда прикатил.
– За бейсболкой, что ли?
– Да фиг с ней, с бейсболкой, Сайкс, нам нужно…
– Погоди, а откуда ты знаешь, где меня искать?
– Я и не знал, но потом вспомнил, что я тебе рассказывал про Гэбриела Харти, ну и позвонил ему. Он, правда, сказал, что никакой Холли Сайкс у него нет, есть только некая Холли Ротманс. Я сообразил, что это, наверное, ты, и оказался прав.
– Да уж, ничего не скажешь, – бормочет Гвин.
– Брубек, это Гвин, – говорю я. – Гвин, это Брубек.
Они кивают друг другу, и Брубек снова поворачивается ко мне:
– Слушай, тут дело такое…
Гвин встает.
– Ладно, увидимся в пентхаусе, – говорит она, подмигивает и удаляется легкой походкой.
А я сердито говорю Брубеку:
– Да слышала я!
Он изумленно смотрит на меня:
– Тогда почему ты все еще здесь?
– Об этом по «Радио Кент» сообщили. Ну, о тройном убийстве. В деревне Айвейд.
– Да я совсем не об этом! – Брубек прикусывает губу. – Твой брат тоже здесь?
– Джеко? Нет, конечно. Что ему тут делать?
Прибегает Саба, облаивает Брубека, а он смятенно молчит, как человек, принесший ужасную весть.
– Джеко пропал.
У меня голова идет кругом.
– Заткнись! – велит Брубек Сабе, и та умолкает.
– Когда? – еле слышно спрашиваю я.
– В ночь с субботы на воскресенье.
– Джеко? – Наверное, мне послышалось. – Пропал? Но… Как пропал? Ведь паб запирают на ночь.
– Полиция с утра пораньше заявилась в школу, и мистер Никсон пришел прямо на экзамен и спросил, не знает ли кто, где ты. Я чуть было не сказал. А потом… В общем, я здесь. Эй, Сайкс? Ты меня слышишь?
Меня охватывает противное зыбкое ощущение, как в лифте, когда кажется, что пол вот-вот уйдет из-под ног.
– Слышу. Но я не видела Джеко с субботнего утра…
– Я-то знаю, а полицейские – нет. Они решили, что вы с Джеко сговорились и сбежали вместе.
– Но это же бред, Брубек… ты же знаешь, что бред!
– Да, знаю! Но лучше, если ты им это скажешь, иначе они так и не начнут искать Джеко по-настоящему.
Мне мерещатся то лондонские поезда, то полицейские водолазы, обшаривающие дно Темзы, то убийца среди зеленых изгородей.
– Но Джеко даже не знает, где я! – Меня трясет, и небо заваливается набок, и голова раскалывается от боли. – Он странный мальчик и… и… и…
– Слушай… – Брубек подхватывает меня, поддерживает мне голову ладонью, будто собирается поцеловать, только, конечно же, не лезет ко мне с поцелуями. – Послушай, Холли, бери свои пожитки. Поедем в Грейвзенд. На моем велосипеде, а потом на поезде. Я тебе помогу. Обещаю. Давай, поехали. Прямо сейчас.
Смирны горькой запах благой… 1991
13 декабря
– Гулче, тенора! – велит хормейстер. – Напрягаем диафрагмы – и ходуном, ходуном, ну же! Дисканты, не нажимайте так на «с-с-с» – вы все-таки не труппа Голлумов. И приглушите «ц». Эдриен Би – раз уж ты берешь верхнее до в «Уймитесь, печальные токи», значит сможешь взять его и здесь. Еще раз, проникновенно. И раз, и два, и…
Шестнадцать хористов Королевского колледжа, с безжалостно обкорнанными патлами, ушастых, как летучие мыши, и четырнадцать стипендиатов хора выдыхают в унисон:
- Та, что прекрасна и светла,
- Velut maris stella…[15]
Бриттенов «Гимн Деве» взмывает ввысь, гоняется за хвостом своего эха под великолепными сводами, а потом пикирует вниз, взрываясь над сидящими в часовне редкими зимними туристами и студентами в промокших куртках и пальто. По-моему, у Бриттена есть и удачные, и неудачные произведения: иногда он наводит скуку, а иногда этот старый педик, раздухарившись, привязывает трепетную душу слушателя к мачте, дабы исхлестать ее феерическим величием…
- Та, что как ясный день мила,
- Parens et puella…[16]
Бывает, я лениво раздумываю о музыке, которую хотел бы услышать на смертном одре, в окружении очаровательных сиделок, и не могу представить ничего более восторженного, чем «Гимн Деве», однако боюсь, что, когда наступит великое мгновение, диджей Бессознательное отправит меня в путь под звуки «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man after Midnight)»[17] и мне впервые не удастся сменить пластинку. Мир, умолкни, ибо один из самых великолепных музыкальных оргазмов наступает на слове «молю»:
- Молю Тебя, меня призри,
- Дева, пред Сыном заступи…
Волосы на затылке шевелятся, будто от дуновения. От вздоха той, что сидит через проход от меня. Хотя только что ее там не было… Глаза закрыты, чтобы лучше впитывать музыку, а я впитываю ее. Ей около сорока… ванильные волосы, сливочная кожа, губы – как божоле, а скулы такие острые, что можно обрезаться. Стройная фигура, темно-синее пальто. Кто она? Русская оперная дива-диссидентка, ожидающая своего куратора? Тут, в Кембридже, и не такое возможно. Но внешность у нее на редкость впечатляющая, высший класс…
- Tam pia[18],
- Прости меня, прими меня…
- Мария.
Пусть она останется после того, как хористы уйдут. Пусть повернется к молодому человеку, сидящему через проход, и шепнет: «Божественные звуки!» Пусть мы с ней поговорим о симфонических интерлюдиях из оперы «Питер Граймс» и о Девятой симфонии Брукнера. Пусть мы не станем обсуждать ее семейное положение, пока будем пить кофе в гостинице «Каунти». Пусть кофе превратится в форель и красное вино, обойдусь без последней в Михайловом триместре кружки пива, ребята и без меня повеселятся в «Погребенном епископе». Пусть мы с ней поднимемся по застеленной ковром лестнице в уютный люкс, где всю Неделю первокурсника я резвился с матерью Фицсиммонса. Кхм. В трусах пробуждается Кракен. Все-таки я – мужчина двадцати одного года от роду, который уже десять дней живет без секса, так что сами понимаете… И скрыть этот факт очень сложно в присутствии красивой женщины. Ого! Ну-ну. Похоже, она исподтишка за мной наблюдает. Рассматриваю рубенсовское «Поклонение волхвов» над алтарем и жду, когда она сделает первый шаг.
Хористы удаляются, незнакомка остается сидеть. Какой-то турист наводит увесистый фотоаппарат на Рубенса, но гоблин-охранник тут же рявкает: «Со вспышкой нельзя!» Часовня постепенно пустеет, гоблин возвращается в свою будку у органа, одна за другой текут минуты. Мой «Ролекс» показывает половину четвертого. Надо еще довести до ума эссе о внешней политике Рональда Рейгана, но в шести шагах от меня сидит эфемерная богиня и ждет, когда я сделаю первый шаг.
– По-моему, – говорю я, – кровь, пот и слезы хористов, пролитые над тем или иным произведением, лишь углубляют тайну музыки, а отнюдь не уменьшают ее. Вы не находите, что в этом есть некий смысл?
– Пожалуй, да – для студентов первых курсов, – с улыбкой отвечает она.
Ах ты кокетка!
– А вы аспирантка? Или преподаватель?
Она улыбается призрачной улыбкой:
– Я одета, как суровая ученая дама?
В тихом голосе сквозит некая французская округлость звуков.
– Нет, что вы! Но, судя по всему, вы способны на весьма суровую отповедь.
Она не реагирует на мой прозрачный намек:
– Здесь я чувствую себя как дома.
– Я тоже. Почти. Я из Хамбер-колледжа, в нескольких минутах ходьбы отсюда. Третьекурсники обычно подыскивают жилье за пределами колледжа, но я чуть ли не каждый день прихожу сюда послушать хор, если позволяет расписание занятий.
Она лукаво смотрит на меня, будто говоря: «Да уж, даром времени не теряешь».
Я выразительно пожимаю плечами, мол, а вдруг я завтра попаду под автобус?
– И что же, учеба в Кембридже оправдывает ваши ожидания?
– Тот, кто недоволен Кембриджем, не заслуживает того, чтобы здесь учиться. В моей комнате жили Эразм, Петр Великий и лорд Байрон. Честное слово. – Ложь, конечно, но актер я неплохой. – Перед сном я часто думаю о них, глядя на потолок моей комнаты, ничуть не изменившийся с тех времен. Вот это – настоящий Кембридж. Во всяком случае, для меня, – заявляю я; эта отработанная речь всегда пользуется успехом у женщин. – Кстати, меня зовут Хьюго. Хьюго Лэм.
Инстинкт подсказывает, что не стоит пожимать ей руку.
С ее губ срывается:
– Иммакюле Константен.
Ну и имечко! Ручная граната из семи слогов.
– Вы француженка?
– Я родом из Цюриха.
– Обожаю Швейцарию. И каждый год езжу кататься на лыжах в Ла-Фонтен-Сент-Аньес: там у моего приятеля есть шале. Вы там бывали?
– Случалось. – Она опускает на колено руку в замшевой перчатке и говорит: – Вы изучаете политику, Хьюго Лэм.
Ничего себе!
– Как вы догадались?
– Расскажите-ка мне о власти. Что это такое?
Да уж, ее кембриджские замашки намного лучше моих!
– Вы хотите обсудить со мной проблему власти? Прямо здесь и сейчас?
Она склоняет очаровательную голову:
– Не существует иного времени, кроме настоящего.
– Ну, хорошо. – Чего не сделаешь ради высшего класса. – Власть – это способность заставить окружающих делать то, чего они делать не стали бы, или удержать их от того, что они непременно стали бы делать.
Лицо Иммакюле Константен остается непроницаемым.
– И каким же образом?
– С помощью принуждения и поощрения. Кнутом и пряником, хотя с определенной точки зрения это одно и то же. Принуждение основано на боязни насилия или страданий. «Подчинись, не то пожалеешь». В десятом веке с помощью этого принципа датчане успешно взимали дань; на этом держалась сплоченность стран Варшавского договора, да и задиры на детской площадке правят с помощью того же. На этом основаны закон и порядок. Именно поэтому мы сажаем преступников в тюрьму, а демократические государства стремятся монополизировать силу.
Иммакюле Константен внимательно следит за выражением моего лица; это и возбуждает, и отвлекает.
– Поощрение работает за счет обещаний: «Подчинитесь, и почувствуете выгоду». Подобная динамика наблюдается, к примеру, при размещении военных баз НАТО на территориях государств, не являющихся членами этой организации, при дрессировке собак, а также при необходимости на всю жизнь примириться с дерьмовой работой. Ну что, правильно я рассуждаю?
Охранник-гоблин чихает, и по часовне прокатывается гулкое эхо.
– Вы всего лишь царапнули по поверхности, – говорит Иммакюле Константен.
Я пылаю от вожделения и досады:
– Так царапните поглубже.
Она смахивает с замшевой перчатки какую-то пушинку и произносит, обращаясь к собственной руке:
– Власть теряют либо обретают, но ее невозможно ни создать, ни уничтожить. Власть – это гость тех, кто ею наделен, но отнюдь не их собственность. К власти стремятся и безумцы, и мудрецы, но лишь мудрейших тревожат ее долговечные побочные эффекты. Власть – это наркотик для эго и едкая кислота для души. Переходы власти от одного индивида к другому – будь то путем завоеваний, браков, урн для голосования, диктатур или счастливого случая – и составляют суть истории. Да, наделенные властью способны вершить правый суд, преображать мир, превращать цветущие государства в выжженные поля сражений, ровнять с землей небоскребы, но сама по себе власть не несет в себе нравственного начала. – Иммакюле Константен смотрит на меня. – Власть заметила вас. Власть за вами пристально наблюдает. Продолжайте и дальше в том же духе, и власть вас облагодетельствует. Но власть и посмеется над вами, причем безжалостно, когда вы будете умирать в частной клинике через незаметно пролетевшие десятилетия. Власть высмеивает всех своих прославленных фаворитов, стоит им оказаться на смертном одре. «Истлевшим Цезарем от стужи заделывают дом снаружи. Пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкою в щели». Мысль об этом вызывает у меня особое отвращение, Хьюго Лэм. А у вас?
Мелодичный голос Иммакюле Константен убаюкивает, точно шелест ночного дождя.
У тишины в часовне Королевского колледжа явно имеется собственное мнение.
– А чего же вы, собственно, хотите? – помолчав, говорю я. – В договор с жизнью включен пункт о смертности. Всем нам когда-нибудь придется умереть. Но пока ты жив, властвовать над другими куда приятней, чем находиться в их власти.
– Что живо, то в один прекрасный день умрет – так гласит договор с жизнью, правда? Но вам следует знать, что в исключительных случаях этот нерушимый пункт договора может быть… переписан.
Я гляжу в ее спокойное и серьезное лицо.
– Вы это о чем? О занятиях спортом? О вегетарианских диетах? О пересадке органов?
– О той форме власти, которая позволяет отсрочивать смерть навечно.
Да, мисс Константен, безусловно, высший класс, но если она ушиблена сайентологией или криогенетикой, то ей придется понять, что меня подобной чушью не проймешь.
– А вы, случайно, не пересекли границу Страны Безумцев?
– Эта страна не знает границ.
– Но вы говорите о бессмертии так, словно это некая реальность.
– Нет, я говорю не о бессмертии, а о вечной отсрочке смерти.
– Постойте, вас что, Фицсиммонс послал? Или Ричард Чизмен? Вы что, с ними сговорились?
– Нет. Я просто пытаюсь заронить в вас семя…
Да уж, это, пожалуй, слишком креативно для очередной дурацкой шутки Фицсиммонса.
– Семя чего? Что из него вырастет? Можно поточнее?
– Семя вашего исцеления.
Ее серьезность вызывает тревогу.
– Но я не болен!
– Смерть вписана в вашу клеточную структуру, а вы утверждаете, что не больны? Посмотрите на эту картину. Посмотрите, посмотрите. – Она кивает в сторону «Поклонения волхвов». Я подчиняюсь. Я всегда буду ей подчиняться. – Тринадцать человек, если их пересчитать. Как на Тайной вечере. Пастухи, волхвы, родственники. Посмотрите внимательно на их лица, по очереди на каждого. Кто из них верит, что этот новорожденный пупс сумеет победить смерть? Кто хочет доказательств? Кто считает Мессию лжепророком? Кто знает, что он изображен на картине? Что на него смотрят? А кто из них смотрит на вас?
Гоблин-охранник машет рукой у меня перед носом:
– Эй, очнись! Извини, что побеспокоил, но нельзя ли закончить ваши дела со Всевышним завтра?
Моя первая мысль: «Да как он смеет?!» Вторая мысль не появляется, потому что меня мутит от его дыхания, воняющего горгондзолой и скипидаром.
– Мы закрываемся, – говорит он.
– Но часовня открыта до шести! – возражаю я.
– Ну… да-а. Точно, до шести. А сейчас сколько?
И тут я замечаю, что за окнами – сияющая мгла.
Без двух минут шесть – утверждают часы. Не может быть! Ведь только что было четыре. Я пытаюсь за внушительным брюхом своего мучителя разглядеть Иммакюле Константен, но ее нет. И, судя по всему, давно. Не может быть! Она же только что просила меня взглянуть на картину Рубенса, всего несколько секунд назад! Я посмотрел, и…
…Я морщу лоб, гляжу на гоблина-охранника, ожидая ответа.
– Шесть часов, пора уходить, – заявляет он. – Пора, пора. Расписание есть расписание.
Он стучит по циферблату своих наручных часов, тычет их мне в нос, хотя и вверх тормашками; на дешевом циферблате отчетливо видно: 17:59.
– Но… – бормочу я, да какое уж тут «но»? Не может быть, чтобы два часа куда-то провалились за две минуты! – А где… – сиплю я, – женщина? Она вон там сидела?
Охранник смотрит в указанном направлении, спрашивает:
– Когда? В этом году?
– Сегодня, примерно… в половине четвертого. В таком темно-синем пальто. Красавица.
Гоблин складывает на груди короткие руки и заявляет:
– Будь так любезен, подними свою одурманенную травкой задницу и двигай отсюда, а мне домой пора; у меня, между прочим, семья имеется.
Ричард Чизмен, Доминик Фицсиммонс, Олли Куинн, Джонни Пенхалигон и я чокаемся стаканами и бутылками, а вокруг пьяно ревут и бубнят посетители «Погребенного епископа», паба на булыжной улочке у западных ворот Хамбер-колледжа. В пабе не протолкнуться: завтра начинается рождественский исход, и нам чудом удается найти столик в самом дальнем углу. Я одним духом осушаю стопку «Килмагун спешиал резерв», и виски тяжелым комом соскальзывает в горло, прожигая насквозь, от миндалин до самого желудка, а потом начинает растворять тревогу, терзающую меня с тех пор, как пару часов назад я очнулся в часовне, совершенно не понимая, что произошло. Мысленно убеждаю себя, что месяц выдался на редкость тяжелый: сдача письменных работ, жесткие сроки, бесконечное нытье Марианджелы, а на прошлой неделе еще и две ночные попойки у Жаба, чтобы улестить Джонни Пенхалигона. Внезапная потеря времени – не симптом опухоли мозга, да и вообще, я пока не падаю без причины и не брожу нагишом по крышам колледжа, среди каминных труб. Я забыл о времени, сидя в красивейшей позднеготической церкви Великобритании и размышляя о шедевре Рубенса, – подобное окружение создано для того, чтобы заставить человека утратить счет часам. Олли Куинн опускает на столешницу полупустую кружку и тихонько рыгает.
– Лэм, ты разобрался, как Рональд Рейган выиграл холодную войну?
Я его еле слышу: молодые консерваторы Хамбер-колледжа в соседнем зале громко подвывают бессмертному рождественскому хиту Клиффа Ричарда «Mistletoe and Wine»[19].
– Ага, все изложил и, стряхнув с листов вековую пыль, подсунул профессору Дьюи под дверь, – киваю я.
– Не знаю, как ты целых три года эту политику долбишь. – Ричард Чизмен утирает с хемингуэевской бородки пену, оставленную «Гиннессом». – Уж лучше обрезание с помощью терки для сыра.
– Жаль, что ты ужин пропустил, – говорит Фицсиммонс. – На десерт пошли остатки нарнийской травки Джонни. Не хватало еще, чтобы уборщица, приводя в порядок его комнату в конце триместра, наткнулась на его запасы, приняла их за крысиные катышки и выбросила вместе с липкими скаутскими журнальчиками. – Джонни Пенхалигон, не отрываясь от кружки с горьким пивом, показывает Фицсиммонсу средний палец, дергает узловатым кадыком; я лениво представляю, как провожу по нему опасной бритвой. Фицсиммонс фыркает и поворачивается к Чизмену: – А где же твой приятель, загадочное дитя Востока в кожаных штанах?
Чизмен косится на часы:
– В тридцати тысячах футов над Сибирью, перевоплощается в ревностного конфуцианина и примерного старшего сына. Если бы Сек все еще оставался в городе, я не стал бы почем зря рисковать своей репутацией в компании ярых гетеросексуалов. Я теперь убежденный рисолюб. Фиц, угости-ка меня канцерогенной палочкой, дай мне в зубы, чтоб дым пошел, – американцы почему-то обожают это выражение.
– Здесь курить бесполезно, – морщится Олли Куинн, извечный сторонник борьбы с курением. – Все равно дымом дышим.
– Ты ж бросаешь. – Фицсиммонс протягивает Чизмену пачку «Данхилла»; мы с Пенхалигоном тоже берем по сигарете.
– Успеется, – отмахивается Чизмен. – Джонни, будь так любезен, дай зажигалку Германа Геринга, она прямо-таки источает эманации зла.
Пенхалигон вытаскивает увесистую зажигалку времен Третьего рейха. Самую настоящую, приобретенную его дядей в Дрездене. На аукционе такая штучка улетает за три тысячи фунтов.
– А где сегодня РЧП? – спрашивает Пенхалигон.
– Будущий лорд Руфус Четвинд-Питт сегодня решил пополнить запасы наркоты, – отвечает Фицсиммонс. – Какая жалость, что это не академическая дисциплина.
– Зато это надежный, защищенный от спада сектор нашей экономики, – замечаю я.
– На будущий год, – говорит Олли Куинн, сдирая наклейку с бутылки безалкогольного пива, – мы выйдем в реальный мир и начнем зарабатывать себе на жизнь.
– Вот-вот, жду не дождусь, – хмыкает Фицсиммонс, поглаживая ямку на подбородке. – Презираю бедность.
– Ага, у меня аж сердце кровью обливается. – Ричард Чизмен зажимает сигарету уголком губ, прямо как Серж Генсбур. – Твой «порше», прикид от Версаче и двадцатикомнатное родовое гнездо в Котсуолде производят на окружающих абсолютно неверное впечатление.
– Все это добыто моими предками, – возражает Фицсиммонс. – А по-честному – мне полагается мой собственный нереально жирный куш, который можно промотать.
– Папочка все еще подбирает тебе теплое местечко в Сити? – спрашивает Чизмен и недоуменно морщит лоб, потому что Фицсиммонс начинает заботливо отряхивать его твидовый пиджак. – Чего это ты?
– Да вот, отрясаю с тебя прах застарелых обид.
– Они к нему напрочь приклеились, – говорю я. – А ты, Чизмен, не критикуй семейственность: все мои дядья, у которых, кстати, отличные связи, полностью согласны с мнением, что именно благодаря непотизму наша страна стала такой, как сейчас.
Чизмен обдает меня струей сигаретного дыма.
– Когда ты станешь сгоревшим на работе аналитиком Сити-банка и у тебя отнимут «ламборгини», а адвокат твоей третьей жены выкрутит тебе яйца и подведет под судейский молоток, ты пожалеешь о своих словах.
– Это точно, – соглашаюсь я. – А Дух Будущих Святок предвидит, что Ричард Чизмен осуществит благотворительный проект по защите беспризорников Боготы.
Чизмен обдумывает идею с беспризорниками Боготы, удовлетворенно ворчит и больше не возражает.
– Благотворительность порождает нерадивость, – изрекает он. – Нет, лучше я в журналюги подамся. Колонка здесь, повестушка там, выступления на радио и телевидении. Кстати… – Он выуживает из кармана пиджака книгу с надписью на обложке: «Криспин Херши. „Сушеные эмбрионы“» и наискосок ярко-красным – «СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР». – Мне впервые заказали рецензию. Для публикации у Феликса Финча, в «Пиккадилли ревью». Двадцать пять пенсов за слово, тысяча двести слов, триста фунтов за два часа работы. Неплохо, а?
– Ну, Флит-стрит, берегись! – говорит Пенхалигон. – А кто такой Криспин Херши?
Чизмен вздыхает:
– Сын Энтони Херши.
Пенхалигон только глазами хлопает.
– Ой, да ладно тебе, Джонни! Энтони Херши, знаменитый режиссер. В шестьдесят четвертом он получил «Оскара» за «Батлшип-Хилл», а в семидесятые снял «Ганимед-пять», лучший британский фантастический фильм всех времен!
– Этот фильм лишил меня воли к жизни, – добавляет Фицсиммонс.
– А меня, кстати, впечатляет твой заказ, наш обожаемый Ричард, – говорю я. – Последний роман Криспина Херши был просто блеск. Я его подобрал в хостеле, в Ладакхе, когда после школы путешествовал по миру. А что, новый роман так же хорош?
– Почти. – Мсье Критик складывает кончики пальцев домиком, как бы сосредоточиваясь. – Херши-младший – одаренный стилист, а Феликс – то есть Феликс Финч для вас, плебеев, – и вовсе ставит его на одну ступень с Макьюэном, Рушди, Исигуро и так далее. Похвалы Феликса малость преждевременны, но еще несколько книг – и Криспин вполне созреет.
– А как продвигается твой роман, Ричард? – спрашивает Пенхалигон.
Мы с Фицсиммонсом тут же корчим друг другу рожи висельников.
– Рождается в муках. – Чизмен задумчиво взирает на свое славное литературное будущее, и эта картина ему очень нравится. – Мой герой – кембриджский студент по имени Ричард Чизмен, который пишет роман о кембриджском студенте Ричарде Чизмене, который работает над романом о кембриджском студенте Ричарде Чизмене. Такого еще никто не писал!






