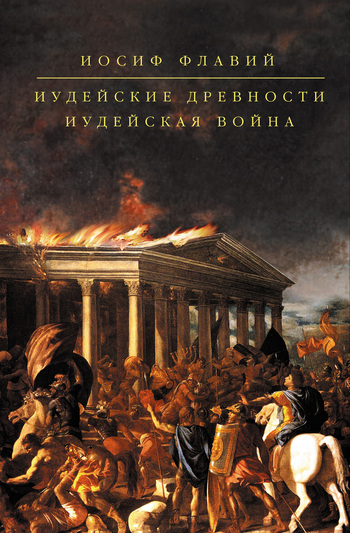Нарцисс и Гольдмунд Гессе Герман

— Из Мариабронна, из монастыря.
— Поп?
— Нет. Ученик. Странствую.
Она смотрела на него полунасмешливо, полубессмысленно, слегка покачивая головой на худой морщинистой шее. Он начал жевать хлеб, а она отнесла малыша опять на солнце. Потом вернулась и с любопытством спросила:
— Что нового?
— Немного. Знаешь патера Ансельма?
— Нет. Что с ним?
— Болен.
— Болен? Помирает?
— Не знаю. Ноги больные. Не может ходить.
— Должно, помирает?
— Да не знаю. Может быть.
— Ну пусть помирает спокойно. Мне надо варить суп. Помоги-ка мне наколоть лучины.
Она дала ему еловое полено, хорошо высушенное у очага, и нож. Он наколол лучины, сколько было нужно, и смотрел, как она сунула ее в золу и, наклонившись, суетливо дула, пока та не загорелась. В точном, одной ей известном порядке она сложила еловые и буковые поленья, ярко вспыхнул огонь в открытом очаге, она подвинула к пламени большой черный котел, свисавший из дымохода на закопченной цепи.
По ее приказанию Гольдмунд принес воды из источника, сняв сливки с молока в миске, сидел в дымном сумраке, смотря на игру пламени и на то появлявшееся в красных отблесках, то исчезавшее худое сморщенное лицо старухи; он слышал, как рядом за дощатой стеной ворочается у яслей корова. Ему очень нравилось здесь. Липа, источник, пылающий огонь под котлом, пофыркивание жующей коровы и ее. глухие удары в стену, полутемное помещение со столом и скамьей, возня маленькой седой женщины, — все это было хорошо и прекрасно, пахло пищей и миром, человеком и теплом, домом. Было еще и две козы, а от старухи он узнал, что сзади был еще свинарник и что старуха — бабка крестьянина и прабабка мальчика. Его звали Куно, он заходил время от времени, не говоря ни слова и поглядывая не сколько пугливо, но и не плача.
Пришел крестьянин с женой, они были очень удивлены, встретив в доме чужого. Крестьянин начал оглядываться, недоверчиво тащил юношу за рукав к двери, чтобы при свете дня разглядеть его лицо, но потом засмеялся, похлопал его по плечу и пригласил к столу. Они уселись, и каждый макал свой хлеб в общую миску с молоком, пока молоко не кончилось и крестьянин не выпил остатки.
Гольдмунд спросил, нельзя ли ему остаться до завтра и переночевать под его крышей. Нет, ответил мужчина, для этого нет места, но кругом ведь достаточно сена, там он и найдет место для ночевки.
Крестьянка держала малыша при себе, она не принимала участие в разговоре; но во время еды ее любопытные глаза не отрывались от юного незнакомца. Его локоны и взгляд сразу произвели на нее впечатление, потом она с удовольствием разглядывала и его красивую белую шею, благородные белые руки и их свободные красивые движения. Статный и благородный был этот, незнакомец и такой молодой! Но что ее больше всего привлекало и во что она прямо влюбилась, так это в его голос, такой таинственно поющий, излучающий тепло, нежно призывный голос молодого мужчины, звучавший как ласка. Век бы слушала этот голос! После еды у хозяина были еще дела в хлеву; Гольдмунд вышел из дома, вымыл руки у источника и присел на низкий его край, наслаждаясь прохладой и слушая журчание воды. Он сидел в нерешительности: здесь ему уже нечего было ждать и все-таки было жаль, что приходится опять уходить. Но+ вот из дома вышла крестьянка с ведром в руке, она поставила его под струю и наполнила. Вполголоса она сказала: «Если сегодня вечером ты будешь еще неподалеку, я принесу тебе поесть. Там за ячменным полем лежит сено, его только завтра уберут. Ты будешь там?»
Он посмотрел на ее веснушчатое лицо, на сильные руки, отодвинувшие ведро, тепло смотрели ее светлые большие глаза. Он улыбнулся ей и кивнул, она ушла с полным ведром и скрылась в темноте за дверью. Он сидел, благодарный и очень довольный, слушая бегущую воду. Немного позже он вошел в дом, нашел хозяина, подал руку ему и бабушке и поблагодарил. В хижине пахло огнем, копотью и молоком. Только что она была кровом и домом и вот опять чужая. Попрощавшись, он вышел.
За хижинами он нашел часовню и рядом с ней прекрасную рощу, группу старых крепких дубов с короткой травой под ними. Здесь в тени он остался, прогуливаясь взад и вперед меж толстых стволов. Странно, подумал он. получается с женщинами и с любовью, им действительно не нужны слова. Несколько слов понадобилось женщине, только чтобы назначить свидание, все остальное было сказано без слов. Но как же? Глазами, да и определенным звучанием немного охрипшего голоса, и еще чем— то, пожалуй, запахом, нежным легким излучением кожи, по которому мужчина и женщина определяют влечение друг к другу. Поразительно, как деликатен этот тайный язык и как быстро он его усвоил! Он радовался вечеру, был полон любопытства, какой же будет эта большая белокурая женщина, как она будет смотреть, двигаться, целовать — конечно, совсем по-другому, чем Лизе, где-то она теперь, Лизе, с ее черными прямыми волосами, смуглой кожей, короткими вздохами? Побил ее муж? Думает ли она вообще обо мне? Или нашла нового возлюбленного, как я сегодня нашел новую женщину? Как быстро все неслось дальше, сколько всюду счастья на пути, как все прекрасно и горячо и как удивительно преходяще! Этот грех, это прелюбодеяние, еще недавно он скорее дал бы себя убить, чем совершил бы этот грех. И вот он ждет уже вторую женщину, а его совесть спокойно молчит. То есть спокойной она, пожалуй, не была, но не из-за прелюбодеяния и сладострастия бывала его совесть иногда неспокойной и обремененной. Это было что-то другое, он не знал его имени. Это было чувство вины, которое не приобретают, а получают при рождении. Может быть, это было то, что в теологии называется первородным грехом? Пусть будет так. Да, жизнь сама несла в себе что-то вроде вины — зачем, в противном случае, такому чистому и знающему человеку, как Нарцисс, пришлось подвергать себя покаянию, подобно преступнику? Или почему он сам, Гольдмунд, чувствовал где-то в глубине эту вину? Разве он не счастлив? Разве не молод и здоров, разве не свободен как птица? Разве не любим женщинами? Разве не прекрасно передавать женщине то же чувство любви, которое испытываешь сам? Почему же все-таки он не был счастлив целиком и полностью? Почему в его молодое счастье, да и в добродетель и мудрость Нарцисса иногда проникала эта странная боль, этот тихий страх, эта жалоба на бренность? Почему он столько размышляет об этом подчас, хотя знает, что не мыслитель?
И все-таки жизнь была прекрасна. Он сорвал в траве маленький фиолетовый цветок, поднес его близко к глазам, заглянул в маленький узкий венчик, там расходились жилки и пульсировали крошечные тонкие, как волоски органы: как в чреве женщины или в мозгу мыслителя, билась там жизнь, дрожало желание. О, почему мы совершенно ничего не знаем? Почему не можем поговорить с этим цветком? Да даже двое людей не всегда могут по-настоящему поговорить друг с другом, для этого нужен счастливый случай, особая дружба и готовность. Нет, это счастье, это любовь не нуждается в словах, в противном случае она была бы полна недоразумений и глупости. Ах, глаза Лизе, полузакрытые от избытка блаженства и едва мерцавшие сквозь дрожащие веки — десятью тысячами ученых или поэтических слов этого не выразишь! Ничего, ах, ничего-то нельзя вообще хоть как-то выразить, додумать до конца — и все-таки постоянно испытываешь настоятельную потребность говорить, вечное побуждение думать! Он разглядывал листья растения, как красиво, как удивительно умно располагались они на стебле. Прекрасны были стихи Вергилия, он любил их; но что был весь их ум и ясность, красота и смысл по сравнению со спиралькой этих крохотных листиков на стебле. Какое наслаждение, какое счастье, какое восхитительное, благородное и осмысленное было бы деяние, если бы человек был способен создать хоть один такой цветок! Но никто не в состоянии это сделать, ни герой, ни король, ни папа, ни святой.
Когда солнце близилось к закату, он отправился искать место, назначенное ему крестьянкой. Тут он ждал. Прекрасно было так ждать, зная, что женщина, полная любви, вот-вот придет.
Она пришла и принесла в льняной тряпице большой ломоть хлеба и кусок сала. Она развязала ее и положила перед ним.
— Для тебя, — сказала она. — Ешь!
— Потом, — ответил он, — хлеба мне не хочется, мне хочется тебя. О, покажи мне те прелести, что принесла с собой.
Много прекрасного принесла она с собой: сильные жаждущие губы, сильные сверкающие зубы, сильные руки, сверху красные от солнца, но белые и нежные с другой стороны. Слов она знала немного, но в гортани у нее пел какой-то манящий звук, а когда она почувствовала прикосновение его рук, таких нежных и чутких, каких она никогда не знала, кожа ее затрепетала, а в горле послышался звук, как у мурлыкающей кошки. Она знала не много игр, меньше, чем Лизе, но она была на удивление сильна, обнимала так, будто хотела сломать возлюбленному шею. Наивной и жадной была ее любовь, простой и при всей своей силе все-таки застенчивой, Гольдмунд был очень счастлив с ней.
Потом она ушла, вздыхая, с трудом оторвавшись от него, не смея остаться.
Гольдмунд остался один, счастливый, но и печальный. Лишь много позже он вспомнил о хлебе и сале и в одиночестве поел, была уже ночь.
Глава восьмая
Долгое время уже странствовал Гольдмунд, редко ночуя два раза подряд в одном месте, везде желанный гость для женщин и осчастливленный ими, загоревший на солнце, похудевший в пути от скудной пиши. Многие женщины прощались с ним на заре и уходили, некоторые со слезами, и иной раз он думал: «Почему ни одна не остается со мной? Почему, любя меня и нарушая супружескую верность ради одной любовной ночи, все они сразу возвращаются к своим мужьям, от которых в большинстве своем боятся получить побои?» Ни одна не просила его всерьез остаться, ни одна не попросила взять с собой и не была готова из любви разделить с ним радости и горести странствия. Правда, он ни одну не приглашал с собой, ни одной не намекал на это; спрашивая же свое сердце, он понимал, что ему дорога свобода, и он не мог припомнить ни одной возлюбленной, тоска по которой не оставляла бы его в объятиях следующей. И все— таки ему было странно и немного грустно оттого, что всюду любовь была столь быстротечна, и женская, и его собственная, что она так же быстро удовлетворялась, как и вспыхивала. Правильно ли это? Было ли так всегда и везде? Или дело в нем самом, может, он так устроен, что женщины, хотя и желали его и находили прекрасным, не хотели связываться с ним, кроме как для короткой, бессловесной близости на сене или во мху? Может, дело в том, что он странствовал, а они, оседлые, боятся жизни бездомной? Или дело только в нем, в его личности, так что женщины желали его и прижимали к себе, как красивую игрушку, а потом все убегали к своим мужьям, даже если их ждали побои? Он не знал.
Он не уставал учиться у женщин. Правда, его больше тянуло к девушкам, совсем юным, у которых еще не было мужчин и которые ничего не знали, в них он мог страстно влюбляться; но девушки обычно бывали недосягаемы: они были чьими-то возлюбленными, были робки и за ними хорошо следили. Но он и у женщин охотно учился. Каждая что-нибудь оставляла ему: жест, способ поцелуя, особую игру, особую манеру отдаваться или сопротивляться. Гольдмунд соглашался на все, он был ненасытным и уступчивым, как ребенок. Он был открыт любому соблазну: только поэтому он сам был так соблазнителен.
Одной его красоты было бы недостаточно, чтобы так легко находить женщин; нужна была эта детскость, эта любопытствующая невинность страсти, эта совершенная готовность ко всему, чего бы не пожелала от него женщина. Он был, сам того не зная, с каждой возлюбленной именно таким, каким ей хотелось и мечталось, с одной — нежным и обходительным, с другой — стремительным и быстрым, то по-детски неискушенным, как впервые посвящаемый в любовные дела мальчик, то искусным и осведомленным. Он был готов к играм и борьбе, к вздохам и смеху, к стыдливости и бесстыдству, он не делал женщине ничего, чего бы та ни пожелала сама, не вы манила бы из него. Вот это-то сразу и чувствовала в нем женщина с умом, это-то и делало его ее любовником.
А он учился. За короткое время он научился не только разнообразным любовным приемам и опыту от своих многочисленных возлюбленных. Он научился также видеть, чувствовать, осязать, обонять женщин во всем их многообразии; он тонко улавливал на слух любой тип голоса и уже научился безошибочно определять у некоторых женщин по его звучанию характер и объем их любовной способности, с неустанным восхищением он рассматривал бесконечное разнообразие в посадке головы, в том. как выделяется лоб из волос, может двигаться коленная чашечка. Он учился отличать в темноте с закрытыми глазами нежными пытливыми пальцами один тип женских волос от другого, один тип кожи, покрытой пушком, от другого. Он начал замечать почти сразу, что, возможно, в этом был смысл его странствия, может, поэтому его влечет от одной женщине к другой, чтобы овладеть этой способностью, узнавать и различать все тоньше, все многообразнее и глубже. Может быть, в этом его предназначение, познавать женщин и любовь на тысячу ладов и в тысячах различий до совершенства, подобно музыканту, владеющему не одним инструментом, а тремя, четырьмя, многими. К чему, правда, все это приведет, он не знал, он только чувствовал, что это его путь. Хотя к латыни и к логике он тоже был способен — к любви же, к игре с женщинами у него была особая, удивительная, редкая одаренность, здесь он учился без устали, ничего не забывая, здесь опыт накапливался и упорядочивался сам собой.
Однажды, пространствовав уже год или два, Гольдмунд попал в усадьбу одного состоятельного рыцаря, у которого было две прекрасных молодых дочери. Было это ранней осенью, ночи скоро уже должны были стать прохладными, в прошлую осень и зиму он испытал, что это значит, не без озабоченности подумывал он о наступающих месяцах, зимой странствовать было трудно. Он попросил поесть и разрешения переночевать. Его приняли учтиво, а когда рыцарь услышал, что он учился и знает греческий, то попросил его пересесть со стола для прислуги за свой стол и обращался с ним почти как с равным. Обе дочери сидели с опущенными глазами, старшей, Лидии, было восемнадцать, младшей, Юлии, шестнадцать.
На другой день Гольдмунд собрался идти дальше. Для него не было надежды завоевать благосклонность одной из двух прелестных белокурых барышень, а других жен-шин, ради которых можно было бы остаться, там не было. Но после завтрака рыцарь отвел его в сторону и провел в комнатку, предназначенную для особых целей. Скромно поведал старый человек юноше о своей любви к учености и книгам, показал ему небольшой ларец, полный рукописей, собранных им, показал конторку, сделанную по его заказу, и запас прекраснейшей бумаги и пергамента. Этот скромный рыцарь, как со временем узнал Гольдмунд, в молодости учился, но потом совершенно отдался военной и мирской жизни, пока во время тяжелой болезни не получил божественного указания совершить паломничество и раскаяться в грешной молодости. Он отправился в Рим, а потом даже в Константинополь. Вернувшись домой, нашел отца умершим, а дом пустым, он остался здесь, женился, потерял жену, воспитал дочерей, а теперь ввиду надвигающейся старости решился вот подробно описать свое тогдашнее паломничество. Он уже написал несколько глав, но — как признался он юноше — в латыни он слаб, и это ему очень мешает. Он предложил Гольдмунду новое платье и кров, если тот исправит и перепишет начисто уже написанное и поможет продолжить эту работу.
Была осень, Гольдмунд знал, что это значит для бродяг. Новое платье тоже было нелишним. Но, прежде всего, юноше нравилась возможность остаться в одном доме с прекрасными сестрами. Он, не раздумывая, согласился.
Вскоре ключнице пришлось открыть сундук, где нашлось прекрасное темное сукно, из которого должны были сшить костюм и головной убор для Гольдмунда. Рыцарь подумал, правда, о черном магистерском платье, но гость не хотел и слышать об этом и сумел уговорить его, и вот получился красивый костюм то ли пажа, то ли охотника, который был ему очень к лицу.
С латынью все тоже шло неплохо. Вместе они просмотрели уже написанное, и Гольдмунд исправил не только многие неточности и неправильности, но и заменил кое-где короткие беспомощные предложения рыцаря красивыми латинскими периодами с солидными конструкциями и правильным согласованием времен. Рыцарь был всем этим весьма доволен и не скупился на похвалы. Каждый день они проводили за этой работой по меньшей мере два часа.
В замке — это был, собственно, немного укрепленный обширный крестьянский двор — Гольдмунду находились дела для времяпрепровождения. Он принимал участие в охоте и научился стрелять из арбалета у охотника Хинрика, подружился с собаками и мог ездить верхом, сколько хотел. Редко он бывал один; то он был с собакой или с лошадью, с которой разговаривал, то с ключницей Леей, толстой старухой с мужским голосом и весьма склонной к шуткам и смеху, то со щенком, то с пастухом. С женой мельника, ближайшего соседа, легко было завести любовную связь, но он сдерживался и разыгрывал невинность.
От обеих дочерей рыцаря он был в восторге. Младшая была красивее, но такая неприступная, что едва говорила с Гольдмундом. Он к обеим относился с величайшей предупредительностью и вежливостью, но обе воспринимали его присутствие как беспрерывное ухаживание. Младшая, из робости упрямая, совершенно замкнулась в себе. Старшая, Лидия, нашла по отношению к нему особый тон, обращаясь с ним полупочтительно, полунасмешливо, как ученый с диковинным животным, задавала множество любопытствующих вопросов, расспрашивала о жизни в монастыре, но постоянно изображала перед ним ироничную и высокомерную даму. Он был согласен на все, обращался с Лидией, как с дамой, с Юлией — как с молодой монахиней, и когда удавалось своим разговором задержать девушек немного дольше обычного за столом после ужина или если во дворе или в саду Лидия обращалась к нему и по обыкновению начинала дразнить, он бывал доволен и считал это за успех., Долго держалась в эту осень листва на высоких ясенях во дворе, долго цвели в саду астры и розы. И вот однажды прибыли гости, сосед по имению с женой и конюхом, соблазнившись погожим днем, отправились на прогулку верхом, загулялись и заехали сюда, попросились переночевать. Их приняли очень учтиво, постель Гольдмунда сразу перенесли из комнаты для гостей в кабинет и устроили все для прибывших, забили птицу и послали на мельницу за рыбой. Гольдмунд с удовольствием принимал участие в праздничной суете и фазу же заметил, что незнакомая дама обратила на него внимание. И едва он заметил по ее голосу и по ее взгляду благосклонность и желание, он с напряженным вниманием заметил также, как изменилась Лидия, как она притихла и замкнулась и начала наблюдать за ним и за дамой. Когда во время праздничной вечерней трапезы нога дамы начала под столом игру с ногой Гольдмунда, его восхитила не только эта игра, но еще больше молчаливое напряжение, с которым Лидия следила за этой игрой горящими от любопытства глазами. Наконец, он нарочно уронил нож. наклонился за ним под стол и коснулся ноги дамы ласкающей рукой, увидел, как Лидия побледнела и закусила губы, и продолжал рассказывать монастырские анекдоты, чувствуя, что незнакомка проникновенно слушает не столько истории, сколько его влекущий голос. Остальные тоже слушали его, его патрон с расположением, гость с неподвижным лицом, но тоже тронутый его воодушевлением. Никогда не слышала Лидия, чтобы он так говорил, он расцвел, наслаждение парило в воздухе, глаза его блестели, в голосе пело счастье, моля о любви. Три женщины чувствовали это, каждая по-своему, маленькая Юлия отвергала с ожесточенным отпором, жена соседа принимала с сияющим удовлетворением, Лидия — с мучительным волнением сердца, соединявшим в себе искреннюю страсть, слабую самозащиту и самую жгучую ревность, что делало ее лицо узким, а глаза горящими. Все эти волны чувствовал Гольдмунд, как тайные ответы на его ухаживания, они потоками возвращались к нему обратно, подобно птицам, летали вокруг него мысли о любви, выражая то готовность отдаться ему, то сопротивление, то борьбу с собой.
После трапезы Юлия удалилась, была уже ночь; со свечой в керамическом подсвечнике уходила она из залы, холодная, как маленькая инокиня. Остальные сидели еще с час, и, пока мужчины говорили об урожае, об императоре и епископе, Лидия слушала, пылая, как между Гольдмундом и дамой велась беседа ни о чем, меж слабых нитей которой, однако, возникала плотная сладостная сеть из взглядов, ударений, маленьких жестов, каждый из которых был переполнен значения, сверх меры согрет теплом. Девушка впитывала атмосферу со сладострастием и отвращением, и, если она видела или чувствовала, как колено Гольдмунда касалось под столом колена женщины, она воспринимала это как прикосновение к собственному телу и вздрагивала. После всего этого она не спала и полночи прислушивалась с колотящимся сердцем, убежденная, что те двое вместе. Она завершила в своем воображении то, в чем тем двоим было отказано, она видела, как они сплелись друг с другом, слышала их поцелуи, дрожа при этом от волнения, боясь и желая одновременно, чтобы обманутый муж застал любовников и всадил противному Гольдмунду нож в сердце.
На другое утро небо хмурилось, поднялся влажный ветер, и гость, отклонив все уговоры остаться дольше, заторопился с отъездом. Лидия стояла тут же, когда гости садились на лошадей, она пожимала руки и говорила слова прощания совершенно машинально, все ее чувства сосредоточились во взгляде, она смотрела, как жен шина, садясь на лошадь, поставила ногу в подставленные ладони Гольдмунда и как он правой рукой на момент крепко сжал ногу женщины.
Гости уехали, Гольдмунд должен был идти в комнату для занятий и работать. Через полчаса он услышал голос Лидии, приказывавший вывести лошадь, хозяин подошел к окну и посмотрел вниз, улыбаясь и качая головой, оба смотрели, как она выехала со двора. Они сегодня мало продвинулись в своих латинских писаниях, Гольдмунд был рассеян, хозяин любезно отпустил его раньше обычного.
Незаметно Гольдмунд вывел свою лошадь со двора и поскакал навстречу прохладно-влажному осеннему ветру по выцветшей местности, все больше набирая скорость, он почувствовал, что лошадь разгорячилась под ним, да и собственная кровь разогрелась. По убранным полям и пашням под паром, по лугу и болоту, заросшему хвощом и осокой, скакал он сквозь серый день, через небольшие ольшаники, через болотистый еловый лес и опять по бурому скошенному лугу.
На высоком гребне холмов обнаружил он, наконец, фигуру Лидии, четко вырисовывавшуюся на бледно-сером облачном небе, она сидела, выпрямившись на медленно трясущей лошади. Он бросился к ней, но, едва заметив преследование, она пришпорила лошадь и помчалась прочь. Она то исчезала, то появлялась вновь с развевающимися волосами. Он преследовал ее как добычу, сердце его смеялось, короткими нежными возгласами он подгонял коня, радостно примечая в скачке ландшафт, притихшие поля, ольховую рощу, группу кленов, глинистый берег небольшого пруда, он не упускал из виду свою цель, прекрасную беглянку. Вскоре он все-таки настиг ее.
Поняв, что он близко, Лидия отказалась от бегства и пустила лошадь шагом. Она не оборачивалась к преследователю. Гордо, с виду равнодушно, продолжала она ехать так. как будто ничего не было, как будто она была одна. Он подъехал к ней вплотную, лошади мирно зашагали рядом, но и животное, и седок были разгорячены погоней.
— Лидия! — позвал он тихо. Она не ответила.
— Лидия! Она молчала.
— Как красиво ты скакала там вдали, Лидия, твои волосы летели за тобой подобно золотой молнии. Это было так прекрасно! Ах, как чудесно, что ты убегала от меня! Только теперь я понял, что ты меня хоть немножко любишь. Я этого не знал, еще вчера вечером был в сомнении. Только сейчас, когда ты пыталась убежать от меня, я вдруг понял. Прекрасная, любимая, ты, должно быть, устала, давай сойдем с лошадей.
Он быстро спрыгнул с лошади и сразу взял ее повод, чтобы она опять не вырвалась. С белым как снег лицом смотрела она на него сверху и, когда он снимал ее с лошади, разразилась рыданиями. Бережно провел он ее несколько шагов, посадил на высохшую траву и встал возле нее на колени. Она сидела, борясь с рыданиями, и наконец поборола их.
— Ах, до чего же ты скверный! — начала она, едва смогла говорить.
— Так уж и скверный?
— Ты соблазнитель женщин, Гольдмунд. Позволь мне забыть, что ты говорил мне только что, это были беззастенчивые слова, тебе не подобает так говорить со мной. Как ты мог подумать, что я люблю тебя? Забудем об этом! Но как мне забыть то, что я видела вчера вечером?
— Вчера вечером? Что же ты такое видела?
— Ах, не притворяйся, не лги! Это было ужасно и бесстыдно, как ты у меня на глазах заискивал перед женщиной! Неужели у тебя нет стыда? Передо мной, перед моими глазами! А теперь, когда та уехала, преследуешь меня! Ты действительно не знаешь, что такое стыд!
Гольдмунд уже давно раскаивался в словах, которые сказал ей, пока еще не снял с лошади. Как это было глупо, слова в любви излишни, ему надо было молчать.
Он больше ничего не сказал. Он стоял на коленях возле нее и она, видя, как он прекрасен и несчастен, заражала его своим страданием; он чувствовал сам, что достоин сожаления. Но, несмотря на все, что она ему сказала, он видел в ее глазах любовь, и боль на ее дрожащих губах тоже была любовь. Он доверял своим глазам больше, чем ее словам. Однако она ждала ответа. Так как его не последовало, губы ее стали еще строже, она посмотрела на него немного заплаканными глазами и повторила:
— У тебя действительно нет стыда?
— Прости, — сказал он смиренно, — мы говорим о вещах, о которых не следовало бы говорить. Это моя вина, прости меня! Ты спрашиваешь, есть ли у меня стыд. Да, стыд у меня, пожалуй, есть. Но ведь я люблю тебя, а любовь не знает ничего постыдного. Не сердись!
Она, казалось, едва слушала. С горькой складкой у рта она сидела и смотрела прямо перед собой вдаль, как будто была совсем рядом. Никогда он не был в таком положении. Это все из-за разговоров.
Нежно положил он лицо на ее колено, и сразу же от этого прикосновения ему стало легко. Но все-таки он был беспомощным и печальным, она тоже казалась все еще печальной, сидела не двигаясь, молчала и смотрела вдаль. Сколько смущения, сколько грусти! Но его прикосновение было принято благосклонно, его не отвергали. С закрытыми глазами лежал он, прильнув к ее колену, чувствуя его благородную, удлиненную форму. Растроганный Гольдмунд подумал, как это колено в его благородной форме соответствовало ее длинным, красивым, немного выпуклым ногтям на руках. Благодарно прижимаясь к колену, он предоставил щеке и губам беседовать с ним.
Вот он почувствовал ее руку, как она осторожно и легко легла на его волосы. Милая рука, он ощущал, как она робко, по-детски гладила его волосы. Ее руку он часто рассматривал и любовался ею, он знал ее почти как свою, длинные стройные пальцы с длинными, красиво выпуклыми, розовыми холмиками ногтей. И вот эти длинные нежные пальцы вели несмелый разговор с его кудрями. Их речь была детской и пугливой, но она была любовью. Он благодарно прильнул головой к ее руке, почувствовал затылком и щекой ее ладонь. Она сказала: «Пора, нам надо ехать». Он поднял голову и посмотрел на нее нежно, ласково поцеловал ее тонкие пальцы.
— Пожалуйста, встань. — Сказала она, — нам нужно домой.
Он фазу же послушался, они встали, сели на лошадей и поскакали.
Сердце Гольдмунда переполнялось счастьем. Как прекрасна была Лидия, как по-детски чиста и нежна! Он еще ни разу не поцеловал ее, а чувствовал себя таким богатым и переполненным ею. Они скакали быстро, и только перед самым домом, непосредственно перед въездом во двор она испуганно сказала: «Нам не следовало бы возвращаться вместе. Какие мы глупые». И в самый последний момент, когда они слезали с лошадей и уже подходил конюх, она быстро и пылко прошептала ему в ухо: «Скажи мне, ты был сегодня ночью у этой женщины?» Он покачал головой несколько раз и начал разнуздывать лошадь.
После полудня, едва отец ушел, она появилась в кабинете.
— И это правда? — сразу спросила она со страстью, и он понял, что она имела в виду.
— Зачем же ты тогда так заигрывал с ней, так отвратительно влюблял ее в себя?
— Это предназначалось тебе, — сказал он. — Верь мне, в тысячу раз охотнее я погладил бы твою ногу, чем ее. Но твоя никогда не приближалась к моей под столом и не спрашивала меня, люблю ли я тебя.
— Ты и вправду любишь меня, Гольдмунд?
— О да!
— Но что же из этого получится?
— Не знаю, Лидия. Да это меня и не беспокоит. Я счастлив любить тебя, а что из этого выйдет, об этом я не думаю. Я рад, когда вижу, как ты скачешь на лошади, и когда слышу твой голос, и когда твои пальцы гладят мои волосы. Я буду рад, если мне можно будет поцеловать тебя.
— Поцеловать можно только свою невесту, Гольдмунд. Ты никогда не думал об этом?
— Нет, об этом я не думал. Да и с какой стати. Ты знаешь так же. как и я, что не можешь быть моей невестой.
— Да, это так. И так как ты не можешь быть моим мужем и навсегда остаться со мной, очень неправильно было бы говорить мне о своей любви. Может, ты думал совратить меня?
— Я ничего не думал, Лидия, я вообще думаю намного меньше, чем ты полагаешь. Я не хочу ничего, кроме того, чтобы ты сама захотела когда-нибудь поцеловать меня. Мы так много разговариваем. Любящие так не делают. Я думаю, что ты меня не любишь.
— Сегодня утром ты говорил обратное.
— А ты сделала обратное.
— Я? Как это?
— Сначала ты от меня ускакала, когда заметила, что я приближаюсь. Тогда я подумал, что ты любишь меня. Потом ты расплакалась, и я подумал, что из-за того, что любишь меня. Потом моя голова лежала на твоем колене, и ты погладила меня, и я подумал, это — любовь. А теперь ты не делаешь ничего, что говорило бы о любви.
— Я не такая, как та женщина, ногу которой ты гладил вчера. Ты, видимо, привык к таким женщинам.
— Нет, слава Богу, ты красивее и изящнее ее.
— Я имею в виду не это.
— О, но это так. Знаешь ли ты, как ты прекрасна?
— У меня есть зеркало.
— Видела ли ты в нем когда-нибудь свой лоб, Лидия? А потом плечи, а потом ногти, а потом колени? И видела ли ты, как все это гармонирует и сочетается друг с другом, как все это имеет одну форму, удлиненную и очень стройную форму? Видела ли ты это?
— Как ты говоришь? Я этого, собственно, никогда не видела, но теперь, когда ты сказал, я знаю, что ты имеешь в виду. Слушай, ты все-таки соблазнитель, ты и сейчас соблазняешь меня, делая тщеславной.
— Жаль, что не угодил тебе. Но зачем мне, собственно, делать тебя тщеславной? Ты красива, и я хотел показать тебе, что благодарен за это. Ты вынуждаешь меня говорить об этом словами, я мог выразить это в тысячу раз лучше без слов. Словами я не могу тебе ничего дать! На словах я не могу ничему научиться у тебя, а ты у меня.
— Чему это я должна учиться у тебя?
— Я у тебя, а ты у меня, Лидия. Но ты ведь не хочешь. Ты желаешь любить того, чьей невестой ты будешь. Он будет смеяться, когда увидит, что ты ничего не умеешь, даже целоваться.
— Так-так. Значит ты хочешь поучить меня целоваться, господин магистр?
Он улыбнулся ей. Хотя ее слова и не понравились ему, но все— таки за ее резким и неестественным умничаньем он ощутил девичество, охваченное сладострастием и в страхе искавшее защиты от него.
Он не отвечал больше. Улыбаясь, он задержал свои глаза на ее беспокойном взгляде и, когда она не без сопротивления отдалась очарованию, медленно приблизил свое лицо к ее, пока их губы не соприкоснулись. Осторожно дотронулся он до ее рта, тот ответил коротким детским поцелуем и открылся как бы в обидном удивлении, когда он его не отпустил. Нежно следовал он за ее отступающими губами, пока они нерешительно не пошли ему навстречу, и он учил зачарованную, как брать и давать в поцелуе, пока она, обессиленная, не прижала свое лицо к его плечу. Он, счастливый, вдыхал запах ее густых белокурых волос, шепча нежные успокаивающие слова и вспоминая в эти моменты о том, как когда-то его, ничего не умевшего ученика, посвящала в эти тайны цыганка Лизе. Как черны были ее волосы, как смугла кожа, как палило солнце и пахла увядшая трава зверобоя! И как же далеко все это, из какой глубины сверкнуло опять. Как быстро все увяло, едва распустившись!
Медленно приходила Лидия в себя, серьезно и удивленно смотрели ее большие любящие глаза с изменившегося лица.
— Позволь мне уйти, Гольдмунд, — сказала она, — я так долго пробыла у тебя. О мой любимый!
Они каждый день тайно виделись наедине, и Гольдмунд совершенно отдался возлюбленной, совершенно счастливый и тронутый этой девичьей любовью. Иной раз она могла целый час просидеть, держа его руки в своих и глядя в его глаза, и попрощаться с детским поцелуем.
В другой целовала самозабвенно и ненасытно, но не терпела никаких прикосновений. Однажды, краснея и преодолевая себя, желая доставить ему радость, она обнажила одну грудь, робко достав белый плод из платья; когда он, стоя на коленях, целовал ее, она тщательно прикрыла ее, все еще краснея до шеи. Они разговаривали так же, но по-новому, не так, как первые дни; они изобретали друг для друга имена, она охотно рассказывала ему о своем детстве, своих мечтах и играх. Часто говорила она и о том, что их любовь запретна, потому что он не может жениться на ней; печально и обреченно говорила она об этом, украшая свою любовь этой тайной печалью, как черной фатой.
В первый раз Гольдмунд чувствовал, что женщина его не только желает, но и любит.
Как-то Лидия сказала: «Ты так красив и выглядишь таким радостным. Но в глубине твоих глаз нет радости, там только печаль, как будто твои глаза знают, что счастья нет и все прекрасное и любимое недолго будет с нами. У тебя самые красивые глаза, какие могут быть и самые печальные. Мне кажется, это из-за того, что ты бездомный. Ты пришел ко мне из леса и когда-нибудь опять уйдешь странствовать. А где же моя родина? Когда ты уйдешь, у меня, правда, останутся отец и сестра, будет комната и окно, у которого я буду сидеть и думать о тебе, но родины больше не будет».
Он не мешал ей говорить, иногда посмеивался, иногда огорчался. Словами он никогда не утешал ее, только тихо поглаживал ее голову, положенную ему на грудь, тихо напевая что-то волшебно-бессмысленное, как няня утешает ребенка, когда тот плачет. Однажды Лидия сказала: «Я хотела бы знать, Гольдмунд, что же из тебя выйдет, я часто думаю об этом. У тебя будет не обычная жизнь и не легкая. Ах, как я хочу, чтобы у тебя все было хорошо! Иногда мне кажется, ты должен стать поэтом, который может прекрасно выразить свои видения и мечты. Ах, ты будешь бродить по всему свету, и все женщины будут любить тебя, и все-таки ты будешь одинок. Иди лучше обратно в монастырь к своему другу, о котором ты мне столько рассказывал! Я буду за тебя молиться, чтобы ты не умер один в лесу».
Так могла она говорить совершенно серьезно, с отчаянием в глазах. Но потом могла опять, смеясь, скакать с ним по полям или загадывать шутливые загадки и кидать в него увядшей листвой и спелыми желудями.
Как-то Гольдмунд лежал в своей комнате в постели в ожидании сна. На сердце у него было тягостно, оно билось тяжело и сильно в груди, переполненное любовью, переполненное печалью и беспомощностью. Он слушал, как на крыше громыхает ноябрьский ветер; у него вошло в привычку какое-то время перед сном вот так лежать в ожидании сна. Тихо повторял он про себя по обыкновению песнь Марии:
- Все прекрасно в тебе, Мария,
- И позора изначального нет в тебе,
- Ты радость Израиля,
- Заступница грешных!
Нежной своей мелодичностью песня проникла в его душу, но одновременно снаружи запел ветер, запел о беспокойности и странствии, о лесе, осени, бездомной жизни. Он думал о Лидии, о Нарциссе и о своей матери, сердце его было полно тяжелого беспокойства.
Тут он вздрогнул от неожиданности, не веря своим глазам, увидел, что дверь открылась, в темноте в длинной белой рубашке, босиком, не говоря ни слова, вошла Лидия, осторожно закрыла дверь и села к нему на постель.
— Лидия, — прошептал он, — моя лань пугливая, мой белый цветок! Лидия, что ты делаешь?
— Я пришла к тебе, — сказала она, — только на минутку. Мне хотелось посмотреть хоть разок, как мой Гольдмунд спит, мое золотое сердце.
Она легла к нему, тихо лежали они с сильно бьющимися сердцами. Она позволила ему целовать себя, она позволила его волшебным рукам поиграть со своим телом, не больше. Через какое-то время она нежно отстранила его руки, поцеловала его глаза, бесшумно встала и исчезла. Дверь скрипнула, в крышу бился ветер, все казалось заколдованным, полным тайны, и тревоги, и обещания, полным угрозы. Гольдмунд не знал, что ему думать, что делать. Когда после короткого беспокойного сна он опять проснулся, подушка была мокрой от слез.
Она пришла через несколько дней опять, дивный белый призрак, и провела у него четверть часа, как в прошлый раз. Лежа в его объятиях, она шептала ему на ухо. многое хотелось ей сказать ему и поведать. С нежностью слушал он ее. — Гольдмунд, — говорила она приглушенным голосом у самой его щеки, — как грустно, что я никогда не смогу принадлежать тебе. Так не может больше продолжаться, наше маленькое счастье, наша маленькая тайна в опасности. У Юлии уже зародилось подозрение, скоро она вынудит меня признаться. Или отец заметит. Если он застанет меня в твоей постели, моя милая золотая птичка, плохо придется твоей Лидии; она будет смотреть заплаканными глазами, как ее любимый висит за окном и качается на ветру. Ах, милый, беги прочь, прямо теперь, пока отец не схватил тебя и не повесил. Однажды я видела повешенного, вора. Я не хочу видеть тебя повешенным, лучше беги и забудь меня; только бы ты не погиб, золотце мое, Гольдмунд, только бы птицы не выклевали твои голубые глаза! Но нет, родной, не уходи, ах, что мне делать, если ты оставишь меня одну.
— Пойдем со мной, Лидия! Бежим вместе, мир велик!
— Это было бы прекрасно, — жаловалась она, — ах, как прекрасно обойти с тобой весь мир! Но я не могу. Я не могу спать в лесу или на соломе и быть бездомной, этого я не могу! Я не могу опозорить отца. Нет, не говори, это не самомнение. Я не могу есть из грязной тарелки или спать в постели прокаженного. Ах, нам запрещено все. что хорошо и прекрасно, мы оба рождены для страдания. Золотце, мой бедный, маленький мальчик, неужели я увижу, как тебя в конце концов повесят. А я, меня запрут, а потом отправят в монастырь. Любимый, ты должен меня оставить и опять спать с цыганками и крестьянками. Ах, уходи, уходи, пока они тебя не схватили! Никогда мы не будем счастливы, никогда!
Он нежно гладил ее колени и, едва коснувшись до ее женского, спросил:
— Радость моя, мы могли бы быть так счастливы! Можно?
Она нехотя, но твердо отвела его руку в сторону, и немного отодвинулась от него.
— Нет, — скачала она, — нет, этого нельзя. Это мне запрещено. Ты, маленький цыган, возможно, этого не поймешь. Я. конечно, поступаю дурно, я плохая, позорю весь дом. Но где-то в глубине души я все-таки еще горжусь, туда не смеет никто входить. Ты не должен этого просить, иначе я никогда не приду больше к тебе в комнату.
Никогда бы он не нарушил ее запрета, ее желания, ее намека. Он сам удивлялся, какую власть над ним имела она. Но он страдал. Его чувства оставались неутоленными, и душа часто противилась зависимости. Иногда ему стоило труда освободиться от этого. Иногда он начинал с подчеркнутой любезностью ухаживать за маленькой Юлией, тем более что это было еще и весьма необходимо, нужно было оставаться в добрых отношениях с такой важной особой и как-то ее обманывать. Странно все было у него с Юлией, которая казалась то совсем ребенком, то всезнающей. Она несомненно была красивее Лидии, она была необыкновенной красавицей, и это в сочетании с ее несколько наставительной детской наивностью очень привлекало Гольдмунда; он часто бывал просто влюблен в Юлию. Именно по этому сильному влечению, которое оказывала на его чувства сестра, он с удивлением узнавал различие между желанием и любовью. Сначала он смотрел на обеих сестер одинаково, обе были желанны, но Юлия красивее и соблазнительнее, он ухаживал за обеими без различия и постоянно следил за обеими. А теперь Лидия приобрела такую власть над ним! Теперь он так любил ее, что из любви отказывался от полного обладания ею. Он узнал и полюбил ее душу, ее детскость, нежность и склонность к печали казались похожими на его собственные, часто он бывал глубоко удивлен и восхищен тем, насколько ее душа соответствовала ее телу, она могла что-то делать, говорить, выразить желание или суждение, и ее слова и состояние души сердить и обижать Юлию; ах, каждый день могла раскрыться тайна ее любви и кончиться ее тревожное счастье, и, может быть, страшным образом.
Иногда Гольдмунд удивлялся себе, что давно не покончил со всем этим и не ушел отсюда. Трудно было так жить, как он теперь жил: любить, но без надежды ни на дозволенное и длительное счастье, ни на легкое удовлетворение своих любовных желаний, к какому он привык до сих пор; с вечно возбужденными и неудовлетворенными влечениями, при этом в постоянной опасности. Почему он оставался здесь и выносил все это, все эти осложнения и запутанные чувства? Ведь все эти переживания, чувства и угрызения совести для тех. кто законно сидит в этом доме. Разве нет у него права бездомного и непритязательного уклониться от всех этих нежностей и сложностей и посмеяться над ними? Да, это право у него было, и он дурак, что искал здесь что-то вроде родного очага и платил за это болью и затруднениями. И все-таки он делал это и страдал, страдал охотно, был втайне счастлив. Это было глупо и трудно, сложно и утомительно, любить таким образом, но это было чудесно. Удивительна была темная печаль этой любви, ее глупость и безнадежность; прекрасны были эти заполненные думами ночи без сна, прекрасны и восхитительны были и отпечаток страдания на губах Лидии, и безнадежный и отрешенный звук ее голоса, когда она говорила об их любви и своих заботах. Отпечаток страдания на юном лице Лидии появился всего несколько недель тому назад, да так и остался, именно его выражение ему так хотелось зарисовать пером, и он почувствовал, что в эти несколько недель и сам он изменился и стал намного старше, не умнее и все-таки опытнее, не счастливее и все носили отпечаток совершенно той же формы, что и разрез глаз, и форма пальцев.
В эти моменты, когда он, казалось, видел эти основные формы и законы, по которым формировалась ее сущность, душа и тело, у Гольдмунда возникало желание задержать что-то из того образа, повторить его, и на нескольких листках, хранимых в полной тайне, он сделал попытки нарисовать по памяти пером силуэт ее головы, линию бровей, ее руку, колено.
С Юлией все стало как-то непросто. Она явно чувствовала волны любви, в которых купалась старшая сестра, и она, полная страстного любопытства, стремилась к этому раю вопреки своенравному рассудку. Она выказывала Гольдмунду преувеличенную холодность и нерасположение, а забывшись, смотрела на него с восхищением и жадным любопытством. С Лидией она часто бывала очень нежной, иногда забиралась к ней в постель, со скрытой жадностью вдыхала атмосферу любви и пола, нарочно гладила запретное тайное местечко. Потом опять в почти оскорбительной форме давала понять, что знает проступок Лидии и презирает его. Дразня и мешая, металось прелестное и капризное дитя между двумя любящими, смакуя в мечтах их тайну, то разыгрывая из себя ничего не подозревающую, то обнаруживая опасное соучастие; скоро из ребенка она превратилась в тирана. Лидия страдала от этого больше, чем Гольдмунд, который, кроме как за столом, редко виделся с младшей. От Лидии не укрылось также, что Гольдмунд был небезучастен к прелести Юлии, иногда она видела, что его признательный взгляд с наслаждением останавливается на ней. Она не смела ничего сказать, все было так сложно, все так полно опасностей, в особенности нельзя было таки намного более зрелым и богатым в душе. Он уже был не мальчик.
Своим нежным, безнадежным голосом Лидия говорила ему:
— Ты не должен быть печальным из-за меня, я хотела бы тебя только радовать и видеть счастливым. Прости, что я сделала тебя печальным, заразила своим страхом и унынием. Я вижу по ночам такие странные сны: я иду по пустыне, такой огромной и темной, прямо не знаю как сказать, я иду, иду и ищу тебя, а тебя все нет, и я знаю, я тебя потеряла и должна буду всегда, всегда вот так идти, совсем одна. Потом, проснувшись, я думаю. «О, как хорошо, как великолепно, что он еще здесь, и я его увижу, может, еще неделю или хоть день, но он еще здесь!»
Однажды Гольдмунд проснулся, едва забрезжил день, и какое— то время лежал в постели в раздумье, окруженный картинами сна, но без связи. Он видел во сне свою мать и Нарцисса, обоих он еще отчетливо видел. Освободившись от нитей сна, он обратил внимание на своеобразный свет, проникающий сегодня в маленькое окно. Он вскочил и подбежал к окну, карниз, крыша конюшни, ворота и все, что было видно за окном, мерцало голубовато-белым светом, покрытое первым зимним снегом. Противоположность между беспокойством его сердца и спокойным безропотным зимним миром поразила его. как спокойно, как трогательно и кротко отдавались пашня и лес, холмы и рощи солнцу, ветру, дождю, засухе, снегу, как красиво с нежным страданием несли свое земное бремя клены и осины! Нельзя ли быть, как они, нельзя ли у них поучиться? В задумчивости он вышел во двор, походил по снегу и потрогал его руками, заглянул в сад, и за высоко занесенным забором увидел пригнувшиеся от снега кусты роз.
На завтрак ели мучной суп, все говорили о первом снеге, все барышни в том числе — уже побывали на улице. Снег в этом году выпал поздно, уже приближалось Рождество. Рыцарь рассказал о южных странах, где не бывает снега. Но то, что сделало этот первый зимний день незабываемым для Гольдмунда, случилось, когда была глубокая ночь.
Сестры сегодня поссорились, этого Гольдмунд не знал. Ночью, когда в доме стало тихо и темно, Лидия пришла к нему, как обычно, она молча легла рядом, положила голову ему на грудь, чтобы слушать, как бьется его сердце, и утешаться его присутствием. Она была расстроена и боялась, что Юлия выдаст ее, но не решалась говорить об этом с любимым и беспокоить его. Так она лежала у его сердца, слушая его ласковый шепот и чувствовала его руку на своих волосах.
Но вдруг — она совсем недолго лежала так — она страшно испугалась и приподнялась с широко открытыми глазами. И Гольдмунд испугался не меньше, когда увидел, что дверь открылась и в комнату вошла какая-то фигура, которую он в страхе не сразу узнал. Только когда она подошла вплотную к кровати и наклонилась над ней, он с замершим сердцем увидел, что это Юлия. Она выскользнула из плаща, накинутого прямо на рубашку, сбросив плащ на пол. С криком боли, как будто получив удар ножом, Лидия упала назад, цепляясь за Гольдмунда. Презрительным и злорадным тоном, но все-таки неуверенным голосом Юлия сказала. «Я не хочу лежать одна в комнате. Или вы возьмете меня к себе, и мы будем лежать втроем, или я пойду и разбужу отца».
— Конечно, иди сюда, — сказал Гольдмунд, откинув одеяло. — У тебя же ноги замерзнут.
Она взобралась, и он с трудом дал ей место на узкой постели, потому что Лидия неподвижно лежала, спрятав лицо в подушку. Наконец, они улеглись втроем, девушки по обеим сторонам Гольдмунда, и на какой-то момент он не мог отделаться от мысли, что еще недавно это положение отвечало бы всем его желаниям. Со странным смущением и все-таки втайне восхищенно он чувствовал бедро Юлии со своей стороны.
— Нужно же мне было посмотреть, — начала она опять, — как лежится в твоей постели, которую сестра так охотно посещает.
Гольдмунд, чтобы успокоить ее, слегка потерся щекой о ее волосы, а рукой погладил бедра и колени, как ласкают кошку, она отдавалась молча и с любопытством его прикосновениям, смутно чувствуя очарование, не оказывая сопротивления. Но во время этого укрощения он одновременно не забывал и Лидию, нашептывая ей на ухо слова любви и постепенно заставив ее хотя бы поднять лицо и повернуться к нему. Без слов целовал он ее рот и глаза, в то время как его рука очаровывала сестру, неловкость и странность всего положения становились невыносимыми его сознанию. В то время как его рука знакомилась с прекрасным, застывшим в ожидании телом Юлии, он впервые понял не только красоту и глубокую безнадежность своей любви к Лидии, но и ее смехотворность. Нужно было, так казалось ему теперь, когда губы его касались Лидии, а рука Юлии, нужно было или заставить Лидию отдаться, или идти своей дорогой дальше. Любить ее и отказываться от нее было бессмысленно и неправильно.
— Сердце мое, — прошептал он Лидии на ухо, — мы напрасно страдаем, как счастливы могли бы мы быть все втроем! Позволь нам сделать то, что требует наша кровь!
Так как она в ужасе отшатнулась, его страсть бросилась к другой, и он сделал ей так приятно, что она ответила долгим сладострастным вздохом.
Когда Лидия услышала этот вздох, ревность сжала ее сердце, как будто в него влили яд. Она неожиданно села, сорвала одеяло с постели, вскочила на ноги и крикнула.
— Юлия, пошли!
Юлия вздрогнула, уже необдуманная сила этого крика, который мог всех выдать, говорила ей об опасности, и она молча поднялась.
А Гольдмунд, все чувства которого были оскорблены и обмануты, быстро обнял встающую Юлию, поцеловал ее в обе груди и прошептал ей горячо на ухо:
— Завтра, Юлия, завтра!
Лидия стояла в рубашке и босиком, на каменном полу пальцы сжимались от холода. Она подняла плащ Юлии, набросила его на нее жестом страдания и смирения, который даже в темноте не ускользнул от той, тронув ее и примирив. Тихо выскользнули сестры из его комнаты. Полный противоречивых чувств, Гольдмунд прислушивался, затаив дыхание, пока в доме не стало совершенно тихо.
Так из неестественного положения втроем молодые люди оказались в одиночестве, потому что и сестры, добравшись до своей спальни, тоже не стали разговаривать, а лежали одиноко, молча и упрямо каждая в своей постели без сна. Какой-то дух несчастья и противоречия, демон бессмысленности, отчуждения и душевного смятения, казалось, овладел домом. Лишь после полуночи заснул Гольдмунд, лишь под утро — Юлия, Лидия лежала без сна, измученная, пока не наступил бледный день. Она сразу же поднялась, оделась, долго стояла на коленях перед маленьким деревянным распятием и молилась, а как только услышала на лестнице шаги отца, вышла и попросила его выслушать ее. Не пытаясь различать между заботою о девичьей чести Юлии и своей ревностью, она решилась покончить с этим делом. Гольдмунд и Юлия еще спали, когда рыцарь уже знал все, что Лидия сочла нужным ему сообщить. Об участии Юлии в происшествии она умолчала.
Когда Гольдмунд в привычное время появился в кабинете, то увидел рыцаря не в домашних туфлях и сюртуке из толстого сукна, как он имел обыкновение заниматься своими записями, а в сапогах, камзоле, с мечом на поясе и фазу понял, что это значит.
— Надень шапку, — сказал рыцарь, — нам надо пройтись.
Гольдмунд снял шапку с гвоздя и последовал за рыцарем вниз по лестнице, через двор, за ворота. Под ногами поскрипывал чуть подмерзший снег, на небе была еще утренняя заря. Рыцарь молча шел впереди, юноша следовал за ним, несколько раз оглянулся на двор, на окно своей комнаты, на заснеженную остроконечную крышу, пока все не осталось позади и ничего уже не было видно. Никогда больше он не увидит ни эту крышу, ни окна, ни кабинет, ни спальню, ни сестер. Давно уже освоился он с мыслью о внезапном уходе, однако сердце его больно сжалось. Очень горестно было ему это прощание.
Уже час шли они так, господин впереди, оба не говорили ни слова. Гольдмунд начал раздумывать о своей судьбе. Рыцарь был вооружен, может быть, он хочет его убить. Но в это ему не верилось. Опасность была невелика, стоило ему побежать, и старик с его мечом ничего не смог бы ему сделать. Нет, жизнь его не была в опасности. Но это молчаливое шагание вслед за оскорбленным человеком, это безмолвное выпроваживание становилось ему с каждым шагом все мучительнее.
— Дальше пойдешь один, — сказал он надтреснутым голосом, — все время в этом направлении и продолжай вести бродячую жизнь, к которой привык. Если когда-нибудь покажешься вблизи моего дома, пристрелю. Мстить не буду; сам должен быть умнее и не брать молодого человека в дом, где две дочери. Но если рискнешь вернуться, твоя жизнь кончена. Теперь иди, да простит тебя Бог!
Он остался стоять, в тусклом свете зимнего утра его лицо с седой бородой казалось мертвенным. Как призрак стоял он, не двигаясь с места, пока Гольдмунд не исчез за следующем гребнем холмов. Красноватое мерцание на облачном небе пропало, солнце так и не появилось, начали медленно падать редкие робкие снежинки.
Глава девятая
По некоторым прогулкам верхом Гольдмунд знал местность, по ту сторону замерзшего болота будет сарай рыцаря, а дальше крестьянский двор, где его знали; в одном из этих мест можно отдохнуть и переночевать. А там видно будет. Постепенно к нему вернулось чувство свободы и неизвестности, от которых он на какое-то время отвык. В этот ледяной угрюмый зимний день она, неизвестность, не очень-то улыбалась, уж больно пахла она заботами, голодом и неустроенностью, и все-таки ее даль, ее величие, ее суровая неизбежность успокаивали и почти утешали его смущенное сердце.
Он устал идти. С прогулками верхом теперь кончено, подумал он. О далекий мир! Снег шел слегка, вдали стена леса и серые облака сливались друг с другом, царила бесконечная тишина, до конца мира. Что-то было теперь с Лидией, бедным пугливым сердцем? Ему было безмерно жаль ее. с нежностью думал он о ней, сидя под одиноким голым ясенем среди пустого болота и отдыхая. Наконец холод пробрал его, он встал на одеревеневшие ноги и зашагал, постепенно набирая скорость, скудный свет пасмурного дня уже, казалось, начинал убывать. Пока он шагал по пустынной равнине, мысли оставили его. Теперь не время размышлять и лелеять чувства, как они ни нежны и прекрасны, нужно вовремя добраться до ночлега, нужно, подобно кунице или лисе, выжить в этом холодном, неуютном мире и, уж во всяком случае, погибать не здесь в открытом поле, все остальное неважно.
Он удивленно огляделся вокруг, ему показалось, что вдалеке слышен стук копыт. Может, его преследуют? Он схватился за маленький охотничий нож в кармане и вынул его из деревянных ножен Вот он уже видел всадника и узнал издалека лошадь из конюшни рыцаря, она настойчиво приближалась к нему. Бежать было бесполезно, он остановился и ждал, даже, собственно, без страха, но очень напряженно и с любопытством, с учащенно бившимся сердцем. На какой-то момент в голове мелькнуло «Если бы удалось прикончить этого всадника, как было бы хорошо, у меня была бы лошадь и весь мир передо мной». Но когда он узнал всадника, молодого конюха Ганса, с его светло-голубыми водянистыми глазами и добрым смущенным мальчишеским лицом, он рассмеялся, убить этого милого доброго парнишку, для этого надо иметь каменное сердце. Он приветливо поздоровался с Гансом и ласково поприветствовал рысака Ганнибала, погладив по теплой влажной шее, тот сразу узнал его.
— Куда это ты направляешься, Ганс? — спросил он.
— К тебе, — засмеялся парнишка в ответ, сверкая зубами. — Ты изрядно пробежался! Останавливаться мне ни к чему, я должен только передать тебе привет и вот это.
— От кого же привет?
— От барышни Лидии. Ну и заварил же ты кашу, магистр Гольдмунд, я-то рад немного проветриться, хотя хозяин не знает, что я уехал с таким поручением, иначе мне несдобровать. Вот бери.
Он протянул ему небольшой сверток, Гольдмунд взял его.
— Скажи, Ганс, нет ли у тебя в кармане хлеба? Дай мне.
— Хлеба? Найдется корка, пожалуй. — Он пошарил в кармане и достал кусок черного хлеба. Он собрался уезжать.
— А что делает барышня? — спросил Гольдмунд. — Она ничего не просила передать? Нет ли письмеца?
— Ничего. Я видел-то ее всего одну минуту. В доме ведь гроза, знаешь ли; хозяин бегает туда-сюда, как царь Саул. Я должен был отдать только сверток, больше ничего. Ну, мне пора.
— Да, еще минутку! Ганс, не мог бы ты уступить мне свой охотничий нож? У меня есть, только маленький. В случае, если волки придут, да и так — лучше иметь кое-что надежное в руке.
Но об этом Ганс не хотел и слышать. Очень жаль, сказал он. если с магистром Гольдмундом что-нибудь случится. Но свой нож, нет, он никогда не отдаст ни за какие деньги, ни в обмен, о нет. даже если бы об этом просила сама святая Женевьева. Вот так, ну а теперь ему нужно спешить, он желает всего доброго и ему очень жаль.
Они потрясли друг другу руки, парнишка ускакал, особенно грустно смотрел Гольдмунд ему вслед. Потом он распаковал сверток, порадовавшись добротному ремню из телячьей кожи, которым он был перетянут. Внутри была вязаная нижняя фуфайка из толстой серой шерсти, явно сделанная Лидией и предназначавшаяся для него, а в фуфайке было еще что-то твердое, хорошо завернутое, это оказался кусок окорока, а в окороке была сделана прорезь, и из нее виднелся, сверкая, золотой дукат. Письма не было. С подарками от Лидии в руках стоял он в снегу, нерешительный, потом снял куртку и быстро надел шерстяную фуфайку, сразу стало приятно тепло. Быстро оделся, спрятал золотой в самый надежный карман, затянул ремень и отправился дальше через поле, пора было искать место для отдыха, он очень устал. Но к крестьянину ему не хотелось, хотя там было теплее, пожалуй, нашлось бы и молоко; ему не хотелось болтать и отвечать на расспросы. Он переночевал в са рае, рано отправился дальше, был мороз и резкий ветер, вынуждавший делать большие переходы. Много ночей видел он во сне рыцаря и его меч и двух сестер, много дней угнетало его одиночество и уныние.
В одной деревне, где у бедных крестьян не было хлеба, но был пшенный суп, нашел ой в один из следующих вечеров ночлег. Новые переживания ожидали его здесь. У крестьянки, гостем которой он был, ночью начались роды, и Гольдмунд присутствовал при этом, его подняли с соломы, чтобы он помог, хотя в конце концов дела для него не нашлось, он только держал светильню, пока повивальная бабка делала свое дело. В первый раз видел он роды и, не отрываясь, смотрел удивленными, горящими глазами на лицо роженицы, неожиданным образом обогатившись новым переживанием. Во всяком случае, то, что он увидел в лице роженицы, показалось ему достойным внимания. При свете сосновой лучины с большим любопытством всматриваясь в лицо мучающейся родами женщины, он заметил нечто неожиданное: линии искаженного лица немногим отличались от тех, что он видел в момент любовного экстаза на других женских лицах! Выражение сильной боли было, правда, явнее и больше искажало черты лица, чем выражение сильного желания, но в основе не отличалось от него, это была та же оскаленная сосредоточенность, те же вспышки и угасания. Удивительно, не понимая, почему так происходит, он был поражен тем, что боль и желание могут быть похожи друг — друга как родные.
И еще кое-что пережил он в этой деревне, Из-за соседки, которую он заметил утром после ночи с родами и которая на вопрошание его влюбленных глаз сразу ответила согласием, он остался в деревне на вторую ночь и осчастливил женщину, так как впервые после всех возбуждений и разочарований последних недель мог удовлетворить свой пыл. А эта задержка привела его к новому происшествию; из-за нее на второй день на этом же крестьянском дворе он встретил товарища, длинного отчаянного парня по имени Виктор, выглядевшего наполовину попом, наполовину разбойником, который приветствовал его обрывками латыни, выдавая себя за странствующего студента, хотя он давно вышел из этого возраста.
Этот человек с острой бородкой приветствовал Гольдмунда с определенной сердечностью и юмором бродяги, чем быстро завоевал расположение молодого товарища. На его вопрос, где тот учился и куда держит путь, странный брат напыщенно ответил.
— Высших школ моя бедная душа нагляделась вдосталь, я бывал в Кельне и Париже, а о метафизике ливерной колбасы редко говорилось столь содержательно, как это сделал я, защищая диссертацию в Лейдене. С тех пор. дружок, я. бедная собака, бегаю по Германской империи, терзая любезную душу непомерным голодом и жаждой, меня зовут грозой крестьян, и профессия моя — наставлять молодых женщин в латыни и покалывать фокусы, как колбаса через дымоход попадает ко мне в живот. Цель моя — попасть в постель к бургомистерше, и если меня не склюют к тому времени вороны, то мне не останется ничего иного, как посвятить себя обременительной профессии епископа. Живу, дорогой коллега, перебиваясь с хлеба на квас, и поэтому никогда еще рагу из зайца не чувствовало себя столь хорошо, как в моем бедном желудке Король Богемии — мой брат, и Отец наш питает его. как и меня, но самое лучшее он предоставляет доставать мне самому, а позавчера он, жестокосердый, как все отцы, позволил употребить меня на то, чтобы я спас от голодной смерти волка. Если бы я не прикончил эту скотину, господин коллега, ты никогда не удостоился бы чести заключить со мной сегодня столь приятное знакомство. Во веки веков, аминь.
Гольдмунд, еще мало знакомый с горьким юмором и латынью этого жанра, правда, немного испугался взъерошенного нахала и его мало приятного смеха, которым тот сопровождал собственные шутки; но что-то все-таки понравилось ему в этом закоренелом бродяге, и он легко дал себя уговорить продолжать дальнейший путь вместе, возможно, с убитым волком он и прихвастнул, а может, и нет, во всяком случае, вдвоем они будут сильнее, да и не так страшно. Но, прежде чем они двинулись дальше. Виктор хотел поговорить с крестьянами на латыни, как он это называл, и расположился у одного крестьянина. Он делал не так, как Гольдмунд, когда бывал гостем на хуторе или в деревне, он ходил от хижины к хижине, заводил с каждой женщиной болтовню, совал нос в каждую конюшню и каждую кухню и, казалось, не собирался покидать деревушку, пока каждый дом не давал ему что-нибудь в дань. Он рассказывал крестьянам о войне в чужих странах и пел у очага песни о битве при Павии, бабушкам он рекомендовал средства от ломоты в костях и выпадения зубов, качалось, он все знает и везде побывал, он набивал рубаху под поясом до отказа кусками хлеба, орехами, сушеными грушами. С удивлением наблюдал Гольдмунд, как тот неустанно проводил свою линию, то запугивая, то льстя, как он важничал и удивлял, говоря то на исковерканной латыни, разыгрывая ученого, то на нахальном воровском жаргоне, замечая острыми, внимательными глазками во время рассказов и монологов каждое лицо, каждый открытый ящик стола, каждую миску и каждый каравай. Он видел, что это был пронырливый бездомный человек, тертый калач, который много повидал и пережил, много голодал и холодал и в борьбе за скудную жалкую жизнь стал смышленым и нахальным. Так вот какие они, страннички! Неужели и он станет когда-нибудь таким?
На другой день они отправились дальше, в первый раз Гольдмунд попробовал идти вдвоем. Три дня они были в пути, и Гольдмунд научился у Виктора кое-чему. Ставшая инстинктом привычка все соотносить с тремя главными потребностями бездомного, безопасностью для жизни, ночлегом и пропитанием, многому научила странствовавшего так долго. По малейшим признакам узнавать близость человеческого жилья, даже зимой, даже ночью или тщательного проверят! каждый уголок в лесу или в поле на его пригодность для отдыха или ночлега, или при входе в комнату в один момент определять степень благосостояния, в которой живет хозяин, а также степень его добросердечия, любопытства и страха — вот это было искусство, которым Виктор владел мастерски. Что-то поучительное он рассказывал молодому товарищу Гольдмунд как-то возразил ему, что неприятно подходить к людям с такими рассуждениями, что он, не зная всех этих ухищрений, на свою просто просьбу лишь в редких случаях получал отказ в гостеприимстве, длинный Виктор засмеялся и сказал добродушно. «Ну, конечно. Гольдмунд. тебе, должно быть, везло, ты так молод и хорош собой, да и выглядишь так невинно, это уже рекомендация на постой. Женщинам ты нравишься, а мужчины думают: „Бог мой, да он безобидный, никому не причинит зла“. Но видишь ли, братец, человек становиться старше, и на детском лице вырастает борода и появляются морщины, а на штанах — дыры, и незаметно становишься отталкивающим и нежелательным гостем, а вместо юности и невинности из глаз смотрит только голод, вот тогда— то человеку и приходится становиться твердым и кое-чему научиться в мире, иначе быстренько окажешься на свалке, и собаки будут на тебя мочиться. По мне кажется, ты и без того не будешь долго бродяжничать, у тебя слишком тонкие руки, слишком красивые локоны, ты опять заберешься куда-нибудь, где живется получше, в хорошенькую теплую супружескую постель, или в хорошенький сытый монастырек, или в прекрасно натопленный кабинет. У тебя и платье хорошее, тебя можно принять за молодого барчука».
Все еще смеясь, он быстро провел рукой по платью Гольдмунда, и тот почувствовал, как рука ищет и ощупывает все карманы и швы; он отстранился и вспомнил о своем дукате. Он рассказывал о своем пребывании у рыцаря и как заработал себе хорошее платье знанием латыни. Но Виктор хотел знать, почему он среди суровой зимы покинул такое теплое гнездышко, и Гольдмунд, не привыкший лгать, рассказал ему кое-что о двух дочерях рыцаря. Тут между товарищами возник первый спор Виктор считал, что Гольдмунд беспримерный осел, коли просто так ушел из замка, предоставив девицу Господу Богу. Это следует поправить, уж он-то придумает как. Они наведаются в замок, конечно, Гольдмунду нельзя там показываться, но тот может во всем положиться на него. Он напишет Лидии письмецо, так, мол. и так, и с ним явится в замок он, Виктор, и уж, видит Бог, не уйдет, не прихватив всего того и сего, деньжат и добра. И так далее. Гольдмунд резко возражал и вспылил; он не хотел и слышать об этом и отказался назвать имя рыцаря и дорогу к нему. Виктор, видя его гнев, опять засмеялся, разыгрывая добродушие. «Ну, ну, — сказал он. — не лезь на рожон! Я только говорю, ты упускаешь хорошую возможность поживиться, мой милый, а это не очень-то приятно и не по— товарищески. Но ты, разумеется, не хочешь, ты благородный господин, вернешься в замок на коне и женишься на девице! Сколько же благородных глупостей в твоей голове! Ну да как знаешь, отправимся-ка дальше, померзнем».
Гольдмунд был не в настроении и молчал до вечера, но так как в этот день они не встретили ни жилья, ни каких-либо следов человека, он был очень благодарен Виктору, который нашел место для ночлега, между-двух стволов на опушке леса сделал укрытие и ложе из еловых веток. Они поели хлеба и сыра из запасов Виктора, Гольдмунд стыдился своего гнева, с готовностью помогал во всем, и даже предложил товарищу шерстяную фуфайку на ночь, они решили дежурить по очереди из-за зверей, и Гольдмунд дежурил первым, в то время как другой улегся на еловые ветви. Долгое время Гольдмунд стоял спокойно, прислонившись к стволу ели, чтобы дать другому заснуть. Потом он стал ходить взад и вперед, так как замерз. Он бегал туда и сюда, все увеличивая расстояние, глядя на вершины елей, остро торчавшие в холодном небе, слушая глубокую тишину зимней ночи, торжественную и немного пугающую, чувствовал свое бедное живое сердце, одиноко бившееся в холодной безответной тишине, и прислушивался, осторожно возвращаясь к дыханию спящего товарища. Его пронизывало сильнее, чем когда-либо, чувство бездомного, не сумевшего спрятаться от этого великого страха ни за стенами дома, ни в замке, ни в монастыре, вот сирый и одинокий бежит он через непостижимый, враждебный мир, один среди холодных насмешливых звезд, подстерегающих зверей, терпеливых непоколебимых деревьев.
Нет. думал он, он никогда не станет таким, как Виктор, даже если будет странствовать всю жизнь. Эту манеру защищаться от страха он никогда не усвоит, не научится хитрому воровскому выслеживанию добычи и громогласным дерзким дурачествам, многословному юмору мрачного бахвала. Возможно, этот умный дерзкий человек прав. Гольдмунд никогда не станет во всем походить на него, никогда не будет совсем бродягой, а однажды спрячется за какой-нибудь стеной. Но бездомным и бесцельным он все равно останется, никогда не будет чувствовать себя действительно защищенным и в безопасности, его всегда будет окружать мир загадочно прекрасный и загадочно тревожный, он всегда будет прислушиваться к этой тишине, среди которой бьющееся сердце кажется таким робким и бренным. Виднелось несколько звезд, было безветренно, но в вышине, казалось, двигались облака.
Долгое время спустя Виктор проснулся — Гольдмунд не хотел будить его — и позвал:
— Иди-ка, — кричал он, — теперь тебе надо поспать, а то завтра ни на что не будешь годен.
Гольдмунд послушался, он лег на ветки и закрыл глаза. Он достаточно устал, но ему не спалось, мысли не давали уснуть, а кроме мыслей, чувство, в котором он сам себе не признавался, чувство тревоги и недоверия к своему товарищу. Теперь ему было непостижимо, как он мог рассказать этому грубому, громко смеющемуся человеку, острослову и наглому нищему, о Лидии! Он был зол на него и на самого себя и озабоченно размышлял, как бы получше от него отделаться.
Но он, должно быть, все-таки погрузился в полусон, потому что испугался и был поражен, когда почувствовал, что руки Виктора осторожно ощупывают его платье. В одном кармане у него был нож, в другом — дукат то и другое Виктор непременно украл бы, если бы нашел.
Он притворился спящим, повернулся туда-сюда как бы во сне, пошевелил руками, и Виктор отполз назад. Гольдмунд очень разозлился на него, он решил завтра же расстаться с ним.
Но когда через какой-нибудь час Виктор опять склонился над ним и начал обыскивать, Гольдмунд похолодел от бешенства. Не пошевельнувшись, он открыл глаза и сказал с презрением: «Убирайся, здесь нечего воровать».
Испугавшись крика, вор схватил Гольдмунда руками за горло. Когда же тот стал защищаться и хотел приподняться. Виктор сжал еще крепче и одновременно стал ему коленом на грудь Гольдмунд, чувствуя, что не может больше дышать, рванулся и сделал резкое движение всем телом, а не освободившись, ощутил вдруг смертельный страх, сделавший его умным и сообразительным Он сунул руку в карман, в то время как рука Виктора продолжала сжимать его, достал маленький охотничий нож и воткнул его внезапно и вслепую несколько раз в склонившегося над ним. Через мгновение руки Виктора разжались, появился воздух, глубоко и бурно дыша, Гольдмунд возвращался к жизни. Он попытался встать, длинный приятель со страшным стоном перекатился через него, расслабленный и мягкий, его кровь попала на лицо Гольдмунда. Только теперь он смог подняться, тут он увидел в сером свете ноги упавшего длинного, когда он дотронулся до него, вся рука была в крови Он поднял его голову, тяжело и мягко, как мешок, она упала назад Из груди и горла все еще текла кровь, изо рта вырывались последние вздохи жизни, безумные и слабеющие «Я убил человека», — подумал Гольдмунд и думал об этом все время, пока, стоя на коленях перед умирающим, не увидел, как по его лицу разлилась бледность «Матерь Божья, я убил», — услышал он собственный голос.
Ему вдруг стало невыносимо оставаться здесь. Он взял нож, вытер его о шерстяную фуфайку, надетую на мертвом, связанную Лидией для любимого, убрал нож в деревянный чехол, положил в карман, вскочил и помчался что было сил прочь.
Тяжелым бременем лежала смерть веселого бродяги у него на душе, когда настал день, он с отвращением оттер с себя снегом всю кровь, которую пролил, и еще день и ночь бесцельно блуждал в страхе. Наконец нужды тела заставили его встряхнуться и положить конец исполненному страха раскаянию.
Блуждая по пустынной заснеженной местности без крова, без дороги, без еды и почти, без сна, он попал в крайне бедственное положение, как дикий зверь терзал его тело голод, несколько раз он в изнеможении ложился прямо среди поля, закрывал глаза, желая только заснуть и умереть в снегу. Но что-то снова поднимало его, он отчаянно и жадно цеплялся за жизнь, и в самой горькой нужде пробивалась и опьяняла его безумная сила и буйное нежелание умирать, невероятная сила голого инстинкта жизни. С заснеженного можжевельника он обрывал посиневшими от холода руками маленькие засохшие ягоды и жевал эту хрупкую жалкую пищу, смешанную с еловыми иголками, возбуждающе острую на вкус, утолял жажду пригоршнями снега. Из последних сил дуя в застывшие руки, сидел он на холме, делая короткую передышку, жадно смотря во все стороны, но не видя ничего, кроме пустоши леса, нигде ни следа человека. Над ним летало несколько ворон, зло следил он за ними взглядом. Нет, они не получат его на обед, пока есть остаток сил в его ногах, хотя бы искра тепла в его крови. Он встал, и снова начался неутолимый бег наперегонки со смертью. Он бежал и бежал, в лихорадке изнеможения и последних усилий им овладевали странные мысли, и он вел безумные разговоры, то про себя, то вслух. Он говорил с Виктором, которого заколол, резко и злорадно говорил он с ним: «Ну, ловкач, как поживаешь? Луна просвечивает тебе кишки, лисицы дергают за уши? Говоришь, волка убил? Что ж, ты ему глотку перегрыз или хвост оторвал, а? Хотел украсть мой дукат, старый ворюга? Да не тут-то было, маленький Гольдмунд поймал тебя, так-то, старик, пощекотал я тебе ребра! А у самого еще полны карманы хлеба и колбасы, и сыра, эх ты. свинья, обжора!» Подобные речи выкрикивал он, ругая убитого, торжествуя над ним, высмеивая его за то, что тот дал себя убить, рохля, глупый хвастун!
Но потом его мысли и речи оставили бедного Виктора. Он видел теперь перед собой Юлию, красивую маленькую Юлию, как она покинула его в ту ночь; он кричал ей бесчисленные ласковые слова, безумными бесстыдными нежностями пытался соблазнить ее, только бы она пришла, сняла рубашку, отправилась бы с ним на небо за час до смерти, на одно мгновение перед тем, как ему издохнуть. Умоляюще и вызывающе говорил он с ее маленькой грудью, с ее ногами, с белокурыми курчавыми подмышками.
И снова брел он, спотыкаясь, через заснеженную сухую осоку, опьяненный горем, чувствуя торжествующий огонь жизни. Он начинал шептать, на этот раз он беседовал с Нарциссом, сообщал ему свои мысли, прозрения и шутки.
— Ты боишься, Нарцисс, — обращался он к нему, — тебе жутко, ты ничего не заметил? Да, глубокоуважаемый, мир полон смерти, она сидит на каждом заборе, стоит за каждым деревом, — и вам не помогут ваши стены и спальни, и часовни, и церкви, она заглядывает в окна, смеется, она прекрасно знает каждого из вас, среди ночи слышите вы, как она смеется под вашими окнами, называя вас по имени. Пойте ваши псалмы и жгите себе свечи у алтаря, и молитесь на ваших вечернях и заутренях, и собирайте травы для аптеки и книги для библиотеки! Постишься, друг? Недосыпаешь? Она-то тебе поможет, смерть, лишит всего, до костей. Беги, дорогой, беги скорей, там в поле уже гуляет смерть, собирайся и беги! Бедные наши косточки, бедное брюхо, бедные остатки мозгов! Все исчезнет, все пойдет к черту, на дереве сидят вороны, черные попы.
Давно уже блуждал он, не зная, куда бежит, где находится, что говорит, лежит он или стоит. Он падал, споткнувшись о куст, натыкался на деревья, хватался, падая, за снег и колючки. Но инстинкт в нем был силен, все снова и снова срывал он его с места, увлекая и гоня слепо мечущегося все дальше и дальше. В последний раз он, обессиленный, упал и не поднялся в той самой деревне, где несколько дней назад встретил странствующего студента, где ночью держал лучину над роженицей. Тут он оставался лежать, сбежались люди, и стояли вокруг него, и болтали. Он уже ничего не слышал. Женщина, любовью которой он тогда насладился, узнала его и испугалась его вида, сжалившись над ним, она, предоставив мужу браниться, притащила полумертвого в хлев.
Прошло немного времени, и Гольдмунд опять был на ногах и мог отправляться в путь. От тепла в хлеву, от сна и от козьего молока, которое давала ему женщина, он пришел в себя. и к нему вернулись силы; а все только что пережитое отодвинулось назад, как будто с тех пор прошло много времени. Поход с Виктором, холодная жуткая ночь под елями, ужасная борьба на ложе, страшная смерть товарища, дни и ночи замерзания, голода и блужданий — все это стало прошлым, как будто почти забытым: но забытым это все-таки не было, только пережитым, только минувшим. Что-то оставалось, невыразимое, что-то ужасное и в то же время дорогое, что-то опустившееся на дно души и все-таки незабвенное; опыт, вкус на языке, рубец на сердце. Меньше чем за два года он. пожалуй, основательно познал все радости и горести бездомной жизни: одиночество, свободу, звуки леса и животных, бродячую неверную любовь, горькую смертельную нужду. Сколько времени пробыл он гостем в летних полях, в лесу, в смертельном страхе и рядом со смертью, и самым сильным, самым странным было противостоять смерти, зная свою ничтожность и жалкость перед угрозами, в последней отчаянной борьбе со смертью чувствовать в себе эту прекрасную, страшную силу и цепкость жизни. Это звучало в нем, это запечатлелось в его сердце так же, как жесты и выражения страсти, столь похожие на выражения рожающей и умирающего. Совсем недавно видел он, как меняется лицо роженицы, совсем недавно погиб Виктор. О, а он сам, как чувствовал он во время голода подкрадывавшуюся со всех сторон смерть, как мучился от голода, а как мерз! И как он боролся, как водил смерть за нос, с каким смертельным страхом и с какой яростной страстью он защищался! Больше этого, казалось ему, уже нельзя пережить. С Нарциссом можно было бы поговорить об этом, больше ни с кем.
Когда Гольдмунд на своем соломенном ложе в хлеву в первый раз пришел в себя, он не нашел в кармане дуката. Неужели он потерял его во время страшного полусознательного голодного блуждания? Долго размышлял он об этом. Дукат был ему дорог, он не хотел мириться с его потерей. Деньги для него мало значили, он едва знал им цену. Но золотая монета имела для него значение по двум причинам. Это был единственный подарок Лидии, остававшийся у него, потому что шерстяная фуфайка осталась в лесу на Викторе, пропитанная кровью. А потом ведь прежде всего из-за монеты, которой он не желал лишиться, из-за нее он защищался против Виктора, из-за нее вынужден был убить его. Если дукат потерян, то в какой-то мере все переживания той ужасной ночи становились бессмысленными и никчемными. Размышляя таким образом, он решил расспросить хозяйку. «Кристина, — прошептал он, — у меня была золотая монета в кармане, а теперь ее нет там».
— Так, так, заметил? — сказала она с удивительно милой и одновременно лукавой улыбкой, столь восхитившей его, что он, несмотря на слабость, обнял ее.
— Какой же ты чудак, — сказала она с нежностью, — такой умный да обходительный, и такой глупый! Разве бегают по свету с дукатом в открытом кармане? Ох, дитя малое, дурачок ты мой милый! Монету твою я нашла сразу же, когда укладывала тебя на соломе.
— Нашла? А где же она?
— Ищи, — засмеялась она и действительно заставила его довольно долго искать, прежде чем показала место в куртке, где она была крепко зашита. Она надавала ему при этом кучу добрых материнских советов, которые он скоро забыл, но ее дружескую услугу и лукавую улыбку на добром крестьянском лице не забывал никогда. Он постарался показать ей свою благодарность, а когда вскоре опять был способен идти дальше, она задержала его, так как в эти дни меняется луна и погода, конечно, смягчиться. Так оно и было. Когда он отправился дальше, снег лежал серый и больной, а воздух был тяжел от сырости, в вышине слышались стоны теплого влажного ветра.
Глава десятая
Снова тающие снега гнали реки вниз, снова из-под прелой листвы пахло фиалками, снова брел Гольдмунд, минуя пестрые времена года, впиваясь ненасытными глазами в леса, горы и облака, от двора к двору, от деревни к деревне, от женщины к женщине, сидел иной раз прохладным вечером измученный, с болью в сердце под окном, за которым горел свет и из красного отсвета которого мило и недостижимо сияло все, что на земле называется счастьем, домом, миром. Снова и снова все приходило, что он, казалось, давно так хорошо уже знает, все приходило снова и было каждый раз другим: долгий путь по полям и пустошам или каменной дороге, летние ночевки в лесу, медленное приближение к деревням за рядами молодых девушек, возвращавшихся домой с сенокоса или сбора хмеля, первые осенние дожди, первые злые морозы — все возвращалось, раз, два раза, нескончаемо двигалась перед его глазами пестрая лента.
Не раз лил дождь, и не раз шел снег, когда однажды, поднявшись редким буковым лесом с уже светло-зелеными почками, Гольдмунд увидел с высоты гребня холма местность, которая порадовала его глаз и пробудила в сердце поток предчувствий, желаний и надежд. Уже несколько дней он чувствовал приближение этой местности, и все-таки она поразила его в этот полуденный час, и то, что он увидел при первой встрече, только подтвердило и укрепило его ожидания. Он смотрел вниз сквозь серые стволы с едва колышущимися ветвями, на зелено-коричневую дымку, посередине которой блестела, как стекло, широкая голубоватая река. Отныне, он был в этом уверен, будет надолго покончено с блужданием без дороги через пустоши, леса и глухие места, где едва встретишь двор и бедную деревеньку. Там внизу катилась река, а вдоль реки проходили самые главные дороги империи, там лежала богатая, сытая страна, плыли плоты и лодки, и дорога вела в большие деревни, замки, монастыри и богатые города, и, кому хотелось, тот мог путешествовать по этой дороге сколько угодно, не боясь, что она, подобно жалким деревенским тропинкам, вдруг затеряется где-нибудь в лесу или в болоте. Начиналось что-то новое, и он радовался этому.
Уже к вечеру того же дня он был в большом селе, расположенном между рекой и виноградниками на холмах у большой проезжей дороги; красивые ставни окон на домах с фронтонами были выкрашены в красное, здесь были сводчатые въездные ворота и мощеные ступенчатые улочки, из кузницы вырывались красные отблески пламени, и слышались звонкие удары по наковальне. С любопытством бродил вновь прибывший по всем уголкам и закоулкам, вдыхал запах бочек и вина у винных погребов, а на берегу реки запах прохлады и рыбы, осмотрел храм и кладбище, не преминул приглядеть и подходящий сарай для ночлега. Но сначала хотел попытаться попасть на довольство в пастырский дом. Тучный рыжий пастырь расспросил его, а он, кое-что опустив и кое-что присочинив, рассказал свою жизнь; после этого он был любезно принят и весь вечер провел за добрым ужином с вином в долгих разговорах с хозяином. На другой день он пошел дальше вдоль реки. Видал плывущие плоты и баржи, обгонял повозки, иногда его недалеко подвозили, быстро пролетали весенние дни, переполненные впечатлениями, его принимали в деревнях и маленьких городишках, женщины улыбались у изгороди или, наклонившись к земле, сажали что-то, девушки пели по вечерам на деревенских улочках.
На одной мельнице ему так понравилась молодая работница, что он на два дня задержался, обхаживая ее. она смеялась и охотно болтала с ним, ему казалось, что лучше всего было бы навсегда остаться здесь. Он сидел с рыбаками, помогал возничим кормить и чистить лошадей, получая за это хлеб и мясо и разрешение ехать вместе. После долгого одиночества это постоянное общение в пути, после долгих тягостных размышлений веселые разговоры с довольными людьми, после долгого недоедания ежедневная сытость — все это благотворно действовало на него, он охотно отдавался счастливой волне. Она несла его с собой, и чем ближе он подходил к городу, тем многолюдней и веселее становилась дорога.
В одной деревне он шел как-то уже в сумерках, прогуливаясь вдоль реки под деревьями, уже покрытыми листвой. Спокойно и величаво катилась река, у корней деревьев плескалось, вздыхая, течение, под холмом всходила луна, бросая свет на реку и погружая в тень деревья. Тут он увидел девушку, она сидела и плакала, повздорив с любимым, теперь вот он ушел, оставив ее одну. Гольдмунд подсел к ней и, выслушивая жалобы, гладил ее по руке, рассказывал про лес и про ланей, утешил ее немного, немного посмешил, и она позволила себя поцеловать. Но тут за ней явился ее возлюбленный; он успокоился и сожалел о ссоре. Увидев Гольдмунда возле Нее, он кинулся на того с кулаками, Гольдмунду с трудом удалось отбиться, с проклятиями парень побежал в деревню, девушка давно убежала. Гольдмунд же, не доверяя миру, оставил свое убежище и полночи шел дальше в лунном сиянии через серебряный безмолвный мир, очень довольный, радуясь своим сильным ногам, пока роса не смыла белую пыль с его башмаков. Почувствовав наконец усталость, он лег под ближайшим деревом и уснул. Давно уже был день, когда его разбудило щекотание по лицу; еще сонный, он отмахнулся и, шлепнув себя рукой, заснул опять, но вскоре был разбужен опять тем же щекотанием; перед ним стояла крестьянская девушка, смотрела на него и щекотала концом ивового прутика. Он поднялся, шатаясь, с улыбкой они кивнули друг другу, и она отвела его в сарай, где было лучше спать. Они поспали какое— то время там друг возле друга, потом она убежала и вернулась с ведерком еще теплого коровьего молока. Он подарил ей голубую ленту для волос, которую недавно нашел на улице и спрятал у себя, они поцеловались еще раз, прежде чем он пошел дальше. Ее звали Франциска, ему было жаль расставаться с ней.
Вечером того же дня он нашел приют в монастыре, утром был на мессе; причудливой волной прокатились в его душе тысячи воспоминании: трогательно, по-родному пахнуло на него прохладным, воздухом каменного свода: послышалось постукивание сандалий о каменные плиты переходов. Когда месса кончилась и в церкви стало тихо. Гольдмунд все еще стоял на коленях, его сердце было странно взволновано, ночью ему снилось много снов. У него появилось желание как-то избавиться от впечатлений прошлого, как-то переменить жизнь, он не знал почему, возможно, то было лишь напоминание о Мариабронне и его благочестивой юности, так тронувшее его. Он почувствовал необходимость исповедаться и очиститься: во многих мелких грехах, во многих мелких провинностях нужно было покаяться, но тяжелее всего давила вина за смерть Виктора, который умер от его руки. Он нашел патера, которому исповедался о том о сем, но особенно об ударах ножом в горло и спину бедного Виктора. О. как же давно он не исповедовался! Количество и тяжесть его грехов казались ему значительными, он готов был прилежно искупить их. Но исповедник, казалось, знал жизнь странствующих, он не ужаснулся, спокойно выслушав, серьезно, но дружелюбно пожурил и предостерег без особых осуждении.
Облегченно поднялся Гольдмунд, помолился по предписанию патера у алтаря и собирался уже выйти из церкви, когда солнечный луч проник через одно из окон, он последовал за ним взглядом и увидел в боковом приделе стоящую фигуру, она так много говорила его сердцу, так влекла к себе, что он повернулся к ней любящим взором и рассматривал, полный благоговения и глубокого волнения. Это была Божья Матерь из дерева, она стояла, так нежно и кротко склонившись. И как ниспадал голубой плащ с ее узких плеч, и как была протянута нежная девичья рука, и как смотрели над скорбным ртом глаза и высился прелестный выпуклый лоб — все было так живо, так прекрасно и искренне воодушевленно, что ему казалось, он никогда такого не видел. Этот рот, это милое естественное движение шеи, он смотрел и не мог наглядеться. Как будто перед ним стояло то, что он часто и уже давно видел в грезах и предчувствовал, к чему нередко стремился в тоске. Несколько раз порывался он уйти, и его опять тянуло обратно.
Когда он наконец собрался уходить, позади остановился патер, который его исповедовал:
— По-твоему, она красива? — спросил он дружески.
— Несказанно красива, — ответил Гольдмунд.