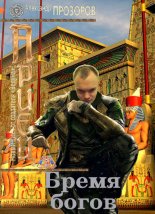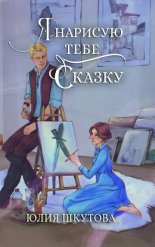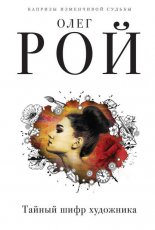Возвращение в Брайдсхед. Незабвенная Во Ивлин

– Мальчики пусть поступают, как им угодно. А мы должны отклонить приглашение.
– И еще я позвала к завтраку миссис Хэкинг Бруннер. У нее очаровательная дочь. Она наверняка понравится Себастьяну и его другу.
– Себастьяна и его друга больше интересует Беллини, чем богатые наследницы.
– Но это как раз то, о чем я мечтала! – воскликнула Кара, сразу же изменив направление атаки. – Я была здесь несчетное количество раз, и Алекс не позволил мне даже заглянуть внутрь Святого Марка. Мы станем туристами, да?
И мы стали туристами; в качестве гида Кара привлекла какого-то знатного карлика-венецианца, перед которым были открыты все двери, и в его сопровождении, с путеводителем в руке она пустилась в странствие вместе с нами, изнемогая порой, но не отступаясь, – скромная, прозаическая фигура на фоне грандиозного венецианского великолепия.
Две недели в Венеции промелькнули быстро, как сладкий сон – быть может, слишком сладкий; я тонул в меду, забыв о жале. Жизнь то двигалась вместе с гондолой, на которой мы покачивались, плывя по узким каналам под мелодичные птичьи окрики гондольера, то, ныряя, неслась с катером через лагуну, оставляя позади радужный пенный след; от нее остались воспоминания разогретого солнцем песка, и прохладных мраморных покоев, и воды, воды повсюду, плещущей о гладкие камни и отбрасывающей ярких зайчиков на расписные потолки; и ночного бала во дворце Коромбона, какие, быть может, посещал Байрон; и другой байронической ночи – когда ездили ловить scampi[20] на отмелях Chioggia и за пароходиком тянулся по воде фосфоресцирующий след, на корме раскачивался фонарь и невод поднимался на борт, полный водорослей, песка, бьющейся рыбы; и дыни с prosciutto[21] на балконе прохладными утрами; и горячих гренков с сыром и коктейлей с шампанским в баре у «Хэрри».
Помню, как Себастьян сказал, взглянув на статую Коллеони:
– Грустно думать, что, как бы там ни сложились обстоятельства, нам с вами не придется участвовать в войне.
Но всего отчетливее я помню один разговор, состоявшийся незадолго до нашего отъезда.
Себастьян поехал с отцом играть в теннис, а Кара наконец призналась, что устала до изнеможения. И вот после обеда мы сидели с ней у окон, выходящих на Большой канал: она – на диванчике с каким-то рукоделием, я – в кресле, праздный. Впервые мы остались с глазу на глаз.
– Мне кажется, вы очень привязаны к Себастьяну, – сказала она.
– Разумеется.
– Я знаю эту романтическую дружбу у англичан и немцев. В латинских странах это не принято. По-моему, такие отношения превосходны, если только они не слишком затягиваются.
Она говорила так спокойно и рассудительно, что невозможно было обидеться; я не нашелся, как ей ответить. Она, видно, и не ждала ответа, а продолжала работать иглой, иногда останавливаясь и подбирая оттенки шелка, который доставала из рабочей корзинки.
– Любовь, которая приходит к детям, еще не понимающим ее значения. В Англии это бывает, когда вы уже почти взрослые мужчины; мне это даже нравится. По-моему, лучше, если такое чувство испытывают к мальчику, а не к девочке. Алекс вот испытывал его к девочке, к своей жене. Как вы думаете, он любит меня?
– Право, Кара, вы задаете совершенно невозможные вопросы. Ну откуда мне знать? Очевидно…
– Нет, не любит. Ну нисколечко. А почему он остается со мной? Я скажу вам: потому, что я ограждаю его от леди Марчмейн. Ее он ненавидит, вы даже представить себе не можете, как он ее ненавидит. Кажется, такой спокойный, сдержанный английский милорд, слегка скучающий, с угасшими страстями, сохранивший одно желание – жить в комфорте вдали от всяких тревог, ездящий зимой на юг, а летом на север, и при нем – я, чтобы позаботиться о том, чего сам для себя никто сделать не может. Мой друг, ничего подобного. Это вулкан ненависти. Он не может дышать одним воздухом с ней. Не желает ступить на английскую землю, потому что там живет она; ему и с Себастьяном трудно, потому что он – ее сын. Но Себастьян тоже ее ненавидит.
– Уверяю вас, здесь вы ошибаетесь.
– Возможно, он не признается в этом вам. Может быть, не признается даже самому себе, но они полны ненависти к своей семье. Алекс и его семья… Почему, вы думаете, он отказывается бывать в обществе?
– Я всегда полагал, что общество его отвергло…
– Мой дорогой мальчик, вы еще очень молоды. Чтобы общество отвергло такого красивого, образованного, богатого мужчину, как Алекс? Да никогда в жизни! Он сам всех распугал. Даже и теперь люди продолжают появляться у нас и неизменно встречают оскорбления и издевательства. А все из-за леди Марчмейн. Он не пожмет руки, которая касалась, быть может, ее руки. Когда у нас бывают гости, я так и вижу, как он думает: «Уж не прямо ли из Брайдсхеда они сюда? Не по пути ли в Марчмейн-хаус? Не вздумают ли рассказывать про меня моей жене? Не звено ли это, связующее меня с той, кого я ненавижу?» Нет, серьезно, клянусь, именно так он и думает. Он безумец. И чем же она заслужила такую ненависть? Ничем, если не считать того, что была любима мужчиной, который еще не стал взрослым. Я не знакома с леди Марчмейн, я видела ее только один раз; но, когда живешь с человеком, узнаешь и ту, другую женщину, которую он когда-то любил. Я знаю леди Марчмейн очень хорошо. Это простая и хорошая женщина, которую неправильно любили. Когда так страстно ненавидят, это значит, что ненавидят что-то в себе самих. Алекс ненавидит все иллюзии своего отрочества: невинность, Бога, спасение души. Бедная леди Марчмейн должна за все это расплачиваться. У женщины не бывает столько разных любовей… Ну а ко мне Алекс очень привязан, я ведь ограждаю его от его собственной невинности. Нам хорошо вдвоем.
А Себастьян влюблен в собственное детство. Это принесет ему страдания. Его плюшевый мишка, его няня… И ведь ему девятнадцать лет… – Она приподнялась на диване, пересела так, чтобы в окно видны были проплывающие лодки, и сказала с насмешливым удовольствием: – До чего же хорошо сидеть в холодке и толковать про любовь, – и тут же добавила, опустившись с высот на землю: – Себастьян слишком много пьет.
– Мы оба этим грешим.
– Вы – другое дело. Я наблюдала за вами обоими. У Себастьяна все иначе. Он запьет горькую, если никто не вмешается. Я видела много таких на своем веку. Алекс тоже был почти горьким пьяницей, когда мы познакомились, – это у них в крови. Видно по тому, как Себастьян пьет. Вы – совсем другое дело.
Мы приехали в Лондон за день до начала семестра. По пути от Черинг-Кросса я высадил Себастьяна во дворе материнского дома.
– Вот и Марчерс, – вздохнул он, и это означало сожаление об окончившихся каникулах. – Я вас не приглашаю: дом, наверное, полон моими родными. Увидимся в Оксфорде.
И я поехал через парк к себе домой.
Отец встретил меня, как обычно, с терпеливым сожалением на лице.
– Сегодня здравствуй, завтра прощай, – сказал он. – Я почти не вижу тебя. Ну да, наверно, тебе здесь скучно. Иначе и быть не может. Хорошо ли ты провел время?
– Очень. Я ездил в Венецию.
– Да-да. Конечно. И погода была хорошая?
Когда после целого вечера безмолвствия мы пошли спать, отец остановился на лестнице и спросил:
– А этот твой друг, о котором ты так беспокоился, он умер?
– Нет.
– Слава богу. Я очень рад. Напрасно ты не написал мне об этом. Я так о нем волновался.
Глава пятая
– Как это по-оксфордски, – сказал я, – начинать новый год с осени.
Повсюду – в садах, на булыжниках, на гравии, на газонах – лежали опавшие листья, и дым костров смешивался с влажным речным туманом, переползающим невысокие серые стены; каменные плиты под ногами лоснились, и золотые огни, один за другим загоравшиеся в окнах нашего двора, казались расплывчатыми и далекими; новые фигуры в новеньких мантиях бродили в сумерках под темными сводами, и знакомые колокола вызванивали память прошедшего года.
Осеннее настроение овладело нами обоими, словно буйное июньское веселье умерло вместе с левкоями у меня под окном, чей аромат теперь заменили запахи прелых листьев, тлеющих в куче в углу двора.
Было первое воскресенье нового семестра.
– Я чувствую, что мне ровно сто лет, – сказал Себастьян. Он приехал накануне, на день раньше, чем я, и это была наша первая встреча, с тех пор как мы расстались в такси.
– Сегодня со мной беседовал монсеньор Белл. Это уже четвертая беседа после возвращения – с наставником, с заместителем декана, с мистером Самграссом из Всех Усопших, и вот теперь с монсеньором Беллом.
– А кто такой мистер Самграсс из Всех Усопших?
– Один человек, состоит при маме. Они все говорят, что в прошлом году я очень плохо начал, что на меня обращено внимание и что, если я не исправлю своего поведения, меня исключат. Как это, интересно, исправляют свое поведение? Надо, наверно, вступить в Союз Лиги Наций, каждую неделю читать «Изиду», пить по утрам кофий в кафе «Кадена» и курить большую трубку, играть в хоккей, таскаться пить чай на Кабаний Холм и на лекции в Кибл, разъезжать на велосипеде с кипой тетрадей на багажнике, а вечерами пить какао и научно обсуждать вопросы пола. Ох, Чарльз, что произошло за время каникул? Я чувствую себя таким старым.
– Я чувствую себя пожилым. Это неизмеримо хуже. Кажется, мы уже получили здесь все, на что можно было рассчитывать.
Мы посидели молча при свете камина. Быстро стемнело.
– Антони Бланш ушел из университета.
– Почему?
– Пишет, что снял квартиру в Мюнхене. Он завязал там роман с полицейским.
– Мне будет недоставать его.
– Мне, я думаю, в каком-то смысле тоже.
Мы снова замолчали и так тихо сидели, не зажигая ламп, что человек, зашедший ко мне по какому-то делу, постоял минуту на пороге и ушел, подумав, что в комнате никого нет.
– Так нельзя начинать новый год, – сказал Себастьян; но тот мрачный октябрьский вечер овеял своим холодным влажным дыханием последующие дни и недели. Весь семестр и весь год мы с Себастьяном жили под тенью сгущающихся туч, и, словно фетиш, вначале спрятанный от глаз миссионера, а затем забытый, плюшевый медведь Алоизиус пылился на комоде в Себастьяновой спальне.
Мы оба переменились. Оба утратили чувство новизны, лежавшее в основе нашей прошлогодней анархии. Я начал остепеняться.
Мне, как ни странно, очень не хватало кузена Джаспера, который успешно сдал выпускные экзамены и теперь хлопотливо устраивался в Лондоне на смутьянское житье; без него мне некого было шокировать; сам колледж, казалось, утратил без него свою солидность и теперь уже не вызывал на скандальные выходки, как минувшим летом. К тому же я возвратился пресытившийся и покаянный, твердо решившись умерить свой размах. Я не собирался больше давать пищу юмору отца; его эксцентричные преследования лучше любого выговора убедили меня в неразумности жизни не по средствам. Бесед со мной в этом семестре никто не проводил, успех на предварительном экзамене по истории, а также бета с минусом за один из рефератов обеспечили мне хорошие отношения с моим наставником, которые я без лишних усилий и поддерживал.
Я сохранял связь с историческим факультетом, писал для них по два реферата в неделю, посещал иногда какую-нибудь лекцию. Кроме того, с начала второго курса я записался на Рескинский факультет искусств, мы собирались по утрам два или три раза в неделю (нас было человек двенадцать, из них по меньшей мере половина – дочери северного Оксфорда) среди слепков античных памятников Ашмолейского музея; дважды в неделю мы рисовали обнаженную натуру в маленькой комнате над чайной; были приняты меры, чтобы исключить на этих сеансах непристойные помыслы: молодая женщина, позировавшая нам, приезжала из Лондона на один день и не имела права ночевать в университетском городе; помню, что бок, обращенный к железной печке, был розовый, а другой – в пятнах и пупырышках, словно ощипанный. Здесь, в чаду керосиновой лампы, мы сидели верхом на скамейках и делали беспомощные попытки вызвать призрак Трильби. Мои рисунки никуда не годились; дома я писал хитроумные миниатюры-стилизации, иные из которых, сбереженные моими тогдашними знакомыми, теперь иногда вдруг всплывают на свет, повергая меня в смущение.
Учил нас человек моего возраста, обращавшийся с нами с оборонительной враждебностью, он носил темно-синие рубахи, лимонно-желтый галстук и очки в роговой оправе, и, видя перед глазами такое предостережение, я стал постепенно изменять собственный стиль одежды, приблизившись наконец к тому, что кузен Джаспер счел бы подходящим для человека, гостящего в загородном доме. Так, найдя себе занятия по душе и костюм к месту, я сделался респектабельным членом своего колледжа.
У Себастьяна все складывалось иначе. У него прошлогодняя анархия отвечала глубокой внутренней потребности бегства от реальности, и теперь, ощущая себя запертым со всех сторон, запертым и там, где он прежде пользовался свободой, он делался равнодушен и угрюм даже со мной.
В тот семестр мы почти все время проводили вдвоем, настолько оба поглощенные друг другом, что не испытывали нужды в других знакомствах. Кузен Джаспер предупреждал, что на втором курсе почти все время уделяют тому, чтобы отделаться от знакомых, приобретенных на первом, и именно так у нас и получилось. У меня почти все знакомые были общие с Себастьяном; и теперь мы вместе избавлялись от них, а новых не заводили. До ссор и разрывов не доходило. Поначалу мы встречались с ними так же часто, как и прошлый год, ходили к ним, когда нас приглашали, но сами устраивали пирушки все реже и реже. У меня не было желания красоваться перед новыми первокурсниками, которые дебютировали в свете, подобно своим лондонским сестрам; новые лица были теперь всюду, куда ни пойдешь, и я, еще полгода назад такой жадный до новых знакомств, чувствовал пресыщение; и даже наш узкий кружок близких друзей, недавно искрившийся весельем в летнем свете солнца, как-то потускнел и притих в мглистом, ползущем с реки тумане, затянувшем для меня в тот год весь мир. Антони Бланш унес с собою что-то важное; запер на замок какую-то дверь и ключ повесил к себе на цепочку; теперь все его знакомцы, среди которых он всегда оставался чужим, больно ощущали его отсутствие.
Вот и кончился любительский спектакль; режиссер застегнул барашковый полушубок и получил гонорар, и безутешные дамы остались без своего руководителя. Лишенные его руководства, они не вовремя подают реплики и перевирают слова; он нужен им, чтобы позвонить к поднятию занавеса, чтобы верно направить огни рампы; им необходим его шепот в кулисах, его властный взгляд, брошенный на дирижера; без него не стало фотографов из иллюстрированных еженедельников, не стало организованного доброжелательства и благосклонного ожидания публики. Все, что их соединяло, было общее служение искусству; и вот золотые кружева и бархат уложены и возвращены костюмеру, и серая униформа буден пришла им на смену. Несколько счастливых часов репетиций, несколько экстатических мгновений спектакля они исполняли блестящие роли, они были своими собственными великими предками со знаменитых портретов, на которых, как предполагалось, отдаленно походили, и вот теперь все позади, и в хмуром свете осеннего дня они должны вернуться к себе домой: к мужу, который слишком часто приезжает в Лондон; к любовнику, который проигрывается в карты; к ребенку, который слишком быстро растет.
Кружок Антони Бланша распался – вместо него осталась просто дюжина скучных английских подростков. Когда-нибудь, в позднейшие годы, им суждено будет спрашивать друг у друга: «А помните того чудака, с которым мы знались в Оксфорде, – Антони Бланша? Интересно, что с ним теперь?» Они снова лениво пристали к стаду, из которого их по непонятным признакам отобрали, и день ото дня все больше утрачивали индивидуальные отличия. Эта перемена им самим была не так ясно видна, как нам; от случая к случаю они все еще собирались у нас в комнатах, но мы перестали искать их общества. Зато мы полюбили компании попроще и частенько проводили вечера в маленьких Хогартовских кабачках Сент-Эбба и Сент-Климента или улиц между старым рынком и каналом, где мы еще могли веселиться и где нам, смею верить, бывали рады. У «Садовника», и в «Лошажьей голове», и в «Голове друида», что по соседству с театром, и «На адском ипподроме» мы были признанными завсегдатаями; впрочем, в последнем можно было встретить и других студентов – главным образом весельчаков из Брейзенноуз-колледжа, а Себастьяном постепенно овладела своего рода фобия, какую испытывают те, кто носит форму, к собратьям по профессии, и не один вечер оказывался для нас погублен появлением коллег-студентов, из-за которых он оставлял недопитым стакан и хмуро возвращался в свой колледж.
Так застала нас леди Марчмейн, когда в начале Михайлова семестра приехала на неделю в Оксфорд. Она нашла Себастьяна притихшим, а вместо всей его оравы друзей рядом с ним был один я. Она приняла меня как друга Себастьяна и попыталась сделать также и своим другом. При этом она, того не ведая, нанесла удар по самому основанию нашей дружбы. Таков единственный упрек, который я могу противопоставить всей ее безграничной доброте ко мне.
В Оксфорде у нее было дело к мистеру Самграссу из Всех Усопших, который постепенно начал играть в нашей жизни все более и более значительную роль. Леди Марчмейн была занята изданием для узкого круга друзей книги в память о своем брате Неде, старшем из троих легендарных героев, павших между Монсом и Пассендейлом; после него осталось много бумаг: стихов, писем, выступлений, статей; подготовка их к публикации, даже самым маленьким тиражом, требовала такта и принятия многих решений, для которых суд обожающей сестры был недостаточно надежным основанием. Признав это, она стала искать помощи со стороны и нашла себе в советчики мистера Самграсса.
Это был молодой преподаватель истории, низенький пухлый человечек с жидкими, прилизанными на большом черепе волосами, аккуратными ручками, маленькими ножками, всегда одетый с иголочки и как бы слишком чисто вымытый. У него были вкрадчивые манеры и своеобразная речь. Нам выпало познакомиться с ним довольно близко.
У мистера Самграсса был особый дар помогать людям в их работе, но он и сам был автором нескольких изящных книжиц. Он имел пристрастие к старинным грамотам и тонкое чутье к живописным эффектам. Себастьян отнюдь не грешил против истины, когда назвал его «одним человеком, состоящим при маме». Он становился человеком при каждом, кто мог его чем-то привлечь.
Мистер Самграсс был знаток генеалогий и прав наследования; он обожал свергнутые королевские фамилии и отлично разбирался в правах претендентов на троны; сам человек не религиозный, он был осведомлен о делах католической церкви лучше, чем многие католики; у него были знакомства в Ватикане, и он мог часами толковать о церковных делах и назначениях, о том, кто из духовных лиц сейчас в фаворе, а кто нет, и каковы последние теологические гипотезы, и как тот или иной иезуит или доминиканец в великопостной проповеди вступил на опасную стезю или взял сомнительную ноту; ему не хватало разве только веры, и позднее, в Брайдсхеде, он любил в часовне подходить под благословение и смотреть, как дамы в черных кружевных мантильях грациозно изгибают шеи в молитве; он любил забытые великосветские сплетни и был специалистом по внебрачным детям, он любил прошлое, так он всегда говорил, но у меня было такое чувство, что свое великолепное окружение и в прошлом и в настоящем он втайне считает несерьезным, реальностью для него был один только мистер Самграсс, все прочее – не более чем маскарадная процессия. Он был туристом Викторианской эпохи, самодовольным и снисходительным, и вся эта экзотика служила ему для развлечения. К тому же его перо казалось мне немного слишком бойким, я бы не удивился, окажись у него в квартире запрятанный диктофон.
Я встретил его впервые в обществе леди Марчмейн и тогда же подумал, что она не могла бы найти для себя более разительного контраста, чем этот промышляющий интеллигент, и более выгодного фона для своего очарования. Не в ее обычае было демонстративно вторгаться в чужую жизнь, но на исходе той недели Себастьян хмуро заметил: «Вас с мамой теперь водой не разольешь», – и тогда я осознал, что меня быстро и незаметно втянули в отношения душевной близости, потому что других отношений между людьми леди Марчмейн просто не признавала. Перед тем как она уехала, я успел дать обещание, что проведу в Брайдсхеде все предстоящие каникулы, кроме рождественских дней.
Недели через две после этого, утром в понедельник, я сидел у Себастьяна и дожидался, когда он вернется с занятий, как вдруг вошла Джулия в сопровождении крупного мужчины, которого она представила мистером Моттремом, а называла Рексом. Они возвращались в автомобиле от своих знакомых, у которых гостили субботу и воскресенье. Рекс Моттрем в просторном клетчатом пальто с поясом был разгорячен и самоуверен, Джулия в мехах казалась замерзшей и робкой; она прошла прямо к камину и присела на корточки перед огнем.