Будда Армстронг Карен
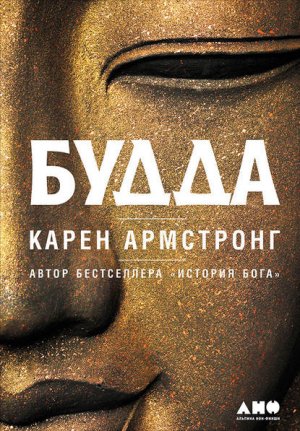
Переводчик Н. Зарахович
Редактор Ю. Быстрова
Руководитель проекта И. Серёгина
Технический редактор Н. Лисицына
Корректор О. Ильинская
Компьютерная верстка Е. Сенцова, А. Фоминов
Дизайн обложки Ю. Буга
© Karen Armstrong, 2001
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2017
Издано по лицензии Viking, подразделение Penguin Group (USA) Inc.
Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).
Введение
Кое-кто из буддистов мог бы заметить, что писать биографию Сиддхартхи Гаутамы – занятие в высшей степени противоречащее духу буддизма. Не следует, на их взгляд, поклоняться ничьим авторитетам, какими бы величием и достоинствами они бы ни обладали. Напротив, истинный буддист должен быть самостоятелен в духовном плане и уповать не на помощь харизматического лидера, а лишь на собственные усилия. Так, буддийский учитель IX в., основатель Лин-Чи, одной из школ дзен-буддизма, желая подчеркнуть, как важно не создать себе кумиров, дошел даже до того, что приказывал своим ученикам: «Если встретите Будду, убейте Будду!» Гаутама, конечно, не одобрил бы подобной жестокости, но на протяжении всей жизни решительно пресекал попытки поклонения лично ему и протестовал против того, чтобы ученики сосредоточивали внимание на его персоне. Тем самым Гаутама внушал им, что самое важное – это учение как таковое, а не личность и жизненный опыт учителя. Он знал, что пробудился к истине, которая заложена в глубинной сущности бытия. Его учение называлось Дхарма[1] – понятие, имеющее множество коннотаций, но изначально означавшее фундаментальный закон существования, которому подвластны и боги, и люди, и животные. Раскрыв эту истину, Гаутама сделался просветленным и претерпел глубокое духовное преображение; в пучине жизненных страданий он обрел умиротворенность и освобождение. Так, Гаутама сделался Буддой, т. е. Просветленным или, как еще принято говорить, Пробудившимся. Следуя его методу, любой из его учеников и последователей тоже мог достичь состояния просветленности. Поклонение же самому Гаутаме как человеку лишь увело бы в сторону от этой цели, а сам культ рисковал бы превратиться в духовный костыль. Это могло породить ненужную зависимость, которая препятствует духовному прогрессу.
Канонические буддийские тексты выдержаны в духе этого требования, поэтому из них мало что можно почерпнуть о подробностях жизни Гаутамы и особенностях его характера. Вот почему так трудно создать жизнеописание Будды, которое удовлетворяло бы современным критериям – в нашем распоряжении слишком мало исторически достоверной информации. Первые объективные доказательства существования вероучения, именуемого буддизмом, содержатся в надписях, высеченных на скалах и колоннах по указу царя Ашоки, который правил империей Маурьев (Северная Индия) с 269 по 232 г. до н. э. Однако Ашока жил лет на двести позже Будды. Подобная скудость достоверных свидетельств заставила некоторых западных историков XIX в. вообще усомниться в том, что Гаутама был реальной исторической личностью. Они скорее склонны были рассматривать его просто как персонификацию господствовавшей в те давние поры философии Санкхья или как символ солнечного культа. Однако современная наука отказалась от такой скептической позиции. Невзирая на очевидную скудость буддийских источников, современные ученые с достаточной долей уверенности утверждают, что человек по имени Сиддхатха Гаутама действительно существовал и что его последователи в меру своих сил сохранили как само учение, так и сведения о его жизни.
Собирая факты, касающиеся жизни Будды, оказываешься в плену у множества объемистых буддийских источников, написанных на многих языках народов Азии, – этими трудами можно было бы уставить не одну библиотечную полку. Неудивительно, что история создания такой обширной библиографии очень сложна, а статус отдельных фрагментов и по сию пору остается предметом научных споров. Однако уже принято считать, что самыми достоверными являются источники на языке пали, северо-индийском наречии не совсем ясного происхождения, но, как считается, близкого к языку королевства Магадха – на нем, возможно, говорил и сам Гаутама. Буддийские канонические тексты на языке пали бережно сохранялись последователями самой консервативной школы, тхеравады, традиционно распространенной в Шри-Ланке, Бирме и Таиланде. Следует, однако, отметить, что в Индии письменность не получила большого распространения до самых времен правления царя Ашоки и посему Палийский канон – свод древнейших текстов на пали, образующих основы буддизма, – передавался в устной форме и был записан лишь в I в. до н. э. Итак, из чего же состоит Палийский канон?
Допустимо предположить, что уже вскоре после смерти Гаутамы в 483 г. до н. э. (согласно принятой у западных буддологов датировке) его последователи предпринимают попытки сохранить память о его жизни и учении. Буддийские монахи той поры вели бродячий образ жизни, странствуя по разбросанным в бассейне реки Ганг городам и селениям и распространяя учение о просветлении и избавлении от страданий. Однако с приходом сезона муссонов странствия приходилось прерывать – монахи-буддисты оседали во временных поселениях. И тогда наступало время обсуждения проповедуемых ими учений и практик. Как сообщают палийские источники, вскоре после смерти Будды монахи-буддисты организовали первый собор, чтобы договориться, как оценивать все многообразие имевшихся на тот момент доктрин и направлений духовной практики. Вполне возможно, что по прошествии 50 лет после смерти Будды, кое-кто из монахов восточных районов Северной Индии еще сохранял личные воспоминания о великом Учителе, тогда как в других частях Индии сбор свидетельств его жизни принял более формализованный характер. Тогда монахи еще не знали письменности, однако благодаря практике йоги многие из них обладали феноменальной памятью и сумели создать чрезвычайно эффективные методы запоминания бесед и рассуждений Учителя, а заодно и свода подробных правил, регламентирующих жизнь ордена буддистов. Как, вероятно, сделал бы сам Учитель, они облекли некоторые из его наставлений в стихотворную форму и, возможно, даже декламировали их нараспев. Кроме того, чтобы наставления и правила легче запоминались наизусть, был введен единообразный размеренный, с повторами, стиль изложения (который до сих пор сохраняется в письменных текстах). Все учение было разделено на обособленные, хотя и пересекающиеся, канонические тексты, а специально назначенные монахи должны были выучить их наизусть, каждый – свою антологию, чтобы донести их до следующего поколения.
Примерно через сто лет после смерти Будды был созван второй собор. Все указывает на то, что к тому моменту Палийский канон уже существовал в своем современном виде. Его часто называют Типитака («Три корзины») – потому что позже, когда он уже был положен на бумагу, его составные части хранили в трех отдельных корзинах. То были Суттапитака – Корзина сутр; Виннаяпитака – Корзина дисциплины, свод правил должного поведения, а в третью Корзину вошли прочие указания. Далее каждая из этих трех Корзин подразделялась на разделы:
[1] Суттапитака включала пять сводов (они называются никая) наставлений Будды, которые называются сутры:
[i] Дигха-никая, собрание 34 самых длинных наставлений, которые касались духовного воспитания членов общины, обязанностей мирских последователей буддизма и разных аспектов религиозной жизни Индии в V в. до н. э. В эту же никаю включены также описание благородных мистических способностей (Сампасадания) самого Будды, а также рассказ о его последних днях и великом окончательном освобождении – Махапаринирване.
[ii] Маджджхима-никая, антология из 152 средних наставлений (они носят название сутры). Это были многочисленные повествования об эпизодах из жизни Будды, о его пути к просветлению и о первых шагах на стезе проповедничества. Здесь же находится и ряд ключевых положений его учения.
[iii] Самъютта-никая – сборник, объединяющий пять серий сутр, каждая посвящена отдельной теме, в том числе таким, как Восьмеричный путь и набор элементов, составляющих сущность человека.
[iv] Ангуттара-никая состоит из 11 разделов с сутрами, большинство которых включены также и в другие части Канона.
[v] Кхуддака-никая – собрание небольших текстов, в том числе таких широко известных, как Дхаммапада – из изречений и стихов самого Будды, излагающих основные принципы морально-этической доктрины Учения; Удана – собрание кратких изречений Будды, облеченных по большей части в стихотворную форму и имеющих пролог, где описываются обстоятельства, при которых они были высказаны; Сутта-нипата – еще одно собрание стихотворных сутр, включающее некоторые легенды о жизни Будды; и, наконец, Джатака, история о перерождениях Будды в прошлых жизнях и о тех, кто его окружал. Этот последний сборник призван показать, как действия человека (его камма, или карма) влияют на его жизнь в следующих рождениях.
[2] Винаяпитака, Книга монашеского послушания, устанавливает правила монашеской дисциплины и нравственного воспитания буддийских монахов. В ней три части.
[i] Суттавибханга, в которой перечислены 227 возможных проступков, в которых монахам следует исповедоваться на проводящемся раз в две недели общем сборе общины. Они снабжены комментариями, поясняющими причины введения каждого дисциплинарного правила.
[ii] Кхандхака, которая, в свою очередь, подразделяется на Махавагга – Великое повествование и Чуллавагга – Малое повествование. Это свод правил, регламентирующих порядок вступления в монашескую общину, проживания, исповеди и проведения обрядов. Каждое правило начинается с комментария, где описываются инциденты, которые дали толчок к введению того или иного правила, и заодно сообщают нам некоторые существенно важные легенды о Будде.
[iii] Паривара – краткое описание предыдущих разделов, где своды правил для простоты изучения различными способами классифицированы и систематизированы.
Третья Корзина, Абхидхаммапитака, содержит буддийские философские трактаты и доктрины, поэтому для биографа представляет сравнительно малый интерес.
После второго собора в буддизме наметилась схизма, т. е. раскол, в результате которого образовалось несколько школ буддизма. Причем каждая из них взяла за основу упомянутые выше канонические тексты, только в каждом случае они были несколько адаптированы с учетом особенностей учения. В целом же ни одна часть первоначального текста не была отринута, правда, имелись добавления и детальная проработка некоторых моментов. Ясно, однако, что Палийский канон, священный текст школы Тхеравада, не является единственной версией Типитаки, хотя он единственный дошел до нас, сохранив целостность. И все же ряд фрагментов утерянных древнеиндийских буддийских текстов дошел до нас в более поздних переводах на китайский язык, а также в составе тибетских канонических текстов, сохранившихся в самом древнем из имеющихся на сегодняшний день собрании буддийских текстов на санскрите. Хотя эти переводы датируются V–VI вв. н. э., т. е. были сделаны примерно через тысячу лет после того, как Будда окончил свое земное существование, некоторые их фрагменты по возрасту не уступают Палийскому канону и служат его подтверждением.
Краткий экскурс дает нам повод остановиться на нескольких моментах, которые повлияют на нашу трактовку этого священного буддийского текста. Во-первых, данный текст претендует на то, что является собранием высказываний и наставлений самого Будды, без каких бы то ни было комментариев монахов-составителей. Такая форма устной передачи исключает индивидуализацию авторства: в этом смысле работу безвестных буддийских монахов никак нельзя уподобить той, что проделали их христианские «коллеги» – евангелисты Матфей, Лука, Марк и Иоанн, каждый из которых предложил сугубо индивидуальную трактовку Евангелия. Ведь нам ничего не известно о монахах, которые скомпилировали и отточили тексты Палийского канона, равно как и о тех, кто взял на себя труд облечь его в письменную форму. Во-вторых, считается, что Палийский канон отражает взгляды школы Тхеравада, и потому первоначальный смысл высказываний и наставлений Будды мог быть в полемических целях слегка подкорректирован ее адептами. В-третьих, какой бы превосходной ни была отточенная практикой йоги память монахов, при изустном хранении и передаче информации потери неизбежны. Вполне вероятно, что некоторая часть материала была в ходе многочисленных пересказов утрачена, а что-то неверно истолковано. Более того, на личность Будды, несомненно, были спроектированы и более поздние представления буддийских монахов о нем. А мы не располагаем никакими средствами, чтобы определить, какие из содержащихся в Палийском каноне сказаний о жизни Будды и его собственных наставлений аутентичны, а какие – вставлены позже. В Каноне нет на этот счет никаких сведений, достоверность которых отвечала бы критериям современной исторической науки. Он лишь передает легенду о Гаутаме, которая бытовала в те времена, когда Палийский канон обрел более или менее отчетливую форму, т. е. через три поколения после смерти Гаутамы. Тибетские и китайские священные тексты более позднего времени, безусловно, содержат материалы древнего происхождения, но и они не более чем более поздние варианты трактовки легенды. Весьма удручающим является и то обстоятельство, что самый старый из дошедших до наших дней текстов Палийского канона имеет возраст всего 500 лет.
Но не будем впадать в отчаяние. Имеющиеся в нашем распоряжении тексты все же содержат исторические материалы, которые можно считать достоверными. Из них нам многое известно о жизни Северной Индии в V в. до н. э., и это согласуется со сведениями в священных текстах джайнистов, авторы которых были современниками Будды. В них мы находим точные сведения об индуистских Ведах, о чем монахи – составители более поздних буддийских текстов и комментариев к ним почти ничего не знали; упоминания реально существовавших исторических личностей вроде Бимбисары, царя Магадхи, рассказы о зарождении городов и городской жизни, о политических, экономических и религиозных институтах того периода. И все это подтверждается открытиями археологов, филологов и историков. В настоящее время специалисты с полной уверенностью утверждают, что некоторые из текстов Канона восходят к самым ранним истокам буддизма. Тем более трудно сегодня согласиться с мнением ученых XIX в., считавших Будду фигурой вымышленной, простой выдумкой буддистов. В многочисленных проповедях, беседах, наставлениях явно прослеживается последовательность и согласованность. Это свидетельствует о том, что они есть продукт интеллекта одного конкретного человека. Их никак нельзя счесть плодами коллективного разума. Более того, вполне возможно, что некоторые из этих изречений в действительности были высказаны самим Сиддхартхой Гаутамой, правда, у нас нет полной уверенности в том, какие именно.
Есть и еще одно удручающее соображение относительно изображения Будды в Палийском каноне: он не содержит хронологически последовательного описания его биографии. Короткие эпизоды из его жизни вкраплены в канву проповедей и наставлений и служат лишь прологом к очередной доктрине или правилу. В некоторых своих беседах с учениками Будда и сам упоминает о прошлых событиях своей жизни и о той поре, когда он достиг просветления. Но в Палийском каноне нет ничего, что хотя бы отдаленно было сопоставимо с детально прописанными хронологически построенными жизнеописаниями Моисея или Иисуса, какие можно найти в священных книгах иудаизма и христианства. Несколько позже буддисты тоже составили подробную последовательную биографию своего Учителя – имеется в виду тибетская Лалита-вистара (III в. н. э.) и палийская Ниданакатха (V в. н. э.) в форме комментариев к историям, содержащимся в Джатаке. Комментарии к Канону, которым окончательную форму придал Буддхагхоса (V в. н. э.), последователь школы Тхеравада, также помогают хронологически упорядочить разрозненные и хронологически непоследовательные упоминания о событиях в жизни Будды. Но и эти подробные жизнеописания грешат пробелами. В них почти ничего не говорится о большом отрезке жизни Будды – почти 45 годах его проповедничества после просветления. Так, Лалита-вистара завершается первой проповедью Будды, а Ниданакатха – моментом основания первого буддийского поселения в Саваттхи, столице царства Кошалы. А примерно о 20 годах его жизни вовсе нет никаких сведений.
Все эти факты вроде бы подтверждают точку зрения тех буддологов, которые отрицают гипотезу о существовании Гаутамы как реального исторического лица. Верно и то, что жители Северной Индии той поры интересовались не столько историей в нашем сегодняшнем понимании, сколько смыслом исторических событий. В итоге их священные тексты почти не проливают света на то, что большинству современных людей на Западе кажется заслуживающим упоминания. Поэтому нельзя точно сказать, в каком веке жил Будда. Традиционно его смерть датируется примерно 483 г. до н. э., но китайские источники оспаривают это, указывая на 368 г. до н. э. Так стоит ли вообще озабочиваться по поводу биографии Гаутамы, если сами буддисты так мало знают о его жизни?
Однако все не так просто. Современные ученые полагают, что поздние подробные жизнеописания Гаутамы основываются на более ранних источниках, составленных еще во времена второго собора и ныне утраченных. Более того, священные буддийские книги свидетельствуют, что первые последователи буддизма подвергали глубокому осмыслению ряд ключевых моментов биографии Гаутамы – его рождение, отрешение от мирской жизни, просветление, начало проповедничества и смерть. Эти события, по их мнению, были исполнены огромной важности. И если относительно некоторых эпизодов жизни Гаутамы мы блуждаем в потемках, то по поводу основной канвы его жизни, заданной этими ключевыми событиями, никаких сомнений быть не может. Сам Будда всегда делал акцент на том, что его учение основывается исключительно на его собственном жизненном опыте. Он не заимствовал чужих идей, равно как не пытался строить абстрактную теорию. В основе всех его умозаключений лежал только опыт пережитого им лично. Чтобы стать пробужденными, говорил ученикам Гаутама, нужно поступить, как он в свое время: отказаться от семьи и дома, уйти в монашество и освоить ментальную дисциплину йоги. Так что жизнь Гаутамы и его учение неразрывно связаны. Его философия была отчетливо автобиографической, и его жизненный путь приводится священными буддийскими текстами и комментариями в качестве образца и вдохновляющего примера для его последователей. Как говорил сам Гаутама, «Тот, кто видит меня, видит Дхарму, а тот, кто видит Дхарму, видит меня».
В определенном смысле это справедливо и в отношении любой ключевой фигуры любой из религий. Так, современные исследования текста Нового Завета показали, что на самом деле мы знаем об исторической личности по имени Иисус Христос гораздо меньше, чем нам всегда представлялось. «Евангельские истины» не столь достоверны, как мы привыкли думать. Но это не мешает миллионам людей принимать жизнь Христа за образец и почитать его стезю милосердия и страдания как путь к новой жизни. Иисус, конечно же, реально существовал, хотя история его жизни описана в Евангелии довольно схематично. И все же христиане перед лицом собственных жизненных горестей всегда обращаются помыслами к Христу. Полностью же постичь его учение возможно только после определенной нравственной трансформации. То же справедливо и в отношении Будды, который до начала ХХ столетия был, вероятно, самым влиятельным духовным учителем всех времен. Полторы тысячи лет его учение процветало в Индии, позже распространившись на Тибете, в Центральной Азии, Китае, Корее, Японии, Шри-Ланке и Юго-Восточной Азии. Для миллионов людей он оставался фигурой, которая воплощала в себе смысл человеческого бытия.
Отсюда напрашивается вывод, что, изучая жизнь Будды, которая неразрывно связана с его учением, мы сможем постичь и причину человеческого страдания вообще. Правда, здесь речь идет не о биографии в том виде, к какому мы привыкли сегодня, в XXI в. Та биография, которую я имею в виду, не ставит задачей отделить реальные события от вымысла или отыскать новые факты из жизни Будды – ни об одном из событий его жизни, упомянутых в самих буддийских источниках, мы не можем с уверенностью сказать, что оно достоверно. Единственный не вызывающий сомнений факт – само существование легенды, и мы должны принять ее целиком, в том виде, в каком она сложилась к моменту, когда палийские тексты обрели более или менее четкие очертания, а именно – спустя примерно столетие после кончины Будды. Многим сегодняшним читателям какие-то аспекты этой легенды покажутся небылицами – истории о богах и дивных чудесах плавно вплетаются в общую канву повествования об обыденно-житейских и исторически вполне правдоподобных событиях из жизни Будды. В современной исторической критике укоренилась практика без разбора относить все факты или события, хоть как-то связанные с чудесами и сверхъестественным, к разряду более поздних домыслов. Поступив аналогичным образом с Палийским каноном, мы рискуем извратить легенду. Как мы можем быть уверены, что события, на наш взгляд, более или менее правдоподобные, в большей степени присущи исходному варианту легенды, чем так называемые знамения и чудеса? Монахи-буддисты, которые создавали Канон, безусловно, верили в богов, даже если считали их существами не вполне реальными и, как мы увидим дальше, начинали воспринимать богов как плод проецирования субъективного психологического состояния. Кроме того, монахи верили, что постигшим вершины йоги доступны сверхъестественные, магические способности (иддхи). Упражнения в йоге тренируют разум, даруя ему способность к выдающимся небывалым свершениям – точно так же, как отменная физическая форма олимпийского атлета позволяет ему делать то, что не под силу простому человеку. Считалось, что тренированный йог обладает способностью к левитации, чтению чужих мыслей и путешествиям по иным мирам. Вполне допустимо, что монахи, которые компилировали Канон, приписывали Будде подобные возможности, даже если сам он с предубеждением относился к иддхи, полагая, что подобных практик следует избегать. Как мы увидим далее, «истории о чудесах» зачастую служат у него своего рода предостережением и рассказываются единственно с целью продемонстрировать бесцельность таких духовных упражнений.
Многие из сказаний и легенд Палийского канона имеют аллегорический или символический смысл. Ранних буддистов гораздо больше занимала значимость событий, нежели точность исторических деталей. Мы увидим, что в появившихся позднее жизнеописаниях Будды имеются иные, и притом более подробные, описания многих эпизодов. Например, в том, что приводится в Ниданакатхе, такие важные события, как решение Гаутамы покинуть отчий дом или процесс обретения им просветления прописаны гораздо подробнее по сравнению с более скудным формальным описанием этого события в Палийском каноне. Сказания более позднего времени к тому же более насыщены мифологическими элементами, нежели Канон: в них появляются боги, содрогается в знак подтверждения слов Будды земля, волшебным образом сами собой открываются ворота дворца. Еще раз повторюсь – было бы ошибкой считать, что эти события с участием магических сил являются позднейшими домыслами к первоначальной легенде о Будде. Резоннее предположить, что эти более упорядоченные биографии основываются на утраченных жизнеописаниях Будды, которые были скомпилированы примерно в тот же период, когда окончательно сформировался Палийский канон – спустя столетие после смерти Будды. Древних буддистов наверняка нисколько не заботило, что эти истории с откровенно сказочными деталями отличаются от тех, что приводятся в Каноне. Они отнеслись бы к ним просто как к иному толкованию известных событий, подчеркивающему их нравственный и психологический подтекст.
И все же появление на сцене мифов и чудес явно говорит о том, что даже тхеравадины, последователи школы Тхеравада, которая настаивала на трактовке образа Будды всего лишь как наставника и образца для подражания, уже тогда начинали видеть в нем сверхчеловека, супермена, как сказали бы мы. Другая, более распространенная школа буддизма, Махаяна, фактически обожествляет Будду. Раньше было принято считать, что Тхеравада представляет собой более чистую форму буддизма, а Махаяна – это ее извращенный вариант, однако современные буддологи признают аутентичность обеих школ. Тхеравада особо акцентировала важность практики йоги и превозносила монахов, которые сумели стать архатами, т. е. стать «совершенными», достигшими, как и Будда, просветления. Со своей стороны, Махаяна, которая почитает Будду как олицетворение высшего духовного начала, изначально присущего каждому человеку, и как объект поклонения, проповедовала и другие духовные ценности, которые акцентируются палийским каноническим текстом, в особенности – важность сострадания. С точки зрения Махаяны, учение Тхеравады было слишком сокровенным, предназначенным для «немногих», избранных. В рамках Тхеравады архаты, «обладающие совершенным знанием», заботились только о собственном освобождении и достижении просветления. Махаяна же избрала для почитания фигуру бодхисатвы – мужчин и женщин, которым предназначено стать буддами, но чье просветление отложено на время, пока они доносят свет учения буддизма «до многих». А это, как мы еще увидим, позиция, очень сходная с восприятием роли монахов самим Гаутамой. Таким образом, каждая из двух школ усвоила ценные добродетели; возможно также, что каждая школа какие-то добродетели утратила.
Гаутама не приветствовал личное поклонение, культ, однако многим известным духовным лидерам – Гаутаме, Сократу, Конфуцию и Иисусу – поклонялись как богам или существам высшего порядка. Даже пророк Мухаммед, который всегда настаивал, что он – простой обычный человек, почитается мусульманами как Совершенный человек, воплощение полной покорности воле (ислама) Аллаха. Жизнь и деяния этих личностей явно отличаются от жизни обычных людей. Легенда о Будде в Палийском каноне указывает, что описанные в ней события действительно происходили с Гаутамой, и хотя в буквальном смысле все эти чудеса не могут быть правдой, они раскрывают нам некие важные истины о духовной сущности человека. Подобно Иисусу, Мухаммеду и Сократу, Будда учил людей, как выйти за пределы реального мира с его страданиями, преодолеть суетность и погоню за иллюзорным и постичь вечные духовные ценности. Каждый из них старался сделать существование человека более осознанным, пробудить к жизни его полный человеческий потенциал. Неудивительно, что биография личности такого порядка, впоследствии канонизированной, не может удовлетворять стандартам достоверности современной исторической науки. В то же время, изучая архетип личности, о которой трактуют Палийский канон и комментарии к нему, мы больше узнаем о духовных устремлениях человека, обретаем новое понимание его предназначения. Эта хрестоматийная сказочная история дает нам контуры иной истины о месте и судьбе человека в несовершенном страждущем мире.
Однако с биографией Будды связан еще один ряд сложностей. Обратимся, например, к Иисусу – в Евангелии он представлен как человек, обладающий ярко выраженной индивидуальностью с присущими ему элементами личностного своеобразия. Ему свойственны свой строй речи и характерные обороты, он подвержен страстям, переживает моменты эмоционального взлета, вспышки раздражения, страха. В этом смысле Будда представляет разительный контраст – это скорее тип личности, нежели индивидуум, живой человек. В его высказываниях и наставлениях мы не встретим насмешки или колкостей, резких выпадов или острот, которые так привлекательны в речах Иисуса или Сократа. Будда говорит так, как того требует индийская философская традиция: торжественно, церемонно и бесстрастно.
У нас никаких сведений о симпатиях и антипатиях, которые он приобрел после просветления, о том, какие страхи и надежды он питал, были ли у него моменты отчаяния, восторга или напряженной внутренней борьбы. От его описания остается впечатление сверхъестественной безмятежности и спокойствия, самоконтроля, величия и полной невозмутимости. Не по этой ли причине Будду часто сравнивают с существами, не относящимися к человеческому роду – с животными, деревьями, растениями? Сравнивают не потому, что он бесчувствен или недостоин звания человека, а в силу того, что ему удалось окончательно преодолеть эгоцентризм, неотъемлемое свойство человеческой природы. А Будда просто искал новые способы существования человеческой личности. У себя на Западе мы привыкли превозносить индивидуализм и самовыражение, и это может легко перейти в самую вульгарную саморекламу. В личности Гаутамы мы находим полное и поразительное забвение себя, отречение от своего «я». Вряд ли бы он сильно удивился, узнав, что в своде текстов, трактующих его учение, он не представлен как самобытная уникальная личность в полном смысле этого слова. Напротив, он непременно назвал бы наше представление об уникальности его личности опасным заблуждением, добавив, что в его жизни нет ничего, что было бы недоступно другому человеку. Были и другие будды до него, и каждый проповедовал дхамму и получил схожий жизненный опыт. Согласно буддийским источникам, в мир приходило уже 25 подобных просветленных, и в следующую историческую эпоху, когда знание этой непреходящей истины утратится, на землю придет новый Будда, Майтрея или «Грядущий Будда», который пройдет ту же цепь перерождений. И столь глубоко это представление о Будде как об архетипе, что даже, пожалуй, самое широко известное из описанных в Ниданакатхе событий в жизни Будды – его уход из родительского дома в монашество – приписывается Палийским каноном одному из предшественников Гаутамы, Будде Випашьине. Так что канонические тексты буддизма сосредоточивались не столько на точном воспроизведении перипетий судьбы Гаутамы и его личных свершениях, сколько на том, чтобы очертить общую траекторию жизненного пути, по которому должны следовать все будды и все простые миряне в поисках просветления.
В наши дни история Гаутамы приобретает особую актуальность. Подобно Северной Индии IV–V вв. до н. э., мы живем в эпоху глубоких перемен и трансформаций. И, как древние индийцы, сталкиваемся с тем, что освященные веками традиции духовной практики перестали служить путеводной нитью в поисках глубинного смысла нашей жизни. Мы все больше ощущаем нечто вроде духовного вакуума. Как когда-то Гаутама, мы живем во времена политического насилия, ужасающие всплески варварской бесчеловечной жестокости то и дело врываются в нашу жизнь. К тому же постоянно усиливается психологический дискомфорт – чувство тревоги, ощущения одиночества и неудовлетворенности стали непременными атрибутами нашего общества. Размываются привычные жизненные ориентиры, распадается система ценностей. Все чаще нас охватывает страх перед рождающимся на наших глазах новым миропорядком.
Многие аспекты духовных исканий Будды созвучны духу нашего времени. Единственным источником знания Будда признавал личный чувственный опыт, абсолютизируя его, и этот скрупулезный эмпиризм чрезвычайно созвучен с прагматическим настроем западной культуры. А его требование интеллектуальной и личной независимости еще более усиливает эту близость. У тех наших современников, кому чужды представления о Боге как о сверхъестественной силе, особенный отклик вызовет то, что Будда отрицал наличие Высшего существа. Его духовные поиски сосредоточивались исключительно на познании собственной человеческой сущности, недаром он всегда настаивал, что его духовный опыт, и даже осознание высшей Истины нирваны, – вещь для человеческой природы абсолютно естественная. Тем же, кого отвращает нетерпимость некоторых форм институциональной религиозности, будут особенно импонировать проповедуемые Буддой сострадание и милосердие.
Вместе с тем в личности Будды можно усмотреть и своего рода вызов всем нам – ведь действовал он куда радикальнее, чем готово большинство из нас. В общественной жизни сейчас исподволь укореняется новая традиция, которую иногда называют позитивным мышлением. В самом худшем своем проявлении это такой оптимистический настрой, который узаконивает инстинктивное желание отгородиться от житейских невзгод, отрицая, что мы сами и мир вокруг нас полны боли. Это означает отринуть милосердие и заключить душу в оковы бессердечия в надежде обеспечить себе эмоциональное благополучие. У Будды, однако же, вряд ли было время на подобные экзерсисы. Напротив, он был убежден, что духовная жизнь начинается, только когда человек раскрывает душу навстречу страданиям окружающего мира, осознает, сколь они повсеместны в жизни человека, и учится ощущать боль других, даже тех, кто чужд ему по духу. Верно и то, что многие из нас не готовы к тем высотам самоотречения, до каких возвысился Будда. Умом мы осознаем, что эгоизм – это плохо. Известно нам и то, что все великие мировые религии – и не только буддизм – требуют подняться над собственным эгоистическим самосознанием. Но в своих усердных поисках освобождения – хоть в религиозном плане, хоть в житейском – мы лишь укрепляем осознание собственного эго. Многое из того, что считается религиозным, на самом деле призвано «подпереть» и усилить наше эго – то самое, к забвению которого призывали основатели вероучений. Пребывая в шорах своих заблуждений, мы думаем, что личность вроде Будды, которая окончательно и не без жестокой внутренней борьбы истребила в себе самые корни эгоизма, непременно должна была превратиться в существо бесчувственное, мрачное, лишенное искры юмора и веселости.
Но Будда, похоже, таким не был. Вполне возможно, что он временами бывал бесстрастен, но обретенное им состояние духа оказывало на всех, кто с ним соприкасался, огромное эмоциональное воздействие. Был он до такой степени неизменно и даже неумолимо добр, справедлив, спокоен, невозмутим, бесстрастен и безмятежен, что это поневоле затрагивало самые сокровенные струны человеческой души, отвечало самым сокровенным чаяниям. Его бесстрастное спокойствие не отпугивало, беспристрастность, с какой он отказывался делать различия между людьми, не отвращала – напротив, люди тянулись к нему, толпами стекались со всех сторон.
Посвящая себя образу жизни, который Будда предписывал страждущему человечеству, люди говорили, что «приняли прибежище» в Будде. Это была тихая гавань умиротворения в жестоком мире воинствующего эготизма. Об этом говорится в одной из самых трогательных историй Палийского канона. Один владыка-царь, пребывая в состоянии глубочайшего уныния, отправился на прогулку в парк, где произрастали огромные тропические деревья. Он вышел из своей колесницы и углубился в чащу, ступая между гигантскими корнями вековых деревьев. Некоторые корни вздымались над землей на высоту человеческого роста. И вдруг царь почувствовал, что их вид «вселяет в него надежду и уверенность». «Их окутывала тишина, которой не нарушало неблагозвучие посторонних голосов, они источали ощущение оторванности от обыденного мира, поистине это было место, где можно найти прибежище от людей» и укрыться от жестокостей жизни. Созерцая эти удивительные старые деревья, царь немедленно вспомнил Будду. Он вскочил в поджидавшую его колесницу и направился к месту, где в то время пребывал Будда{1}. А ведь поиски уединенного места, где царят справедливость и покой, места, которое способно наполнить нас верой в то, что наперекор всем житейским напастям, жизнь наша все же обладает ценностью, – не что иное, как то, чего многие жаждут обрести в понятии, именуемом «Бог». И многие, глядя на личность Будды, который преодолел эгоистическое самосознание и освободился от присущих человеку желаний и страстей, похоже, осознавали, как божественное воплощается в человеке. Жизнь Будды бросает вызов некоторым из самых укоренившихся наших представлений, но вместе с тем она может служить и путеводной звездой для нас. Возможно, нам не под силу в полной мере следовать предписанному им методу достижения истины, но пример его жизни высвечивает нам пути, идя которыми возможно усовершенствовать свою человеческую сущность и облагородить ее состраданием.
1. Отречение
Как-то раз вечером в один из дней ближе к концу VI в. до н. э. некий молодой человек по имени Сиддхартха Гаутама покинул славившийся изобилием и роскошью отчий дом в городе Капилаватсу у подножья Гималаев (на границе современных Индии и Непала) и ушел в скитальчество{2}. По дошедшим до нас сведениям, было ему тогда 29 лет. Отец Гаутамы, один из богатейших людей в своей местности, с детства окружал сына роскошью и всеми земными благами, каких тот только мог пожелать. У Гаутамы была жена, несколько дней назад подарившая ему сына, – однако молодого отца это совсем не порадовало. Он дал младенцу имя Рахула, что означает «оковы, неволя», потому что считал, что из-за ребенка обречен влачить жизнь, которая уже стала ему ненавистна{3}. Он жаждал «жизни открытой» и «такой совершенной, святой и чистой, словно отполированная раковина». Окруженный роскошью и великолепием в отчем доме, Гаутама чувствовал, что родные стены давят и стесняют его, что вокруг слишком много народу, что там поселилась «скверна». Ему казалось, что атмосфера дома пропитана духом мелочных забот и бессмысленных, обременительных обязанностей. В душе его крепло стремление к существованию, не отягощенному семейными узами и тихими домашними радостями, – тому, что аскеты Индии привыкли называть скитальчеством{4}. В те времена тысячи мужчин и иногда даже женщины в поисках того, что они называли праведной жизнью (брахмачарья), навсегда покидали свои семьи и становились аскетами, благо изобильные тропические леса, вскормленные плодородными почвами в долине Ганга, обеспечивали их естественным приютом. Такому пути решил последовать и Гаутама.
Решение Гаутамы было продиктовано возвышенными чувствами, но оно принесло много страданий тем, кто его любил. Как он припоминал позднее, его родители обливались слезами, глядя, как их обожаемый сын облачается в желтое одеяние, ставшее традиционной одеждой отшельников-аскетов, сбривает волосы и бороду{5}. Однако по другим сведениям, прежде чем навсегда покинуть отчий дом, Гаутама тихо поднялся в спальню, где почивали его жена и новорожденный сын, бросил на них прощальный взгляд и, не говоря ни слова, удалился{6}. Выглядело это так, будто Гаутама, не до конца поборов сомнения в правильности своего шага, опасался, что не сможет устоять, если жена станет умолять его остаться. И это было ключевым моментом, поскольку, подобно многим монахам-отшельникам, Гаутама верил, что именно любовь к вещам и людям обрекает его на существование, полное боли и страданий. Отшельники почитали этот род привязанности и жажды обладания преходящими ценностями за «скверну», которая отягощает душу, не давая ей устремиться к вершинам познания Вселенной. Может быть, именно это имел в виду Гаутама, утверждая, что его дом «нечист, полон скверны»? В обычном смысле дом его отца, конечно, никак нельзя было назвать нечистым, но он был полон людьми, к которым Гаутама испытывал сердечную привязанность, и вещами, которыми он дорожил. И если он жаждал жизни беспорочной и чистой, надо было разорвать эти оковы и стать свободным. С самого первого момента Сиддхартха Гаутама принял за аксиому, что жизнь в семейном кругу несовместима с высшими формами духовности. Такие взгляды бытовали не только среди индийских аскетов – их разделял и Иисус Христос, который сказал тем, кто хотел стать его последователями, что им придется отказаться от семейных уз, оставить своих детей и престарелых родственников{7}.
Можно догадываться, что Гаутама не приветствовал бы наш сегодняшний культ «семейных ценностей» – точно так же, как и некоторые из его современников или почти современников в других частях мира, например Конфуций (551–479 гг. до н. э.) и Сократ (469–399 гг. до н. э.). Несомненно, они тоже не были поклонниками семейного образа жизни, но, как и Гаутама, стали культовыми фигурами духовного и философского развития человечества своей эпохи. В чем же корни этого неприятия? Буддийские скульптуры более позднего времени дают некоторую трактовку причин отрешения Гаутамы от мирского и «ухода прочь из дома», подводя под них мифологическое обоснование. Об этом мы поговорим чуть позже. Однако что касается более ранних буддийских текстов, в частности Палийского канона, то он дает более приземленную версию причин, побудивших молодого Гаутаму к этому шагу. Столкнувшись с реалиями жизни, Гаутама увидел в ней лишь мрачный цикл страданий, на которые обречен человек, начиная с мук рождения, за которыми неотвратимо следуют такие беды, как «старение, болезни, смерть, скорбь по ушедшим, распад и тлен»{8}. Сам Гаутама тоже не мог избежать общей печальной участи. Пускай в то время он был молод, здоров и полон сил, но, всякий раз обращаясь мыслями к грядущим страданиям, он утрачивал всю радость жизни и пыл молодости. В такие моменты роскошь и довольство, в которых протекала его жизнь, представлялись бессмысленной и ничтожной суетой.
Он устал от ощущения внутреннего протеста, рождавшегося в его душе всякий раз при виде согбенного тяжестью лет немощного старика или страдальца, обезображенного ужасной болезнью. Притом Гаутама понимал, что такая же или еще более горшая участь уготована всем тем, кого он любит{9}. Родители, жена, новорожденный сын, друзья – все они были так же невечны и уязвимы для страданий и горя. Испытывая привязанность к ним, болея за них душой, Гаутама, как он понимал, расточал чувства на то, что впоследствии принесет ему одни только страдания и горечь утраты. Жена с годами утратит красоту, а хрупкая жизнь маленького Рахулы может оборваться уже завтра. Искать счастья в бренном и преходящем было не только неразумно: горести и беды, уготованные в будущем близким людям и ему самому, омрачали настоящее, лишали Гаутаму радости жизни и счастья общения с родными и друзьями.
Но почему же Гаутама видел жизнь в таком мрачном свете? Человеку трудно смириться с тем, что он смертен. Человек – единственное из живых существ, которому дано знание о том, что в назначенный срок он умрет. И ему всегда было невыразимо трудно смириться с мыслью о грядущей немощи, а потом и угасании. И все же большинство людей находят некоторое утешение в привязанностях, которые также cоставляют неотъемлемую часть человеческой жизни. Некоторые, подобно страусу, предпочитают зарыть голову в песок и не терзаться раздумьями о горестях мира – что довольно неумно, потому что такая абсолютная неподготовленность может обернуться тем, что трагедия жизни рискует стать для нас губительной. С самых давних времен люди, призывая на помощь религию, создавали представления о неком конечном смысле жизни, невзирая на удручающие свидетельства обратного. Но временами мифы и культ веры оказывались несостоятельными, и тогда люди пытались найти иные способы вырваться из тисков страдания и разочарований повседневной жизни – уходя с головой в искусство, секс, наркотики, спорт, философию. Так уж мы, люди, устроены, что легко впадаем в отчаяние, а потому требуется приложить немало усилий, чтобы родить в душе веру в то, что жизнь хороша, несмотря на окружающие нас боль, жестокость, болезни и несправедливости. Можно было бы подумать, что, когда Гаутама решил отречься от мирской жизни, он утратил способность мириться с горечью жизни и впал в самую настоящую депрессию.






