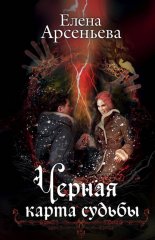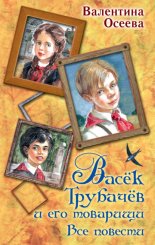Грозовой перевал Бронте Эмили

© Грызунова А., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
Глава I
Год 1801. Только что возвратился, посетив своего домовладыку – одинокого соседа, коему предстоит тревожить мой покой. Восхитительные здесь края. Во всей, представляется мне, Англии не найдется мест, столь совершенно удаленных от сумятицы общества. Рай мизантропа; и нам с господином Хитклиффом вполне пристало делить подобное уединенье. Превосходный человек! Едва ли он постигал, сколь потеплел я к нему душою, узрев, как черные его глаза подозрительно спрятались под бровями, когда я подгарцевал ближе; как пальцы его с ретивой решимостью глубже погрузились в карманы жилета, когда я представился.
– Господин Хитклифф? – осведомился я.
Кивок был мне ответом.
– Я Локвуд, сэр, ваш новый жилец. Почитаю за честь прибыть немедленно по приезде, дабы выразить надежду, что не затруднил вас, упорствуя в своем намерении арендовать Скворечный Усад, – вчера я слышал, у вас имелись некие соображенья…
– Я, сэр, в Скворечном Усаде хозяин, – перебил он меня, поморщившись. – И затруднить меня затруднительно, если я могу сие предотвратить… входите!
«Входите» он процедил сквозь зубы, имея в виду рекомендовать мне катиться к чертям, и даже ворота, разделявшие нас, слов его не поддержали и не дрогнули; полагаю, однако, что обстоятельства потребовали от меня принять приглашенье – человек, являвший замкнутость еще нарочитее моей, пробудил во мне интерес.
Обнаружив, что лошадь моя положительно таранит препону грудью, он соизволил шевельнуть рукою и отворить ворота, первым угрюмо зашагал по мощеной дорожке и, ступив на двор, окликнул:
– Джозеф, уведи лошадь господина Локвуда; да принеси нам вина.
«Иных домочадцев здесь, по видимости, не имеется, – вот какое наблюденье подсказал мне порядок в сем доме. – Нечего и дивиться, что на дорожке меж плит пробивается трава, а изгородь стригут лишь овечьи зубы».
Джозеф был немолод – паче того, престарел, и даже, вероятно, очень стар, однако жилист и крепок.
– Осподи помоги! – не без сварливого неудовольствия воззвал он, принимая у меня поводья моей лошади и между тем взирая мне в лицо весьма кисло; милосердие понудило меня предположить, что слуге не обойтись без Божьей помощи в рассуждении пищеваренья, а благочестивый возглас его не имеет касательства к моему внезапному визиту.
Громотевичная Гора – вот как зовется обиталище господина Хитклиффа, говоря же проще – Грозовой Перевал. «Громотевичная» – таким образным манером на местном диалекте описывают атмосферные треволненья, коим в бурную непогодь подвержено сие жилище. Сколь неизменно чист и свеж здесь эфир: о мощи северного ветра, что задувает из-за утеса, нетрудно догадаться по крутому наклону редких корявых елей на задах и по веренице чахлых боярышников, что тянут ветви в одну лишь сторону, будто алча солнечной милости. По счастью, архитектору достало дальновидности сложить дом на славу: узкие окна глубоко утопают в стене, а углы укреплены рустами.
У порога я помешкал, залюбовавшись гротесковой резьбою, обильно украшавшей фасад и всего более – парадную дверь, над каковою средь полчищ крошащихся грифонов и бесстыжих младенцев мужеского полу я разглядел дату «1500» и имя «Хэртон Эрншо». Я бы отпустил замечанье-другое и испросил у хмурого владельца краткую историю поместья, однако тот воздвигся в дверях, по видимости, побуждая меня к поспешному вступлению в дом либо срочному отбытию, а я не питал желания приумножать его гнев прежде, нежели осмотрю святая святых.
Первым же делом мы шагнули в семейную гостиную, не предваренную ни прихожей, ни коридором: в здешних местах это помещенье главным образом и называют «домом». Обычно тут же располагаются кухня и салон; однако, по моему впечатлению, в Громотевичной Горе кухню оттеснили в иные пределы – по крайней мере, из глубин я уловил болтовню и звон столовых приборов, а в громадном очаге не обнаружил ни малейших признаков жарки, варки или же выпечки и равно не заметил проблесков медных кастрюль и жестяных ковшей по стенам. У одной стены, впрочем, свет и жар замечательно отражались от громадных оловянных блюд, перемежаемых серебряными кувшинами и кружками, что рядами высились на огромном дубовом буфете под самую крышу. Эта последняя лишена была потолка: вся ее анатомия открывалась пытливому взору, лишь отчасти заслоняемая деревянными балками, кои были обременены овсяными лепешками и гроздьями говяжьих ног, свиных окороков и баранины. Над очагом располагались во множестве грозные старые ружья и пара кавалерийских пистолетов; три размалеванные жестянки, установленные на полке, служили орнаментацией. Пол – гладкого белого камня; стулья – с высокими спинками, грубой работы и выкрашены зеленым; черное кресло-другое таилось в тени. В нише под буфетом лежал громадный пойнтер – сука шоколадного окраса в окружении обильного визжащего помета; в прочих укромных углах хоронились другие собаки.
Сии апартаменты и обстановка прекрасно подошли бы непритязательному северному фермеру, обладателю упрямой гримасы и крепких рук, что трудится к собственному благу, оных рук не покладая и облачившись в бриджи с подтяжками. Улучив подходящую минуту после обеда, подобную личность в кресле за кружкою пенного эля на круглом столике узришь, прогулявшись меж этих холмов миль на пять или шесть в любую сторону. Однако господин Хитклифф составляет выдающийся контраст своему жилищу и укладу. Лицом он смуглый цыган, нарядом и повадками джентльмен – говоря точнее, джентльменством едва ли уступит многим сельским сквайрам: пожалуй, неопрятен, хотя небрежность его скрадывается чопорной фигурою и красивым сложеньем; к тому же он весьма угрюм. Кое-кто заподозрит в нем, вероятно, нечистокровную заносчивость, но сочувственные струны во мне противятся сему допущенью: я инстинктивно постигаю, что сдержанность его происходит из нежеланья выставлять чувства напоказ – обнаруживать взаимную доброту. Он равно склонен любить и ненавидеть скрытно и ответную любовь или же ненависть сочтет проявлением дерзости. Нет, я слишком тороплюсь: чрезмерно щедро наделяю его чертами собственного нрава. Быть может, господина Хитклиффа воздерживаться от рукопожатия при встрече с будущим знакомцем побуждают решительно иные мотивы, нежели движут мною. Оставьте мне надеяться, что склад моего характера едва ли не своеобычен: как говаривала моя дражайшая матушка, не найдется пристанища, где я смогу преклонить главу, и лишь минувшим летом я оказался совершенно подобного пристанища недостоин.
Проводя отрадный погожий месяц на побережье, я волею судьбы очутился в обществе восхитительного созданья: она виделась мне подлинной богиней, пока не замечала меня. Вслух я «чувств своих не раскрыл», однако, если б заговорили взоры, даже распоследний идиот догадался бы, что я влюблен по уши; в конце концов она поняла меня, послала ответный взор – и невозможно было вообразить взора нежнее. Но что же сделал я? Каюсь со стыдом: улиткою забрался холодно в раковину, в ответ на всякий следующий взгляд отступал все холоднее и дальше, пока несчастное невинное дитя не усомнилось в собственном рассудке и, придя в смятенье пред лицом якобы ошибки, не убедило свою мать сняться с лагеря. Сия любопытная причуда характера заслужила мне репутацию расчетливой бессердечности, и лишь мне одному ведомо, сколь незаслуженно подобное сужденье.
Я сел обок от очага, в углу, противоположном тому, к коему направился мой домовладыка, и заполнил повисшую паузу, отважившись погладить собачью мамашу – та бросила своих отпрысков и волчьим манером подбиралась с тыла к моим ногам, задрав губу и голодно роняя слюну с клыков. Моя ласка исторгла из нее продолжительный утробный взрык.
– Не трогали бы вы псину, – в унисон с нею проворчал господин Хитклифф, пинком предотвратив дальнейшие изъявления свирепости. – Ее не балуют и за комнатную собачку не держат, она к такому не привычна. – И затем, шагнув к боковой двери, снова крикнул: – Джозеф!
Джозеф откликнулся невнятным бормотаньем из глубин подпола, однако не выказал намерения подняться, и посему хозяин его низвергся в глубины сам, оставив меняvis-a-vis со злобной сукой и парой грозных кудлатых овчарок, кои вместе с нею ревниво стерегли малейшее мое движенье. Не желая накоротке познакомиться с их клыками, я сидел неподвижно, однако, решив, что сие трио вряд ли понимает бессловесные оскорбленья, принялся, увы, подмигивать им и корчить рожи, а некая перемена моего лица так прогневила мадам, что та внезапно озверела и скакнула мне на колени. Я отпихнул ее и поспешно отгородился столом. Сей поворот разворошил весь улей: к средоточию кутерьмы из разнообразных тайных убежищ восстали полдюжины четвероногих друзей всевозможных размеров и возрастов. Ощущения говорили мне, что атаке подвергаются главным образом мои пятки и фалды; кочергой в меру сил отбиваясь от противников покрупнее, я принужден был громко воззвать к кому-нибудь из домочадцев, дабы пришли и восстановили мир.
Господин Хитклифф со слугой взбирались по подвальной лестнице с досадной флегматичностью; мне представляется, шаг их не ускорился ни на секунду, хотя вокруг очага стоял лай и положительно бушевала буря. По счастью, кухонная прислуга оказалась расторопней: дородная дама с заправленным подолом, оголенными руками и пылающими щеками ворвалась к нам на поле боя, размахивая сковородой; применив свое оружие, а равно свой язык, дама как по волшебству утишила ураган, и когда появился хозяин дома, на сцене пребывала она одна – волнуясь всем телом, точно море после шторма.
– Это что тут за дьявольщина? – осведомился господин Хитклифф, меряя меня взглядом, коего я после столь нерадушного приема снести не мог.
– Дьявольщина, иного слова не подобрать! – буркнул я. – Ваши твари, сэр, похуже стада одержимых свиней[1]. Отчего ж было не оставить гостя в обществе тигров?
– Кто ничего не трогает, того и они не тронут, – заметил он, поставив передо мною винную бутыль и поправив сдвинутый стол. – Собаки молодцы, хорошо стерегут. Угодно вина?
– Нет, благодарю.
– Не покусали вас?
– Если бы покусали, так легко бы не отделались.
Лицо Хитклиффа расплылось в улыбке.
– Ну полноте, господин Локвуд, – молвил он, – вы переволновались. Вот, выпейте вина. Наш дом так редко навещают – я вполне готов признать, что мы с собаками едва ли помним, как надлежит оказывать гостям прием. Ваше здоровье, сэр?
Наклонив голову, я ответил ему той же здравицей, сообразив, что глупо было бы сердиться на выходки собачьей своры; кроме того, не хотелось, чтобы этот человек и дальше находил во мне предмет для забавы, раз на него нашел подобный стих. Он – надо полагать, благоразумно рассудив, что незачем обижать хорошего жильца, – слегка оттаял и, уже не столь лаконически опуская местоимения и вспомогательные глаголы, поднял тему, коей предполагал меня заинтересовать, – а именно заговорил о достоинствах и недостатках моего нынешнего места обитания. В беседе он явил острый ум; и перед отъездом я расхрабрился настолько, что испросил дозволения повторить визит назавтра. Было очевидно, что нового моего вторженья он не желает. Я тем не менее поеду. В сравнении с ним я на диво общителен.
Глава II
Вчера пополудни день заволокло туманом и холодом. Я отчасти склонялся не брести по вереску и грязи в Громотевичную Гору, а остаться в кабинете у камина. Однако, отобедав (N.B.: обедаю я в первом часу дня; экономка, почтенная женщина, прилагавшаяся к дому беспременным его атрибутом, неспособна либо не желает постичь мою просьбу подавать обед в пять), взойдя по лестнице во власти помянутого стремленья к лености и вступив в комнату, я узрел служанку, что на коленях, обложившись щетками и ведерками для угля и поднимая адскую пыль, горами золы тушила пламя в камине. Зрелище сие тотчас погнало меня прочь; я взял шляпу и, прошагав четыре мили, прибыл к садовым воротам Хитклиффа, как раз успев избегнуть первых пушистых хлопьев снегопада.
Почернелая земля на сей унылой вершине закаменела от мороза, и на холоде я дрожал каждым членом своим. Снять цепь мне не удалось, а посему я перескочил ворота, взбежал по мощеной дорожке, там и сям обсаженной крыжовником, и затем стучался в дверь, пока не заболели костяшки и не взвыли собаки; вотще.
«Будь прокляты обитатели сего дома! – про себя воскликнул я. – Столь грубой неприветливостью вы заслужили вечного отлученья от себе подобных. Я-то хотя бы не запираю двери днем. Все равно – внутрь я пробьюсь!» – Преисполнившись такой решимости, я схватился за дверную рукоять и рьяно потряс. Из круглого амбарного окошка высунул голову кислоликий Джозеф.
– Вы тутось чогой? – прокричал он. – Сам в овчарник пшёл. Вам итить кругалем за пуню, коли с им охота побакулить.
– А внутри открыть некому? – ответно воззвал я.
– Никогой нетути, окромя оспожи, а вона не отмыкнет, хучь до темени тутось стукайте.
– Почему? А ты, Джозеф, не можешь передать ей, кто я?
– Вот уж нет уж! Не по мне забота, не мне работа, – пробубнила голова и скрылась.
Снег зарядил густо. Я сжал дверную рукоять, намереваясь предпринять новую попытку, и тут во дворе у меня за спиною появился юноша в рубахе и с вилами на плече. Он окликнул меня, и следом за ним я миновал прачечную и затем мощеный двор, где обнаружились угольный сарай, насос и голубятня, а в конце же концов прибыл в уютные теплые апартаменты, где меня принимали накануне. Комнату восхитительно озаряло громадное пламя в камине, где горели уголь, торф и поленья; а подле стола, накрытого к обильной трапезе, я не без удовольствия узрел «оспожу» – особу, о коей существовании прежде и не подозревал. Я поклонился и подождал, воображая, что она пригласит меня присесть. Она взглянула на меня и поудобнее откинулась на спинку кресла, после чего осталась бездвижна и безмолвна.
– Ну и погодка! – отметил я. – Боюсь, госпожа Хитклифф, дверь пострадала от последствий лености вашей прислуги: уж как я старался, чтобы меня услышали.
Она и рта не раскрыла. Я взирал на нее – и она взирала: во всяком случае, глаза ее по-прежнему устремлялись на меня хладно и равнодушно, отчего я все более смущался и ерзал.
– Сядьте, – пробурчал юноша. – Он скоро возвернется.
Я подчинился; затем гмыкнул и окликнул злодейскую Юнону, каковая при сей второй аудиенции снизошла легчайше двинуть самым кончиком хвоста, признавая факт нашего знакомства.
– Прекрасное животное! – вновь заговорил я. – А с малышами вы расстанетесь, мэм?
– Они не мои, – ответствовала любезная хозяйка с неприязнью, какая не под силу оказалась бы и самому Хитклиффу.
– А, такэто ваши любимцы? – продолжал я, обернувшись к подушке в тени, где сгрудилось нечто похожее на кошек.
– Странные получились бы из них любимцы! – презрительно отметила она.
Увы, на подушке лежала куча дохлых кроликов. Я снова гмыкнул и перешел ближе к огню, повторив свое замечанье относительно вечерней непогоди.
– Нечего было выходить из дома, – сказала она, поднялась и потянулась за двумя расписными жестянками на каминной полке.
Прежде она сидела, укрывшись от света; теперь же я отчетливо разглядел ее фигуру и лицо. Была она стройна и, похоже, едва оставила девичьи годы позади; восхитительное сложенье и утонченнейшее личико, кои мне выпадала радость узреть, – мелкие, очень правильные черты; локоны соломенного или, говоря точнее, золотистого оттенка свободно спускались на тонкую шею; а глаза, будь их взгляд полюбезнее, стали бы неотразимы; по счастью для моего впечатлительного сердца, единственный сантимент, что они излучали, колебался меж презрением и безысходностью, категорически для них противоестественными. До жестянок она еле доставала; я шагнул было к ней, желая поспешествовать, но она накинулась на меня, точно скряга, коему предложили пособить в пересчете золота.
– Мне ваша помощь не нужна, – рявкнула она. – Сама справлюсь.
– Прошу меня извинить! – поспешно выпалил я.
– Вас звали к чаю? – спросила она, поверх опрятного черного платья завязав передник и замерев над чайником с ложкой сухой заварки.
– Я бы не откзался от чая, – ответил я.
– Вас звали? – повторила она.
– Нет, – сказал я, уже почти улыбаясь. – Но вы как раз можете меня позвать.
Она высыпала заварку в жестянку – туда же отправилась и ложка, – и в досаде уселась в кресло, морща лоб и выпячивая алую нижнюю губу, точно дитя, что вот-вот расплачется.
Тем временем юноша облачился в решительно поношенную куртку и, воздвигшись перед огнем, покосился на меня презрительно, словно между нами царила некая смертельная вражда, коя требовала отмщения. Я уже сомневался, слуга ли он в сем доме: наряд его и речь были равно грубы, совершенно лишены достоинств, присущих госпоже и господину Хитклифф; густые темные кудри нечесаны и торчали дыбом, борода густой медвежьей шерстью покрывала щеки, а руки потемнели, как у обыкновеннейшего батрака; и однако держался он непринужденно, почти надменно, и в обращении с хозяйкою не выказывал типического для домочадцев рвения. Не имея ясных резонов судить о его положении, я почел за лучшее странного его поведенья не замечать; спустя же пять минут явление господина Хитклиффа отчасти вызволило меня из сих неловких обстоятельств.
– Как видите, сэр, я сдержал слово и пришел! – воскликнул я, изображая жовиальность. – И, боюсь, непогода заточила меня здесь еще на полчаса, если вы дадите мне приют под вашим кровом.
– Полчаса? – переспросил он, стряхивая снег с одежды. – Не понимаю, с чего вам заблагорассудилось гулять посреди снегопада. В наших болотах и заблудиться, знаете ли, недолго. В такие вечера люди подчас сбиваются с пути на этих пустошах, а погода, уверяю вас, в ближайшее время не переменится.
– Быть может, кто-нибудь из ваших людей проводит меня и до утра останется в Усаде… вы не могли бы выделить мне проводника?
– Нет, не мог бы.
– Вот оно как! Что ж, тогда я вынужден положиться на собственное чутье.
– Хмф!
– Ты чай-то заваришь? – вопросил обладатель поношенной куртки, переводя свирепый взгляд с меня на молодую госпожу.
– Ион тоже будет? – спросила она у Хитклиффа.
– Поторапливайся, а? – было ей ответом, и до того рыкливым, что я вздрогнул. Тон, коим были произнесены сии слова, выдавал подлинно дурную натуру. Я уже не питал склонности почитать Хитклиффа за превосходного человека. По завершении стряпни он пригласил меня за стол репликой: «Ну-ка, сэр, придвиньте стул». И все мы, включая неотесанного юнца, собрались вкруг стола; пока мы управлялись с трапезой, царила суровая тишина.
Коль скоро я стал причиною сему ненастью, рассудил я, мне и надлежит приложить усилия к его рассеянию. Вряд ли они тут сидят в таком угрюмстве и безмолвии изо дня в день; и, сколь ни сварливы они, быть не может, чтобы эта общая хмурость была их повседневной личиною.
– Занятно, – приступил я в промежутке между опустошеньем одной чашки и полученьем другой, – занятно, как обычай меняет наши вкусы и представленья: многие не в силах вообразить счастливого бытия в столь полном отдалении от мира, в коем живете вы, господин Хитклифф; и однако рискну предположить, что в окружении семейства, подле вашей обворожительной дамы, чей гений царит в доме вашем и сердце…
– Моей обворожительной дамы! – перебил он, одарив меня усмешкою почти дьявольской. – И кто же она, моя обворожительная дама?
– Я имею в виду вашу жену, госпожу Хитклифф.
– Ах да… вы, надо полагать, намекаете, что дух ее по сей день добрым ангелом витает здесь и бережет Громотевичную Гору, хоть сама она и покинула нас. Вы об этом?
Уразумев, что оплошал, я попытался исправить свой промах. Надо было сообразить, что разница в возрасте между этими людьми чересчур велика – едва ли они супруги. Одному лет сорок – это период умственного расцвета, когда редкий мужчина питает иллюзии о браке по любви с юной девою; подобные грезы годятся в утешенье нашим преклонным годам. Другой же, по видимости, не минуло и семнадцати.
И тут меня осенило: «Невежа, что сидит подле меня, хлебает чай из плошки и ломает хлеб немытыми руками, – вероятно, это он ее муж; несомненно, Хитклифф-младший. Вот что бывает с людьми, похороненными заживо: она бросилась в объятья мужлану, ибо попросту не ведала, что на свете встречаются личности и получше! Сколь прискорбно печальная история; мне следует остеречься и не внушить ей сожалений о сделанном выборе». Может показаться, что сие последнее замечанье отдает тщеславием; отнюдь нет. Застольный сосед мой виделся мне почти омерзительным; а опыт подсказывал, что сам я в меру привлекателен.
– Госпожа Хитклифф – невестка мне, – подтвердив мое наитие, промолвил Хитклифф. И с этими словами обернулся к ней с гримасою на диво странной – с ненавистью, если, разумеется, не был наделен весьма своеобычными лицевыми мускулами, кои изъяснялись языком его души иначе, нежели у прочих людей.
– А, ну разумеется – теперь я понял: счастливый обладатель сей доброй феи – вы, – сказал я своему соседу.
Стало хуже: юнец побагровел и стиснул кулак, явно обдумывая атаку. Впрочем, он быстро взял себя в руки и усмирил душевную бурю, пробормотав в адрес моей персоны грубое ругательство, каковое я подчеркнуто пропустил мимо ушей.
– Не везет вам с догадками, сэр, – отметил хозяин дома. – Ни один из нас не имеет счастья обладать сей доброй феей; супруг ее скончался. Я сказал, что она невестка мне, – следовательно, она вышла за моего сына.
– А сей молодой человек…
– Мне не сын, уверяю вас.
Хитклифф снова улыбнулся, будто приписать ему отцовские права на грубияна – шутка чрезмерно смелого толка.
– Меня зовут Хэртон Эрншо, – прорычал юнец, – и советую вам отнестись с уважением к этому имени!
– Я вовсе не выказывал неуваженья, – отвечал я, про себя посмеявшись над тем, с каким достоинством он представился.
Он долго сверлил меня взглядом, и я предпочел отвести глаза, опасаясь, что рискую отвесить ему затрещину либо расхохотаться в голос. Уже стало ясно, что в сем сладостном семейном кругу я бесспорно лишний. Воцарился кромешный упадок духа, каковой более чем перечеркнул радости физического комфорта, окружавшего меня; про себя я решил лишний раз еще подумать, прежде чем в третий раз ступлю под сии стропила.
Покончив с трапезой и не услышав за оной ни единого слова светской беседы, я подошел к окну и обозрел обстановку. Скорбная предстала мне картина: прежде времени спускалась темная ночь, а небо и холмы сливались в сплошной жестокий вихрь густого снегопада и ветра.
– Теперь, пожалуй, без проводника мне домой не добраться! – вырвалось у меня. – Дороги уже завалило, и даже не будь снега, я едва ли что-нибудь увижу хоть на шаг впереди.
– Хэртон, загони овец под навес. Их засыплет снегом, если на ночь останутся в овчарне; и доской заложи, – сказал Хитклифф.
– Как мне поступить? – продолжал я, досадуя все сильнее.
Ответа не последовало; оглядевшись, я увидел лишь Джозефа, что принес бадью варева для собак, и госпожу Хитклифф – та, склонившись к огню, забавлялась, поджигая связку спичек, что упали с каминной полки по возвращении туда чайницы. Освободившись от своей ноши, Джозеф критически оглядел гостиную и надтреснуто проскрипел:
– Ну се пшли на двор, а кой-кто тутось лодырит, сраму не зная, а то чогой и поплошее! Да токмо ты-т шушваль, хучь те кол на башке, за ум не возмёсси, в одну прямь те к дьяволу некошному на сковраду, вследно за мамашей твоейной!
На миг мне почудилось, будто сей образчик красноречия обращен ко мне; немало возмутившись, я шагнул к престарелому негоднику, вознамерившись выкинуть его за дверь пинком. Мне, впрочем, помешала своим ответом госпожа Хитклифф.
– Скандальный ты старый лицемер! – промолвила она. – А не боишься, когда дьявола поминаешь, что тебя вынесут вперед ногами? Поберегись и не гневи меня, а то попрошу чертей, чтоб унесли тебя в знак особого ко мне расположения! Ну-ка стой! И взгляни сюда! – продолжала она, сняв с полки толстую темную книгу. – Я покажу тебе, сколь многое я постигла в черной магии; скоро я это искусство одолею, и здесь станет чище. Рыжая корова-то неспроста околела, да и ревматизм твой – едва ли дар небес!
– Ах ты ведьма, ой, ведьма! – запричитал старик. – Избави нас, Осподи, от лукавого!
– Нет, подлец! Это ты нечестивец – пошел вон, а то тебе не поздоровится! Я вас всех тут вылеплю из воска и глины! И первого, кто преступит черту, я… не скажу, что с ним сделаю… но ты увидишь! Пошел, долго я на тебя смотреть буду?!
Маленькая злюка стрельнула притворной злобою из глаз, а Джозеф, дрожа в непритворном ужасе, заспешил прочь, на ходу бормоча молитвы и вскрикивая «ведьма». Я счел, что поведение ее объясняется безотрадным юмором, и теперь, когда мы остались одни, рискнул привлечь ее вниманье к моим затруднительным обстоятельствам.
– Госпожа Хитклифф, – с жаром промолвил я, – простите, что утруждаю вас. Я беру на себя такую смелость, ибо уверен, что с подобным обликом вы можете обладать лишь добрым нравом. Укажите, будьте любезны, вехи, кои помогут мне отыскать путь домой; для меня добраться туда не проще, нежели вам до Лондона!
– Идите дорогой, которой пришли, – отвечала она, умостившись в кресле со свечой и открытой толстой книгой. – Совет краткий, но лучшего я дать не могу.
– И если вы узнаете, что мой хладный труп обнаружили в трясине или снежной яме, совесть не шепнет вам, что отчасти это ваша вина?
– Это еще почему? Я не могу вас проводить. Меня и до садовой ограды не пускают.
–Вы! Я бы ни за что не попросил вас ради меня ступить за порог в такой вечер! – вскричал я. – Нет, я прошу лишь рассказать мне, как идти, а не показать; или же уговорить господина Хитклиффа выделить мне проводника.
– А кого? Тут живет он, Эрншо, Цилла, Джозеф и я. Кого послать с вами?
– А батраков в хозяйстве нет?
– Нет; больше никого.
– Получается, я вынужден остаться здесь гостем на ночь.
– О том уговоритесь с хозяином дома. Я тут ни при чем.
– А это вам урок: нечего шастать по холмам, – сурово рявкнул Хитклифф из кухонных дверей. – Что до гостя на ночь, у меня помещений для гостей не имеется; если останетесь, придется вам делить постель с Хэртоном или Джозефом.
– Я могу переночевать здесь, в кресле, – сказал я.
– Ну уж нет! Чужак есть чужак, что богач, что бедняк; ни к чему, чтоб чужие бродили по дому безнадзорно, пока я сплю! – отвечал мне сей отвратительный грубиян.
Подобная обида истощила мое терпенье. В омерзении вскрикнув, я протиснулся мимо Хитклиффа на двор, второпях столкнувшись с Эрншо. Тьма стояла такая, что я не видел, куда идти; плутая, я расслышал новый образчик цивилизованного поведения, принятого в сем обиталище. Сначала юнец вроде бы решил со мною сдружиться.
– Я его провожу до парка, – сказал он.
– До врат преисподней ты его проводишь! – закричал его хозяин или кем уж он приходился юнцу. – А за лошадьми кто присмотрит?
– Жизнь человеческая – дело поважнее, чем на один вечер покинутые лошади; кто-то же должен пойти, – пробормотала госпожа Хитклифф, явив доброту, какой я от нее не ждал.
– А ты мне не указ! – огрызнулся Хэртон. – Коли он тебе так дорог, лучше помолчи.
– В таком случае надеюсь, что тебе станет являться его призрак; и надеюсь, господин Хитклифф не найдет другого жильца, пока Усад не обратится в руины, – резко ответила она.
– Слушьте, слушьте, вона их закляла! – пробубнил Джозеф, к коему как раз приближался я.
Он сидел неподалеку и доил коров при свете лампы; лампу я бесцеремонно подхватил, крикнул, что завтра пришлю ее назад, и устремился к ближайшей калитке.
– Хозяй, хозяй, вон фонарь покрал! – завопил древний старец, бросившись за мною в погоню. – Эй, Зубатый! Сюда, псина! Волчек, держи его, держи!
Отворилась дверца, и двое мохнатых чудищ налетели на меня и повалили на землю, погасив лампу; хоровой гогот Хитклиффа и Хэртона довершили мою ярость и унижение. По счастью, зверюги выражали склонность скорее потягиваться, зевать и махать хвостами, нежели пожирать меня заживо; впрочем, бунта они бы не потерпели, и я принужден был лежать и ждать, пока их злобные хозяева соизволят меня вызволить; лишившись шляпы, от гнева дрожа, я велел мерзавцам дать мне свободу – они пожалеют, если задержат меня еще хоть минутой дольше, – и присовокупил к этому невнятные угрозы расправы, кои бездонными глубинами злобы своей достойны были короля Лира.
Запал ажитации исторг обильное кровотечение у меня из носа; Хитклифф по-прежнему смеялся, а я по-прежнему негодовал. Уж не знаю, чем бы завершилась сия сцена, не найдись поблизости персоны, владевшей собой получше меня и великодушием превосходившей хозяина дома. В конце концов пришла дебелая экономка Цилла и осведомилась, в чем причина подобного шума и гама. Она решила, что один из домашних поднял на меня руку, и, не осмеливаясь выступить против хозяина, напустилась на молодого негодника.
– Так-так-так, господин Эрншо, – закричала она, – чего ж вы на будущий-то раз удумаете? Убивать людей на самом пороге? Не место мне в ентом доме – да вы гляньте на бедняжку, он же ж и не дышит почти что! Полноте, полноте, охолоните. Пойдемте, я все подлечу; ну тихо, не дергайтеся.
С этими словами она нежданно окатила мне шею пинтой ледяной воды, а затем увела меня в кухню. Господин Хитклифф последовал за нами; привычная угрюмость мгновенно погасила его нечаянную вспышку веселья.
Я был крайне болен, и слаб, и мучился головокруженьем; а посему принужден был остаться под сей крышей. Господин Хитклифф велел Цилле дать мне стакан бренди и отбыл во внутренние покои; она же посочувствовала моему прискорбному затрудненью, исполнила хозяйское приказание и, слегка меня оживив, препроводила в постель.
Глава III
Впереди меня взбираясь по лестнице, она посоветовала спрятать свечу и не шуметь; мол, у хозяина ее чудные мысли насчет покоев, где она меня устроит, и в охотку он никого не пускает там ночевать. Я спросил почему. Не знаю, отвечала она; в дому-то она всего год-другой, а здесь столько диковинного творится, что раскумекать любопытства не хватит.
Я и сам пребывал в таком ошеломлении, что любопытства не хватало; заперев дверь, я огляделся в поисках кровати. Всей меблировки – стул, комод и большой дубовый ящик с квадратными отверстьями сверху, точно окошки в экипаже. Приблизившись к сей конструкции, я заглянул внутрь и обнаружил, что предо мною необыкновенного сорта старомодный диван, весьма удобно обустроенный, дабы не требовалось выделять комнату в личное пользование отдельному члену семьи. Собственно говоря, из дивана того получалась каморка, а подоконник, объятый этим диваном, служил в каморке столом. Я отодвинул боковые панели, со свечою забрался внутрь, задвинул панели назад и тем спасся от бдительности Хитклиффа и всех прочих.
В углу на подоконнике, где я поместил свечу, грудою свалены были заплесневелые книги; краска же вся была исцарапана письменами. Впрочем, говорили они лишь одно – имя, всевозможными буквами, крупными и мелкими, «Кэтрин Эрншо», кое там и сям превращалось в «Кэтрин Хитклифф», а затем в «Кэтрин Линтон».
В вялой апатии прислонясь к окну, я складывал Кэтрин Эрншо… Хитклифф… Линтон, пока не стали слипаться глаза; они, однако, отдыхали всего каких-то пять минут, и тут буквы полыхнули во тьме белым, ослепительные, как призраки, – в воздухе закишели Кэтрин; встряхнувшись, дабы изгнать из поля зрения назойливое имя, я увидел, что фитиль свечи моей приклонился к древним томам, распространяя вокруг аромат поджаренного пергамента. Я потушил пожар; сильно мучаясь от холода и неотступной тошноты, сел и раскрыл на коленях пострадавший фолиант. Оный оказался Писанием, со скупым шрифтом, и чудовищно пахнул плесенью; на форзаце значилось: «Кэтрин Эрншо, ее книга», – и дата с четверть столетия ранее. Я закрыл том, взял другой, затем третий, пока не пролистал все. Библиотека у Кэтрин была отборная, а степень распада томов доказывала, что обладательница питала к ним живой интерес, хотя и не вполне законного свойства: едва ли нашлась бы одна глава, коей удалось избегнуть чернильных замечаний – или, по меньшей мере, подобия таковых, – сплошь покрывавших все пустоты, что оставил печатник. Местами – разрозненные фразы, местами же – обыкновенный девник, писанный неловкой детской рукою. Вверху лишней страницы (и каким, вероятно, сокровищем была она сочтена, когда впервые явилась взору) я, к великому своему веселью, нашел блестящую карикатуру на друга моего Джозефа – набросок грубый, но выразительный. Во мне мгновенно вспыхнул интерес к безвестной Кэтрин, и я незамедлительно принялся разбирать ее поблекшую иероглифику.
«Ужасное воскресенье, – так начинался абзац ниже. – Как жаль, что папеньки нет. Хиндли – негодная ему замена, с Хитклиффом он обращается жестоко… мы с Х. намерены взбунтоваться… и нынче вечером предприняли первый шаг.
Весь день лило как из ведра; не смогли пойти в церковь, пришлось Джозефу собрать конгрегацию на чердаке; и пока Хиндли с женою грелись внизу возле уютного огня – и чем угодно занимались, только не читали Библию, слово даю, – Хитклиффу, мне и бедному батрачонку-пахарю велено было взять молитвенники и взойти на чердак; нас устроили в рядок на мешке с зерном, и мы все стонали, и дрожали, и надеялись, что Джозефу тоже зябко и он ради своего удобства прочтет гомилию покороче. Зря надеялись! Служба длилась ровно три часа, но братцу моему хватило нахальства спросить, увидев, как мы сходим в дом: “Что, уже закончили?” Раньше нам дозволялось играть воскресными вечерами, если мы не очень шумели, а теперь чуть хихикнешь – и отправляют по углам.
“Вы забываете, кто тут хозяин, – вот как говорит этот тиран. – Истреблю первого, кто выведет меня из себя! Я требую абсолютной тишины и соблюдения приличий! Эй, мальчуган! это ты сделал? Фрэнсис, дражайшая моя, пойдешь мимо – дерни его за волосы; я слышал, как он щелкнул пальцами”. Фрэнсис дернула его за волосы от души, а затем уселась к муженьку на колени, и оба они принялись, как младенчики, целоваться и нести всякую чушь не закрывая ртов – глупая беседа, стыдно слушать. Мы уютно, сколь позволяла обстановка, устроились под комодом. Я как раз сколола вместе передники и ими занавесила нас, но тут появляется Джозеф – он в конюшню ходил. Срывает мое рукоделье, надирает мне уши и каркает:
“Самого токмо схоронили, день Осподень ще не свечерел, благовестие ще в слухалах у вас, а вы тутось удумали шалопайничать! Усовестились бы! сядьте, негодные вы дети! есь ведь добрые книги, почитайте; сядьте и о душе похлопочите!”
Промолвив все это, он заставил нас переместиться так, чтобы тусклые лучики из далекого камина освещали нам текст занудства, кое он нам всучил. Я не стерпела. Схватила засаленную книжку за корешок и закинула в собачню, и сказала, что добрую книжку ненавижу. Хитклифф пнул свою туда же. И тут разверзлись небеса!
“Хозяй Хиндли! – возопил наш капеллан. – Подить сюды, хозяй! Оспожа Кэти бложку отодрала ‘Шлему спасення’, а Хитклифф том один ‘Широки врата в погибель’[2] пяткой лягал! Чогой же вы им позволяйте-т! Батюшка-то им бы уж задал бы взбучку – да токмо нету таперча батюшки!”
Хиндли прибежал из своего прикаминного рая, одного из нас схватил за шиворот, другого за локоть и обоих впихнул в кухню; откуда, как клятвенно заверил нас Джозеф, “некошной” нас заберет как пить дать; получив такое утешение, мы разбрелись по углам ждать, когда “некошной” нанесет нам обещанный визит. Я достала эту книгу с полки и чернильницу, приоткрыла дверь в дом, чтоб свет был, и двадцать минут уже пишу; сообщник мой, однако, нетерпелив, предлагает умыкнуть плащ молочницы и, укрывшись им, сбежать на болота. Идея соблазнительная – и тогда старый хрыч, если войдет, поверит, пожалуй, что пророчество его сбылось – вряд ли под дождем нам будет холодней и мокрей, чем здесь».
* * *
Надо полагать, замысел свой Кэтрин воплотила, ибо следующая фраза имела касательство к иному предмету и наливалась слезами:
«И не думала, что Хиндли так меня доведет! – писала Кэтрин. – Уж как я плакала, голова до того болит, что на подушку не ляжешь, а я все не могу перестать. Бедный Хитклифф! Хиндли обозвал его побродягой, не разрешает ему ни сидеть, ни есть с нами и говорит, чтоб я с ним больше не играла, и грозится выгнать его из дома, если мы ослушаемся. Винит папеньку (да как он смеет?), что давал Х. слишком много воли; и клянется, что поставит его на место…»
* * *
Я уже клевал носом над смутной страницею; взгляд мой скользнул с рукописных букв к печатным. Я увидел красное орнаментированное заглавие «Седмижды семьдесят[3] и первый из семьдесят первого. Благочестивое рассужденье, зачтенное преподобным Иависом Брандерхамом в церкви Гиммерденской Топи». И, в полудреме гадая, как именно Иавис Брандерхам понимает свой предмет, я опустился на постель и уснул. Увы мне! дурной чай и дурные нравы сыграли злую шутку! Какие еще резоны могли навлечь на меня столь ужасно проведенную ночь? Со времен, когда я впервые познал страданья, ни одна иная не идет с нею ни в какое сравнение.
Не успел я утратить понятие о том, что меня окружает, как уже начал грезить. Чудилось мне, что настало утро и я под водительством Джозефа двинулся в путь домой. Дорогу завалило снегом во многие ярды глубиною; мы барахтались в нем, и спутник мой неумолчно пенял мне за то, что я не взял посоха пилигрима: говорил, что без посоха мне в дом не войти, и хвастливо помавал тяжеленной дубиною, каковую, если я верно понял, он за означенный посох и почитал. Вначале я счел нелепицей, что мне может потребоваться подобное орудие, дабы попасть в собственное жилище. Затем меня посетило озаренье. Я направляюсь не домой: мы идем послушать, как знаменитый Иавис Брандерхам читает из своего рассуждения «Седмижды семьдесят», притом либо Джозеф, либо проповедник, либо я виновны в «первом из семьдесят первого», а посему будет публично осужден и отлучен.
Мы приблизились к церкви. На прогулках я дважды или трижды ее миновал: стоит она в лощине меж двух холмов; лощина же располагается выше болота, коего торфяная влага великолепно, говорят, бальзамирует трупы, что туда помещены. Крыша у церкви сохранна; но поскольку священнику полагается лишь двадцать фунтов в год жалованья да хижина о две комнаты, грозящие стремительно обернуться одной, обязанностей пастора ни один священник на себя не взвалил, тем паче, что, как ныне выясняется, паства скорей уморит его голодом, нежели прибавит к жалованью хоть пенни из собственных карманов. Однако во сне моем к Иавису сошлась многолюдная и чуткая конгрегация; и он проповедовал – Боже правый! что это была за проповедь – преподобный поделил ее начетыреста девяносто частей, и каждая равна была обычному поученью с кафедры, и в каждой речь шла об отдельном грехе! Где уж он их все раскопал, сказать не могу. Библейское реченье он трактовал весьма своеобычно, и выходило у него, что брат его во Христе, греша, непременно должен грешить всякий раз новым грехом. И были те грехи прелюбопытнейшего свойства: диковинные проступки, кои прежде мне и в голову не приходили.
О, как истомился я! Как ерзал, и зевал, и забывался, и опоминался! Как я щипал и тыкал себя, и тер глаза, и вставал, и вновь садился, и толкал Джозефа, осведомляясь, когда же этозакончится! Я обречен был выслушать всё целиком; в конце концов проповедник добрался до «Первого из семьдесят первого». В сей кульминационный миг меня посетило нежданное вдохновенье; оно побудило меня подняться и объявить Иависа Брандерхама грешником, свершившим проступок, кой прощать нет нужды ни одному христианину.
– Сэр, – вскричал я, – сидя неотлучно в сих четырех стенах, я стерпел и простил четыреста девяносто предметов вашего рассужденья. Седмижды семьдесят раз я хватался за шляпу и порывался отбыть – седмижды семьдесят раз вы абсурдным манером принуждали меня сесть на место. Четыреста девяносто первый переполнил чашу терпенья. Держите его, истерзанные друзья мои! Стащите его с кафедры, распылите его на атомы, дабы пределы эти больше не знали его!
–Се, Человек![4] – после гробового молчанья воскликнул Иавис, перегнувшись через подушку. – Седмижды семьдесят раз кривил ты лице свое, разверзая зев, – седмижды семьдесят раз я взывал к душе своей: «Узри! пред тобою слабость человечья; ее тоже можно простить!» Ныне же свершен первый из семьдесят первого. Братья мои, произведите над ним суд писанный. Честь сия – всем святым Его![5]
С таким напутствием все собрание без изъятья, вздымая пилигримские посохи, разом ринулось на меня; я же, лишенный оружия обороны, вступил в драку с Джозефом, моим ближайшим и свирепейшим недругом, тщась отнять посох у него. В человечьем столпотворении соударялись дубины; удары, что метили в меня, обрушивались на другие макушки. Вскоре уже вся церковь полнилась стуками и ответными стуками; всяк поднял руку на ближнего своего; а Брандерхам, не желая остаться в стороне, изливал свое рвенье, оглушительно грохоча по деревянной кафедре, каковая клацала столь пронзительно, что, к невыразимому облегчению моему, наконец-то меня пробудила. И что же в действительности изображало столь необычайное светопреставление? Что сыграло роль Иависа в сей сумятице? Всего лишь еловая ветвь, что задевала оконный переплет под вой ветра и сухими шишками стучалась в стекло! Миг я в сомненьях прислушивался; а распознав возмутителя спокойствия, перевернулся, и задремал, и снова принялся грезить! И – возможно ли такое? – вышло еще неприятнее.
На сей раз я помнил, что лежу в дубовой каморке, и отчетливо слышал порывистый ветер и летящий снег; различал, как скребется в окно еловая ветвь, и верно определил причину шума; однако шум сей так меня сердил, что я вознамерился его унять, если это возможно; и как будто встал и взялся отворять створку. Крючок был припаян к скобе – обстоятельство, отмеченное мною наяву, но позабытое. «И все же я должен это прекратить!» – пробормотал я, кулаком пробив стекло и вытянув руку, дабы ухватить докучливую ветку; да только вместо ветки нащупал ледяные пальчики! Острый ужас ночного кошмара объял меня; я хотел было вырваться, но холодная ручка цеплялась за меня, а бесконечно печальный голос прорыдал:
– Впусти меня… впусти!
– Кто ты? – спросил я, не оставляя меж тем попыток высвободиться.
– Кэтрин Линтон, – с дрожью отвечал мне голос (отчего на ум мне пришла «Линтон»? На одну «Линтон» я прочел двадцать «Эрншо»). – Я вернулась домой; я заблудилась на болотах!
При этих словах я смутно различил детское личико, что глядело на меня из-за окна. Ужас придал мне жестокости; увидев, что вырываться проку нет, я потянул на себя и принялся резать существу запястье о кромку разбитого стекла, пока на постель не потекла кровь; и все равно оно кричало: «Впусти!» – и упрямо за меня цеплялось, а я чуть с ума не сходил от страха.
– Как я тебя впущу? – в конце концов спросил я. – Если хочешь, чтоб я тебя впустил, сначала освободименя.
Пальчики разжались, я выдернул руку из дыры, поспешно завалил пробоину грудой книг и заткнул уши, дабы не внимать жалобным мольбам. Так я просидел, должно быть, с четверть часа; но едва отнял руки, вновь услышал все тот же скорбный стон!
– Сгинь! – закричал я. – Ни за что не впущу, хоть двадцать лет проси.
– Так уже и прошло двадцать лет, – проплакал голос. – Двадцать лет. Я двадцать лет скитаюсь!
И тут снаружи что-то тихонько заскреблось, и груда книг сдвинулась, точно ее толкнули. Я хотел было вскочить, но не смог шевельнуть ни рукой, ни ногою, а потому в умопомешательстве закричал. К моей неловкости, обнаружилось, что крик мой не был порожденьем грез: к двери покоев приблизились торопливые шаги, кто-то энергично ее толкнул, и в окошках над моей постелью замерцал свет. Я сел, еще содрогаясь и вытирая пот со лба; вошедший, замявшись в дверях, что-то бормотал себе под нос. В конце концов он спросил полушепотом, очевидно не ожидая ответа:
– Есть кто-нибудь?
Я почел за лучшее явить свое присутствие, ибо узнал речь Хитклиффа и опасался, что, промолчи я, он продолжит разысканья. Движимый таким намерением, я повернулся и открыл боковую панель. Поступок мой произвел эффект, кой я еще не скоро позабуду.
Хитклифф стоял подле двери, в сорочке и брюках; свеча оплывала воском ему на пальцы, а лицо его побелело, как стена у него за спиною. Первый же скрип дубовой древесины сотряс его электрическим разрядом; свеча выскользнула из пальцев, отлетела на несколько футов, и в крайней ажитации он еле смог ее поднять.
– Это всего только ваш гость, сэр, – окликнул я его, желая избавить от дальнейших унизительных изъявлений трусости. – Я ненароком закричал во сне – мне привиделся страшный сон. Простите, что обеспокоил.
– Ох, будь вы прокляты, господин Локвуд! Чтоб вас… – начал хозяин дома, отставив свечу на стул, ибо ровно держать ее в руках был не в состоянии. – И кто вас сюда привел? – продолжал он, ногтями впиваясь в ладони и скрежеща зубами, дабы унять судорогу челюстей. – Кто? Я подумываю сию же секунду выставить этого человека из дома!
– Ваша служанка Цилла, – отвечал я, спрыгнув на пол и поспешно натягивая одежду. – И я ни словом за нее не заступлюсь, господин Хитклифф; такое обращенье она совершенно заслужила. Полагаю, ей пришла охота ценою моего покоя доказать лишний раз, что здесь водятся призраки. Итак, они здесь водятся – привидения и гоблины кишмя кишат! Поверьте, у вас имеются все резоны запирать сию комнату крепко-накрепко. Никто не скажет спасибо за ночлег в подобной спальне!
– Что вы несете? – спросил Хитклифф. – И что вы делаете? Ложитесь и до утра спите, раз уж вы все равноздесь; только, Бога ради! впредь избавьте меня от ужасных воплей; они простительны, только если вам тут режут глотку!
– Эта маленькая злодейка, должно быть, задушила бы меня, проберись она в окно! – отвечал я. – Вновь терпеть досаждение от ваших гостеприимных предков я не намерен. Преподобный Иавис Брандерхам не родня ли вам по материнской линии? А эта безобразница Кэтрин Линтон – или Эрншо, или как там она себя называет, – она, вероятно, эльфийский подменыш! маленькая жестокая душа! Сказала мне, что ходит по земле уж двадцать лет; и, нет сомнений, справедливо покарана за смертные прегрешенья!
Едва слова эти сорвались с моего языка, я припомнил, что в книге имена Хитклиффа и Кэтрин встречались рядом – связь, начисто ускользнувшая из памяти, пока я не проснулся. Я вспыхнул, смутившись своей опрометчивости, однако, никоим иным манером не признавая сего оскорбительного промаха, поспешно прибавил:
– Говоря по правде, сэр, ночью перед сном я… – Тут я вновь осекся; я хотел сказать «почитывал эти старые книги», но тогда обнаружилось бы, что я узнал их содержимое, как печатное, так и рукописное; посему я поправился и продолжал: – …читал имя на подоконнике. Однообразное занятье – я рассудил, что оно усыпит меня, подобно счету или…
– Да как вамв голову взбрело разговаривать так со мной! – с гневным жаром загрохотал Хитклифф. – Как… как вы смеете… в моем доме?! Боже правый! что он несет? да он безумец! – И Хитклифф в ярости ударил себя по лбу.
Я не знал, возмутиться ли мне такой манерой выраженья или объясниться до конца; он, однако, был столь сильно потрясен, что я сжалился и перешел к изложению моих грез; заявил, что прежде мне не доводилось слышать о «Кэтрин Линтон», однако я не раз прочел сие имя, и оно оставило след, каковой обрел плоть, едва я лишился власти над воображеньем. Я говорил, а Хитклифф мало-помалу отступал к убежищу постели; наконец сел, почти совершенно в ней скрывшись. По неровному и рваному его дыханию я, впрочем, догадался, что он тщится подавить наплыв сильнейших чувств. Не желая показать, что замечаю его внутреннюю бурю, я весьма шумно свершил утренний туалет, взглянул на часы и произнес рацею о продолжительности ночи:
– И трех еще нет! Я мог бы поклясться, что уже минуло шесть. Время здесь застывает; мы, должно быть, отправились на покой в восемь!
– Зимой всегда в девять; а встаем в четыре, – отвечал хозяин дома, подавив стон и, судя по движению тени, отбрасываемой его рукой, смахнув с глаз слезу. – Господин Локвуд, – прибавил он, – вы можете перейти в мою спальню; спустившись так рано, вы станете только путаться под ногами, а из-за сыр-бора, кой вы тут так легкомысленно подняли, сон мой бежал к дьяволу.
– Да и мой, – отвечал я. – Погуляю по двору, пока не рассветет, а затем уйду; и не страшитесь, подобных вторжений с моей стороны больше не повторится. Я теперь вполне исцелен от желания искать радостей светского толка, в провинции и в городе равно. Человеку разумному надлежит довольствоваться собственным обществом.
– Упоительное общество! – буркнул Хитклифф. – Возьмите свечу и идите куда пожелаете. Я скоро к вам выйду. Но по двору не ходите – собаки спущены с цепи; и по дому – его сторожит Юнона, и… нет, вам остается лишь бродить по лестницам и коридорам. Однако ступайте! Через две минуты я приду.
Я покорился – во всяком случае, вышел из спальни; не зная же, куда ведут узкие пассажи, за дверью я остановился и невольно стал свидетелем суеверности моего домовладыки, коя, как ни странно, наглядно засвидетельствовала его трезвомыслие. Он поднялся с постели и рванул на себя оконную створку, разразившись меж тем неудержимыми страстными слезами.
– Войди! войди! – рыдал он. – Приди ко мне, Кэти. О, приди ко мне –еще разок! О, драгоценная моя! услышь меня на сей раз, Кэтрин, услышь меня наконец!
Призрак явил типически призрачное своенравие – он вовсе не показался, лишь снег и ветер ворвались в окно, закружили, дотянувшись даже до меня, и погасили мою свечу.
Такая мука была во вспышке горя, сопровождавшей сии неистовые речи, что в сострадании своем я позабыл, сколь эти речи неразумны, и отступил, отчасти злясь, что подслушал, и досадуя, что пересказал свой нелепый кошмар, каковой и вызвал подобные терзанья, хотя причина оных и оставалась для меня непостижима. Я осторожно сошел ниже и очутился на кухне, где вновь зажег свечу от тесной кучки мерцающих углей. Вокруг не было ни души – лишь полосатый серый кот неслышно выбрался из золы и приветствовал меня ворчливым «мяу».
Две скамьи округлых очертаний почти целиком обнимали очаг; на одной растянулся я, на другую взобрался котофей. Оба мы подремывали в нашем убежище до вторжения пришлецов, а затем явился Джозеф: прошаркал вниз по деревянной лестнице, уходившей в потолочный люк – по видимости, к нему на чердак. Злобно зыркнув на крохотное пламя, что я вызвал к жизни меж прутьями решетки, Джозеф согнал кота с его насеста, устроился на его месте сам и принялся набивать табаком трехдюймовую трубку. Мое присутствие в его святилище он, очевидно, счел дерзостью, о коей вслух и высказаться постыдно; молча поднес трубку к губам, скрестил руки на груди и запыхтел. Я предоставил ему наслаждаться роскошью бестревожно; высосав из трубки последнее дымное колечко, он испустил наиглубочайший вздох, встал и отбыл важно, как и прибыл.
Затем в кухне раздались шаги упруже; на сей раз я открыл рот, дабы изречь «доброе утро», но снова закрыл, так и не вымолвив приветствия; ибо Хэртон Эрншо читалsotto voce[6] свои утренние молитвы, чередой проклятий осыпая все, что попадалось ему под руку, пока он рылся в углу в поисках лопаты либо заступа, дабы разгрести сугробы. Он заглянул через спинку скамьи, раздул ноздри и обменяться любезностями со мною пожелал не более, чем с моим сотоварищем котом. Из его деятельности я заключил, что выходить наружу разрешается, и, оставив свое жесткое ложе, шагнул было за юнцом. Тот заметил и черенком лопаты ткнул во внутреннюю дверь, невнятным звуком дав мне понять, что, раз уж я меняю местоположенье, направиться мне следует туда.
Дверь открывалась в дом, где уже возились женщины: Цилла громадными мехами гнала пламя вверх по трубе; госпожа Хитклифф же, преклонив колена у очага, при свете огня читала. Рукою она прикрывала глаза от жара, совершенно, похоже, погрузилась в свое занятие и прерывалась, дабы разве только попенять служанке за то, что засыпала ее искрами, или отпихнуть собаку, что временами слишком настойчиво тыкалась носом ей в лицо. К своему удивлению, здесь же я узрел и Хитклиффа. Он стоял у огня, ко мне спиною, и как раз завершал бурную сцену с бедняжкой Циллой, коя временами прерывала свои труды, дабы уголком передника утереть лоб и испустить негодующий вздох.
– А ты, никчемная… – взъярился он, когда я вошел; обернувшись к невестке, он употребил характеристику невинную, вроде утки или овцы, обыкновенно, однако, заменяемую на многоточье, вот так: … – Опять взялась за свои фокусы! Остальные себе на хлеб зарабатывают – но ты живешь моей милостью! Убери этот свой вздор и найди чем заняться. Ты расплатишься со мною за эту напасть – за то, что вечно мельтешишь у меня перед глазами; слышишь меня, клятая ты девчонка?
– Я уберу свой вздор, поскольку вы можете меня заставить, если я воспротивлюсь, – отвечала юная леди, закрыла книгу и бросила ее на стул. – Но хоть язык себе сотрите проклятиями – делать я буду лишь то, что пожелаю!
Хитклифф занес руку, и говорившая, явно знакомая с ее тяжестью, безопасности ради отскочила подальше. Не желая забавляться зрелищем свары, я поспешно выступил вперед, будто хочу погреться у огня и знать не знаю, что прервал ссору. Всем хватило благопристойности прекратить дальнейшие боевые действия: Хитклифф, от греха подальше, спрятал кулаки в карманы; госпожа Хитклифф скривила губу, уселась на стул в дальнем углу и, держа данное слово, изображала статую до самого моего ухода. Каковой воспоследовал вскоре. Я отказался от приглашения позавтракать и при первом проблеске зари воспользовался случаем сбежать на свежий воздух, кой был теперь чист, и недвижен, и холоден, как неосязаемый лед.
Не успел я одолеть сад, домовладыка окликнул меня, велел обождать и предложил сопроводить через болота. И хорошо, ибо весь склон холма вздымался теперь сплошным белым океаном; приливы его и отливы не сообразовывались с земными подъемами и спусками: во всяком случае, многие ямы наполнились до краев, а целые гряды холмов, отвалы карьеров стерлись с карты, кою запечатлела в моем мозгу вчерашняя прогулка. У одной обочины я заметил череду вертикальных камней ярдах в шести-семи друг от друга, и тянулись они вдоль всей пустоши; их установили и вымазали известью, дабы они служили вехами во тьме, а при снегопадах, подобных нынешнему, очерчивали границы глубоких топей по сторонам надежной тропы; однако, помимо грязных пятнышек, что там и сям выглядывали из снега, вехи эти исчезли начисто, и спутнику моему нередко приходилось указывать мне, вправо или влево надлежит ступить, хотя мне казалось, будто я верно следую извивам дороги.
В пути мы не обменялись почти ни словом, а у ворот Скворечного Усада он остановился и сказал, что дальше я заплутать не смогу. Прощание наше ограничилось поспешным кивком, и затем я двинулся вперед, надеясь лишь на собственные силы, ибо ныне сторожка привратника необитаема. От ворот до дома две мили пути; по-моему, мне удалось их удвоить, заблудившись меж деревьев и по шею утонув в снегу – затруднение, кое оценить способны лишь те, кто его пережил. Как бы там ни было, вдоволь побродив, я вступил в дом, когда часы пробили двенадцать; таким образом, обычный путь из Громотевичной Горы я преодолевал по миле в час.
Беспременный мой атрибут и ее свита бросились мне навстречу, бурно восклицая, что совершенно уже поставили на мне крест: все сочли, что ночью я сгинул, и раздумывали, как теперь устроить поиски моих останков. Я велел им угомониться, раз уж они вновь узрели меня живым, и, до мозга костей оцепенелый, потащился наверх; там, переодевшись в сухое, я минут тридцать или сорок шагал из угла в угол, дабы вернуть жар в члены, а затем перешел в кабинет, ослабев, точно котенок, – до такой почти степени, что едва смог насладиться уютным огнем в камине и дымящимся кофе, кои служанка приготовила в рассуждении меня оживить.
Глава IV
Ах, человек – неверный флюгер! Я, кто полон был решимости совершенно оборвать всякую связь со светскою жизнью и благодарил судьбу свою за то, что наконец-то очутился там, где оная практически невероятна, – я, несчастный малодушник, до заката боролся с унынием и одиночеством, но вынужден был сложить оружие; под предлогом допроса касательно потребностей нашего хозяйства я возжелал, чтобы госпожа Дин, принесшая мне ужин, посидела со мною, пока я трапезничаю; я искренне надеялся, что она окажется типической сплетницей и беседой своею либо воскресит меня, либо усыпит.
– Вы немало времени провели в сем доме, – заговорил я. – Шестнадцать лет, если не ошибаюсь?
– Восемнадцать, сэр: я здесь поселилась, когда хозяйка вышла замуж; я ей прислуживала, а как она умерла, хозяин оставил меня в доме экономкой.
– Вот как.
Повисла пауза. Я уже опасался, что к сплетням она не склонна, разве только о собственных своих делах, каковые меня едва ли интересовали. Впрочем, нет: раздумья заволокли ее румяное лицо, и некоторое время она посидела, сложив кулаки на коленях, а затем выпалила:
– Эх, сильно все изменилось с тех пор!
– И в самом деле, – отметил я. – Вы, должно быть, повидали немало перемен?
– Да уж; и бед немало, – отвечала она.
«Ага! – подумал я. – Теперь переведем разговор на семейство моего домовладыки. Хорошее начало! И эта юная вдовица – любопытно было бы узнать ее историю. Местная ли она уроженка или, что вероятнее, чужеземка, кою угрюмыеindigenae[7] не почитают за свою». С каковым намерением я и спросил госпожу Дин, отчего Хитклифф сдает Скворечный Усад, сам предпочитая обитать в жилище и условиях несравнимо худших.
– Он небогат? Ему недостает средств на содержание поместья? – осведомился я.
– Да богат он, сэр! – откликнулась она. – Бог его знает, сколько у него денег, и с каждым годом они все прирастают. Да-да, он богат, мог бы себе позволить дом и получше; но он ведь близко – совсем рядом; может, он бы и не прочь был переехать в Скворечный Усад, да только как услыхал, что сыскался хороший жилец, не упустил нескольких лишних сотен. Уж не знаю, отчего люди такие жадные, когда у них на всем белом свете никогошеньки нету!
– У него же, мне представляется, был сын?
– Да, сын у него был – помер уже.
– А эта юная леди, госпожа Хитклифф – его вдова?