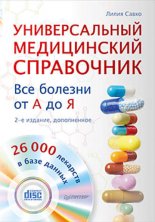Несовременная страна. Россия в мире XXI века Иноземцев Владислав

С одной стороны, она позволяет существовать сложившейся в стране системе управления — причем способствует этому двояко. Во-первых, создавая во всей управленческой вертикали ощущение «управляемой безнаказанности» в финансовом отношении, элита обеспечивает приток в бюрократический класс специалистов (по странной случайности их теперь именуют в России «технократами»), сконцентрированных только на деньгах и карьере и полностью лишенных политических амбиций. При этом власть имеет все возможности контролировать бюрократов и таким образом успешно обеспечивать их политическую лояльность и исключать возможности для любого бунта внутри системы. «Вертикаль власти» совершенно справедливо называют в то же время «коррупционной вертикалью»[242], и эта конструкция, на мой взгляд, представляет собой одну из величайших управленческих технологий современной России. Во-вторых, власть не могла бы принимать тех законов, которые принимает и через которые правит страной, если бы эти законы не действовали избирательно, — а население и бизнес в противном случае не смогли выживать. Коррупция наверху, «спущенная вниз», позволяет значительной части населения относительно нормально существовать и успешно решать свои повседневные проблемы — тем самым ее наличие является своего рода демпфирующим фактором, в отсутствие которого конфликт между «низами» и «верхами» стал бы гораздо более выраженным. Именно поэтому кажущееся всеобщим неприятие коррупции не перерастает пока (и, я думаю, не перерастет и в будущем) в масштабную борьбу с ней; кампания антикоррупционных активистов во главе с А. Навальным имеет небольшие шансы превратиться в общенациональное политическое движение.
С другой стороны, однако, коррупция представляет собой реальную проблему, поскольку в ней не заложено никакого естественного ограничителя, а та же двухсекторная экономическая модель предполагает, что дл реализации определенной задачи какие-то деньги все же должны быть потрачены по назначению. Поэтому постоянное стремление чиновников заработать больше порождает устойчивый рост издержек у исполнителей государственного заказа, на определенном этапе «выталкивающий» все существующие в экономике расценки за пределы нормальности — т. е. цен, устанавливающихся в странах со сходным уровнем доходов[243]. Следствием становится попросту остановка развития: по данным Росстата, в 2016 году в России, например, было построено 2,4 тыс. км новых автомобильных дорог, что обошлось государству в 682 млрд руб. ($10,2 млрд) против 116 млрд руб. ($4,12 млрд) в 2001 году, на которые удалось построить 7,9 тыс. км новых дорог[244]. В будущем может оказаться, что практически любые ассигнования не смогут гарантировать дальнейшего расширения дорожной сети (а частные вложения за пределами Московской области или трассы Москва — Санкт-Петербург никогда не окупятся). Соответствующим образом оборонные расходы не будут воплощаться в новых вооружениях, а инвестиции несырьевых госкомпаний никогда не принесут отдачи (сегодня уже можно видеть, как у властей накапливается разочарование в отношении целого ряда недавно принятых программ — чего стоит одно только четырехкратное сокращение ассигнований на развитие арктической инфраструктуры[245]). Такое положение вынудит власти искать варианты выхода из сложных ситуаций, затрагивающие в большей мере интересы населения, чем коррумпированной элиты (например, девальвации, которые сократят рублевые внутренние издержки относительно валютной выручки, получаемой от сырьевого экспорта).
Наконец, следует попытаться понять, почему в нынешних условиях коррупция приняла в России масштабы, которые не имеют аналогов в ее предшествующей истории. Это прекрасно видно, если попытаться сравнить сегодня опись изъятого и конфискованного у самого влиятельного сановника петровской империи светлейшего князя А. Меншикова[246] с обнаруженными недавно в обычной квартире заурядного полковника Главного управления МВД Д. Захарченко 8,5 млрд руб. ($132 млн)[247] (ну а антикоррупционные дела времен Ю. Андропова, когда расстрелянному в 1984 году директору Елисеевского магазина Ю. Соколову вменялось хищение 1,5 млн рублей, или $500 тыс. по курсу «черного рынка»[248], вообще покажутся детской забавой). Причина, на мой взгляд, состоит в существенно изменившейся исторической ситуации, а именно — в глобализации, которая ознаменовала конец ХХ и начало XXI столетий.
Важнейшим демотиватором коррупции в том смысле, о котором мы говорим, является политическая и экономическая закрытость страны. Она не может искоренить взяточничество — потому что его масштабы не требуют выхода за пределы национальной экономики (можно найти объяснения возможности построить дом, купить квартиру, несколько машин и т. д., а на большее низовые взяточники не претендуют), но в такой ситуации коррупция на высших уровнях государственной иерархии крайне маловероятна. Элита может позволить себе жить в условиях, несравнимых с простым народом (даже не так, как в СССР, а как, например, в Северной Корее), но не получая при этом в полном смысле слова коррупционного дохода. Коррупция того масштаба, который мы наблюдаем сегодня в России (Украине, Казахстане, Бразилии, многих африканских странах), возможна только тогда, когда значительную часть неправедно обретенного можно вывести из юрисдикции собственной страны, легализовать в развитом мире и при этом гарантировать возможность оперативного отъезда самого коррупционера при неблагоприятном стечении обстоятельств.
Коррупция на протяжении последних 200 лет развивалась во многих странах и обществах (даже демократических), но эффективно бороться с ней удавалось только в экономически и политически современных (я бы сказал даже — доминирующих в глобальной политике) державах. Этот факт имеет довольно простое объяснение: скопив значительные средства в богатой и успешной стране, коррупционер практически никогда не будет аккумулировать их в бедной и непредсказуемой. Американские политики эпохи так называемого позолоченного века, в которую, по признанию большинства историков, коррупция в США приняла поистине фантастические масштабы[249], не вывозили капиталы в Аргентину и не покупали роскошных вилл в Венесуэле; российские коррупционеры тоже не спешат размещать средства в нигерийских банках или, не афишируя, добиваться гражданства Вьетнама. Отличие прежней и нынешней ситуаций заключается в том, что в начале ХХ века не было более успешной и процветающей страны, чем Соединенные Штаты, — и потому бороться с коррупцией в ней было можно, не опасаясь того, что деньги коррупционеров — да и они сами — утекут из страны. Для того чтобы остаться в Америке и пусть и с потерями, но перейти в статус легальных предпринимателей, местные коррупционеры допустили изменение законодательства. В современной ситуации покинуть свою страну и перебраться в более успешную и привлекательную для жизни является для коррупционера в «развивающемся» мире не катастрофическим, а наиболее благоприятным сценарием. Поэтому начиная с 1970-х годов исследователи фиксируют стремительный рост утечки капиталов с глобальной периферии в «центр»: в финансовые институты Лондона, Цюриха, Люксембурга, офшорные юрисдикции. Если в конце 1970-х такой отток не превышал $60 млрд в год, то к середине 1990-х годов он составил $250 млрд, а к началу 2010-х превысил $1 трлн ежегодно[250]. О каком бы «вставании с колен» ни рассуждали правители соответствующих стран, они становятся жертвой того, что мы с А. Лебедевым назвали «третьим колониализмом» — талантливо выстроенной системой эксплуатации «первым» миром «третьего», причем организованной с полного согласия последнего[251]. Этот фактор серьезно меняет ситуацию и делает политические элиты многих государств сообществами временщиков, тем самым давая им дополнительные стимулы для расширения своей коррупционной активности.
Коррупция в России выступает одним из наиболее убедительных свидетельств ее несовременности — неспособности организовать страну так, чтобы граждане могли действовать и достигать своих целей в легальном поле, не опасаясь юридических последствий. Средства, которые перекочевывают из государственной казны в карманы чиновников, являются платой несовременной страны — зависящей от рентного дохода, обладающей неэффективной экономикой и управляемой авторитарной властью — за иллюзорное право считать и ощущать себя современной. Если бы отечественная элита и российский народ не пытались делать вид, что они живут в современном демократическом обществе с нормальной производительной экономикой, создание и распределение общественного богатства могло быть намного менее затратным, а общество — намного более благополучным. Если бы почетный статус «друг президента» без всяких дополнительных усилий приносил ежегодный доход в несколько десятков (и даже сотен) миллионов долларов, российская экономика была бы намного «экономнее» — так как в этом случае не требовалось бы создания десятков синекур и организации сотен бессмысленных и вредных проектов, единственная цель которых — легализация перераспределения средств из мошны государства в карманы частных лиц. В случае, если бы в стране открыто признавалась существующая феодальная система, не стоило бы изобретать систему «Платон» или мост в Крым для формального обогащения тех, кто неформально и так владеет Россией.
В то же время следует отметить, что в формировании нынешнего положения вещей не стоит искать персонально ответственных политиков и чиновников. Парадоксальность существующей системы состоит в том, что она сложилась естественным образом и образовалась бы практически неизбежно безотносительно к тому, кого бы она назначила своим лидером и насколько сменяемым он бы оказался. Россия пришла к обретенной в 1991 году независимости страной, в которой уже была заложена сегментированная экономика, неспособная искать сложных путей в будущее, и поэтому с радостью поддалась соблазну опереться на сырьевой сектор; пережив постперестроечные политические и экономические унижения, страна готова была вознаградить любого, кто давал ей шанс даже на иллюзорное возрождение, полной покорностью. Не стоит считать, что Россия «сошла с рельсов» на рубеже 1990-х и 2000-х годов: как я попытаюсь показать ниже, она уверенно шла по тому пути, на который ее направили прежние власти еще в начале 1990-х.
Всё сказанное означает только одно: хозяйственный базис нынешней России не оставляет оснований надеяться на то, что в обозримом будущем в его недрах зародится сколь-либо современная экономика, выступающая залогом возвращения на путь, по которому идут развитые страны. Надежды на то, что эта современность будет обретена Россией за счет ускорения ее экономического роста, по-моему, иллюзорны. Сегодня опора на сырьевые отрасли, практический запрет на конкуренцию, распространение коррупции и полное пренебрежение к эффективности в относительно равной степени приносят выгоду представителям самых разных социальных групп — и именно нежелание менять что-либо в хозяйственной сфере является в наши дни главной опорой и базой того общественного консенсуса, который, вопреки многочисленным рассуждениям политологов, остается в России исключительно устойчивым.
Россия в ее нынешнем виде не может быть названа не только демократией, какой бы смысл мы ни вкладывали в это слово, но она не может считаться и экономикой в современном понимании данного термина. Ее народное хозяйство представляет собой странную систему, базирующуюся на симбиозе государственного (рентного, нерыночного) и частного (предпринимательского и конкурентного) секторов. Доминирующим сектором остается первый, который определяет все основные черты сложившейся системы. Двумя наиболее значимыми из них выступают, с одной стороны, сырьевая экономика, которая одна только способна поддерживать наиболее выгодную властям рентную структуру хозяйства, объективно занижающую ценность человеческого капитала, интеллекта и инноваций, и, с другой стороны, пренебрежение эффективностью, которое обусловлено как ресурсным типом хозяйства, так и необходимостью извлекать из его функционирования неформальные доходы правящей элиты. Такое положение вещей не допускает развития системы — она не может ни уйти от сырьевой зависимости, ни технологически модернизироваться, даже оставаясь сосредоточенной на ресурсных отраслях. При этом очевидно «двухсекторный» характер народного хозяйства задает различие мотиваций хозяйственных агентов и формирует условия для появления коррупции как феномена, который во многом и сохраняет единство хозяйственной системы — хотя и очень высокой ценой. Как мы уже отмечали выше, основной проблемой такой хозяйственной системы является ее полная неспособность даже к ограниченному развитию — и поэтому ее сохранение будет усиливать «выпадение» России из современности, которое сегодня мало что может остановить.
Основная причина сложившегося положения вещей — то самое пресловутое «государство», о котором говорилось выше: в хозяйственной сфере оно выступает крупнейшим субъектом производственной и финансовой деятельности и наиболее значимым собственником, с одной стороны, и в то же время законодателем, регулятором и арбитром в любых хозяйственных процессах — с другой. Пользуясь своими практически неограниченными возможностями, оно стремится использовать самые легкодоступные источники дохода (отсюда и сохранение ресурсного характера экономики, несмотря на всю риторику властей); не допускать какой бы то ни было несанкционированной конкуренции (отсюда дальнейшее огосударствление, подавление предпринимательской инициативы и ухудшение бизнес-климата) и, наконец, присваивать максимально возможную часть бюджетных/общественных средств для собственных нужд (отсюда коррупция, правовой нигилизм, отсутствие перспектив для создания системы разделения властей).
Следует признать, что сформировавшееся в России народное хозяйство, как бы критически к нему ни относиться, является комплексным и внутренне непротиворечивым. В нем соблюден баланс интересов между элементами системы, а сами эти интересы рационально сформулированы и определены. В отличие от советской системы, где правящий бюрократический класс не обладал ни формализованной собственностью внутри страны, ни накоплениями за ее пределами, в современных условиях у политической элиты всё это есть — и, значит, ей есть за что бороться. Она сделала всё, чтобы не быть устраненной демократическим путем, и создала хозяйственную систему, целиком ориентированную на собственные нужды. Однако эта практически совершенная система уже сегодня сталкивается с очевидной проблемой: ее несовременность угрожает полной потерей конкурентоспособности в глобальном мире, технологическим провалом, социальной неудовлетворенностью и геополитическими поражениями; «осовременить» же ее оказывается невозможным без разрушения фундаментальных основ. Эта проблема отражается сегодня в России практически во всем: в политических метаниях и в поисках «преемников»; в стремлении к модернизации и в ее боязни; в желании интегрироваться в развитый мир или по крайней мере быть в него принятым и в старательном разрушении всех формальных элементов связи с ним. Всё это свидетельствует только об одном: несовременная система на новом историческом витке никак не может найти варианта своего «осовременивания» — и именно этим обусловлены все те малопредсказуемые движения, которые мы наблюдаем в последнее время.
Глава четвЕртая
Невозможность модернизации
Россия, долгие столетия выстраивавшая свою идентичность, отталкиваясь от воображаемого Запада, на протяжении всей своей истории ощущала необходимость противостояния реальному Западу — и это противостояние либо требовало экономической мощи (когда оно принимало или грозило принять военный оборот), либо сводилось к «экономическому соревнованию» (когда декларировалась как мирное). Поэтому отечественная элита с давних пор время от времени ощущала дискомфорт от преимущественно сырьевого хозяйства страны и пыталась раз за разом превратить ее в одну из передовых экономик. Однако всякий раз приближение к желаемому было недолговечным, и после очередного «прорыва» страна сваливалась обратно. Если сравнить среднедушевой валовой продукт в России и Франции в 1700 году и сегодня или России и США в 1885 году и сегодня, то окажется, что соотношение (в первом случае 67 и 63 %, а во втором — 37 и 44 %[252]) не слишком изменилось. Почему же нашей стране раз за разом не удается модернизироваться и догнать развитый мир? Чтобы ответить на данный вопрос, следует сначала сказать несколько слов о том, что такое модернизация.
Модернизация и еЕ закономерности
Концепция модернизации как стратегии развития была предложена в довольно общей форме Т. Парсонсом[253], который пытался обобщить исследования по ускоренному индустриальному развитию, начатые в последние годы Второй мировой войны[254]. Знаковыми чертами этой концепции было, с одной стороны, представление о развитии как о линейном процессе, основанном на использовании преимуществ индустриального производства («в экономическом и социальном плане на всех широтах все страны всех рас претендуют на то, чтобы видеть одну и ту же цель под именем сходных в своей основе ценностей… индустриализация неизбежна, она стремится к всеобщности», — писал Р. Арон[255]), и, с другой стороны, признание того, что модернизация является уделом отстающих стран, которое на момент ее начала не являются «современными» (modern)[256]. Термин «модернизация» поэтому применялся к самым разным странам, но использование его ограничивалось периодом, в котором можно было говорить о противостоянии традиционного (аграрного) и нового (индустриального) укладов — т. е. XVII–XX веками; «Модернизация, — писал Ш. Эйзенштадт, — это процесс изменения в направлении тех типов социальной, экономической и политической систем, которые развивались в Западной Европе и Северной Америке с XVII по XIX век и затем распространились на другие европейские страны, а в XIX и XX веках — на Южноамериканский, Азиатский и Африканский континенты»[257]. Стоит также отметить, что, осознанно или невольно, это понятие не применялось в отношении передовых обществ своего времени, что кажется мне очень важным обстоятельством[258]. Модернизация, как отмечал С. Хантингтон, отличается революционностью (предполагая преодоление элементов традиционных социальных связей); комплексностью (требуя перестройки экономики, индустриализации, секуляризации и в перспективе расширения политического участия); системностью; глобальным характером (с вызовами модернизации сталкивается большинство стран, и успехи одних подталкивают других к переменам); гомогенностью (модернизация сближает страны и народы и скорее унифицирует их, чем делает их более разнообразными) и необратимостью (история не знает примеров того, как достигшие серьезного прогресса народы добровольно отказывались от своих завоеваний, вернувшись к традиционному обществу)[259].
Две особенно мощные волны модернизации фиксировались исследователями в последней трети XIX и во второй половине ХХ столетия.
В первом случае речь шла о попытках самых разных стран — Японии, Соединенных Штатов, Германии и России — вырваться на лидирующие позиции, обогнав ведущую державу предшествующей эпохи — Великобританию. Следует заметить, что все главные акторы этого периода были относительно успешны: в России и Японии, относительных аутсайдерах, после реформы 1861 года и Революции Мэйдзи произошли огромные изменения. В 1870–1901 годах протяженность железных дорог в России увеличилась в 4,8 раза[260], добыча угля — в 5,4 раза, выплавка стали — в 4,5 раза[261]. В Японии за тот же период эти показатели увеличились в 3,2, 7,8 и 2,2 раза[262]. В Германии с 1870 по 1902 год промышленное производство выросло в 5 раз, выплавка стали — в 30 раз, а уровень урбанизации поднялся с 30 до более чем 50 %[263]. В США с 1866 по 1899 год промышленность показала 10-кратный рост, а протяженность железных дорог достигла 200 тыс. км[264]. В результате этих рывков сначала Соединенные Штаты, а вскоре за ними и Германия обошли Великобританию по абсолютному размеру своих экономик. Это была первая эпоха великих модернизаций, наиболее примечательной чертой которой стала смена глобального и европейского экономических лидеров — чего с тех пор так больше и не происходило.
Во втором случае среди участников «рывка» присутствовали и прежние участники — Советский Союз и Япония (причем обе эти страны в 1970-е годы рассматривались как претенденты на мировое экономическое лидерство[265]), однако параллельно в «гонке» участвовали Южная Корея, Тайвань, Малайзия, а с 1980-х годов — и Китай. В ходе этой «кампании» никто не смог оспорить американское лидерство (и я чуть позже расскажу почему): СССР и Япония, долгие годы выглядевшие наиболее успешными «претендентами», почти одновременно вошли в полосу жесточайшего экономического кризиса рубежа 1980-х и 1990-х годов; Южная Корея и Тайвань стали мощными, но региональными экономиками; Китай до сих пор существенно отстает по номинальному ВВП и уровню жизни, но сохраняет шансы на паритет, обусловленные прежде всего его несопоставимыми с большинством развитых стран размерами[266]. При этом следует отметить, что в конце ХХ века рост экономики и уровня жизни в «догоняющих» странах был куда более впечатляющим, чем в конце XIX века. Более того, в этот период модернизацию сумели провести десятки стран от Южной Азии до Аравийского полуострова, от Латинской Америки до Восточной Европы — и это позволило сформулировать основные принципы современной модернизации. Кратко их перечислю.
Во-первых, все современные модернизации начинались тогда, когда соответствующая страна находилась на пороге катастрофы (как Сингапур после своего исключения из Малайзийской федерации или Китай после «культурной революции») или оправлялась от войны, в которой потерпела поражение (например, Япония, Южная Корея и Тайвань). Это имело большое значение по двум причинам. С одной стороны, у народа не оставалось выбора кроме как ускоренно развиваться; с другой стороны, население было бедно и готово работать (когда бы ни инициировалась новая хозяйственная политика в странах Азии, величина подушевого ВВП не превышала $300): в Малайзии он составлял $290 в начале 1950-х годов[267], на Тайване — $160 в начале 1960-х[268], в Китае, двинувшемся по пути преобразований в 1978 году, — $280, а во Вьетнаме уровень в $220 был достигнут лишь к середине 1980-х[269]. Оба указанных фактора позволяли реализовывать модернизационную повестку без соблазна оглянуться в прошлое и сказать, что «оно было лучше нынешнего», а также сохраняли потребность в проведении модернизационной политики на протяжении нескольких десятилетий, в течение которых ее основные императивы становились привычными для большинства населения и модернизация рассматривалась не как болезненная, но недолговременная «работа над ошибками», а как продолжительный и естественный процесс, открывающий путь к устойчивому развитию.
Во-вторых, модернизация предполагала четко продуманные действия государства — своего рода программу развития: предоставление приоритета определенным отраслям, мобилизацию необходимых средств и ресурсов, стимулирование инноваций или закупки перспективных технологий, помощь национальным компаниям в выходе на внешние рынки, поддержку экономического роста через финансирование инфраструктурных проектов. В управляемых модернизаторами-визионерами странах само правительство формировалось прежде всего из профессиональных экономистов, технологов или инженеров, хорошо понимающих складывающиеся тренды и стоящие перед экономикой вызовы; создавались «национальные штабы», каждодневно и скрупулезно руководившие реформами (типа японского министерства внешней торговли и промышленности[270]); велась бескомпромиссная борьба с коррупцией[271]; активно перенимался иностранный опыт и практически всегда приглашались зарубежные специалисты. Модель такого государства — не всегда демократического, но, как правило, исключительно эффективного — получила позднее название «государства развития (developmental state)»[272], а сформировавшиеся в результате модернизаций 1970–1990-х годов социальные системы стали называть «законченными индустриальными обществами (ultimate industrial societies)[273]».
В-третьих, все модернизации основывались на резком увеличении доли промышленности как в ВВП, так и в структуре занятости, что, в свою очередь, требовало ускоренного наращивания инвестиций — исключений здесь попросту не наблюдалась. В Японии в 1948–1971 годах дoля обрабатывающих отраслей промышленности в ВВП выросла с 19 до 36 %, в занятости — с 22 до 31 %; в Южной Корее эти показатели в 1963 и 1990 годах составили соответственно 9 и 31 %, 10 и 26 %[274]. Параллельно доля сбережений в ВВП в Японии выросла с 17,3 % в 1945–1954 годах до 24,7 % в 1970-х годах; в Малайзии — с 21,9 % в 1960-х годах до 33,7 % в 1980-х, в Сингапуре — с 28,1 % во второй половине 1970-х годов до 44 % в начале 1990-х; в Китае к этому времени она превысила 50 %[275]. Показатели объема промышленного выпуска — с учетом того, что значительная часть продукции уходила на внешние рынки и постоянный рост доходов населения не выступал обязательным условием развития экономики, — росли существенно быстрее, чем повышался уровень жизни. Модернизации, таким образом, предполагали возможность убедить население жить на протяжении определенного времени относительно тяжело, но быть вознагражденным будущими успехами.
В-четвертых, модернизации оказывались успешными только тогда, когда они ориентировались на встраивание развивающихся стран в глобальную экономику, а не на автаркичное развитие. Именно это и становилось — как с экономической, так и с социальной точек зрения — важнейшей гарантией того, что модернизации делали решившиеся на них общества более современными — причем даже крайне высокая степень их «зависимости» от развитых стран никогда не считалась опасной или нежелательной. Так, в 1960-е и 1970-е годы темпы роста экспорта из стран Юго-Восточной Азии исчислялись двузначными цифрами, а соответствующий показатель для Южной Кореи в 1963–1973 годах составлял неправдоподобную величину — 52 % в год[276]. При этом экспортировались промышленные товары, а предпочтительными направлениями сбыта были Соединенные Штаты и страны Западной Европы. С 1960 по 1985 год объем американского импорта из стран Азии (включая Японию) вырос почти в 60 (!) раз[277]; при этом Южная Корея и Тайвань направляли в США от 38 до 45 % всего своего экспорта, а еще от 12 до 20 % такового уходило в Японию[278]. Из развитых стран приходили технологии и инвестиции; с ними заключались важнейшие торгово-экономические соглашения. Дж. Бхагвати специально подчеркивает, что даже самая успешная из ограничивавших влияние глобализации на свою экономику развивающаяся страна не продемонстрировала результаты лучше, чем самая неудачливая из тех, что ориентировались на открытую экономику[279].
Подводя итог этому теоретическому экскурсу, я не буду пытаться четко определить понятие модернизации (как говорил один из сингапурских «прорабов модернизации» Го Кенг Сы: «Модернизация — это как слон; трудно дать ему определение, зато легко признать, когда видишь это животное»[280]), но отмечу, что ее разнообразные трактовки не должны скрывать фундаментального обстоятельства: модернизация — это процесс, целью и результатом которого является превращение ранее отстававшей и «запутавшейся в себе» страны в социум, который может развиваться на естественной основе, свободно конкурируя с остальными членами международного сообщества и по мере необходимости переходить (желательно ненасильственным и органичным образом) от одного политического режима к другому. Иначе говоря, успешная модернизация — это политическое и экономическое усилие, устраняющее необходимость своего повторения в будущем и открывающее путь гармоничному развитию. Если быть предельно кратким, настоящая модернизация — это процесс, лишающий общество потребности в каких бы то ни было последующих модернизациях.
Россия на этом фоне выглядит уникальной. «Модернизационный опыт» нашей страны фактически не с чем сравнивать — так как ни одно государство за последние 500 лет не поднималось так высоко в мировой экономической и политической «табели о рангах», чтобы затем упасть так низко, и уж тем более ни одна страна не проделывала это столько раз, сколько Россия.
Если не уходить слишком далеко в историю, можно начать с середины XVII века, когда Россия стала медленно оправляться после Смуты. Этот период, который в российской историографии иногда рисуется чуть ли не «потерянным временем», был настоящей «эпохой первоначального накопления» — накопления сил для перемен, решимости для реформ и опыта, получаемого от расширения системы контактов с Европой. Без этого не могли бы случиться масштабные преобразования Петра I, которые, хотя и проводились, как это признавали в свое время даже российские революционеры, «варварскими способами»[281], тем не менее вывели Россию в число самых влиятельных (прежде всего в военно-политическом отношении) европейских держав. И хотя в этот период экономические перемены, происходившие внутри страны, не слишком сильно отразились на структуре ее экспорта: Россия и после Петра I оставалась поставщиком пушнины, строевого и корабельного леса, пеньки, воска и меда; но при этом заработали мануфактуры, выпускавшие металл, ткани и одежду, военное снаряжение и т. д. К 1730-м годам Россия подошла мощной державой с крупнейшей в Европе армией, новой столицей, выходом к морям, европейской бюрократией и многонациональной амбициозной политической и военной элитой, а к началу XIX столетия российская армия численностью более 600 тыс. человек была одной из самых многочисленных и оснащенных[282], объемы производства чугуна, стали, тканей и многих других видов товаров выросли по сравнению с серединой XVIII века в 5–8 раз[283], а внешняя торговля — в 12 раз только за 1700–1725 годы[284]. Однако экономическая и технологическая модернизация натолкнулась на неготовность правящих элит к социально-политическим реформам. Последовавшие в первой половине XIX века события — оформление Священного Союза, подавление европейских революций, насаждение политического доктринерства в виде апологии «панславизма» и, как финал, поражение в Крымской войне 1853–1856 годов — окончательно доказали непреодолимо «персоналистский характер российской модернизации: если в стране наконец появляется модернизатор — то случается и модернизация; если нет модернизатора — не стоит ждать и попыток инициирования перемен.
Тупик середины XIX века, как и тупик первой половины XVII столетия, в конечном счете вызвал к жизни новых модернизаторов — от Александра II до Витте и Столыпина, — и на этот раз модернизация пошла дальше. Помимо прежнего основания — копирования европейского опыта и разворота «лицом к Европе» — она была обогащена некоторыми социальными и политическими изменениями: отменой крепостного права в 1861 году и учреждением Государственной думы в 1907-м. Экономические успехи не заставили себя ждать: темпы экономического роста в 1901–1913 годах составляли 3,2–4,5 % в год, а промышленность развивалась еще быстрее. C 1890 по 1913 год производство стали в России выросло в 5,1 раза, добыча нефти — в 2,6 раза, угля — в 3,4 раза, производство тканей и текстильных изделий — в 2,9 раза, а совокупное энергопотребление — в 5 раз. Россия достаточно быстро и успешно интегрировалась в мировую экономику: объем внешней торговли достиг 8,6 % ВВП, а за счет инвестиций из-за рубежа в 1905–1912 годах было привлечено до 30 % совокупных вложений в основные фонды[285]. К началу Первой мировой войны Россия обеспечивала 8,2 % мирового промышленного производства — больше, чем Канада или Франция[286]. Кризис 1900–1903 годов, несмотря на то, что сопровождался довольно продолжительной депрессией, спровоцировал переход к интенсивной модели развития, отмеченной крайне высокими темпами роста производительности труда. Шансы на продолжение сформировавшихся трендов выглядели неплохо, однако ход событий был нарушен сначала Первой мировой войной, а затем и двумя революциями 1917 года.
«Новый круг» был начат в середине 1920-х годов, когда советская экономика выглядела блекло даже на фоне экономик стран континентальной Европы, которые были отброшены войной на уровень середины, а иногда и начала, 1890-х годов. С провозглашением «социалистической» индустриализации Советская Россия снова пошла по пути радикальных технологических заимствований у капиталистических стран, в очередной раз подтвердив, что такой вариант сокращения отрыва от лидеров весьма эффективен, а технологии и методы организации индустриального производства не обязательно должны предполагать личную свободу и демократическое политическое устройство. В результате сегодня даже те, кто сильно сомневается в правдивости статистических данных того времени, не отрицают, что промышленность Советского Союза сделала рывок, а инфраструктура получила невиданное ранее развитие. В это время стране удалось не только достигнуть технологического паритета со многими европейскими государствами, но и на некоторых направлениях вырваться вперед и какое-то время удерживать чуть ли не мировое лидерство. Этот курс продолжался вплоть до середины 1960-х годов, когда разрыв в факторной производительности советской и американской экономик оказался минимальным за всю историю (хотя и выражался весьма внушительной цифрой в 2,9 раза[287]). Однако затем отставание от передовых стран становилось все более заметным, и всего двух десятилетий оказалось достаточно, чтобы «новая» Россия превратилась в изгоя на далекой экономической периферии современного мира.
Какие выводы можно сделать из этих «кругов» в российской модернизации?
Во-первых, каждая из модернизаций была спровоцирована своеобразным «тупиком» в развитии страны — причем всякий раз осознание такого тупика происходило не вследствие остановки развития самого по себе, а из-за становящегося все более заметным (а иногда — и опасным) контраста с окружающим миром. История — от допетровской до самой недавней — показывает, что, будучи предоставлена самой себе, Россия способна долго стагнировать в своем экономическом и политическом развитии, не ставя новых задач и целей. Поэтому важнейшим катализатором российских модернизаций иногда становилась конкуренция, но куда чаще — угроза, исходившая из внешнего мира. Российские модернизации всегда были сугубо догоняющими (я бы сказал — оборонительными) — даже в тех случаях, когда на излете они давали результаты, на короткий период выводившие страну в европейские или глобальные лидеры. Именно ощущение угрожающего отставания и неготовность властей мириться с такой ситуацией неизменно становились главным толчком российских модернизаций (так же как и в большинстве других стран модернизации начинались в условиях, когда критичность отставания от лидеров становилась очевидной и нетерпимой).
Во-вторых, каждая из модернизаций по отмеченной выше причине носила крайне ограниченный и внутренне противоречивый характер. С одной стороны, стремление преодолеть отставание не обязательно предполагало превращение в лидера — и именно потому большинство российских модернизаций затухали при некотором приближении к «современному» (но не исключительному) уровню. На протяжении XVIII–XIX веков Россия никогда не становилась, несмотря на ее размеры и потенциал, ведущей европейской экономикой, способной обеспечить значительный экспорт промышленной продукции и технологий в другие крупные страны; тем более плоды достижений очень редко «проливались» на все население: прогресс ограничивался отраслями, успехи в которых позволяли уверенно говорить, что отставание преодолено. С другой стороны, как раз именно эти размеры и потенциал играли со страной злую шутку: ее элита после первых же успехов начинала вновь ощущать себя властителем главной в военно-политическом отношении европейской державы (или даже одной из двух сверхдержав), что порой снижало уровень задач, которые ставились перед страной. Стремление к «величию», таким образом, прямо исключало движение к «современности» — и исключает его по сей день. При этом в России никогда четко не определялись конкретные задачи модернизаций; элиты достаточно хорошо осознавали, от чего они хотят уйти, но никогда не были способны сформулировать «образ желаемого будущего».
В-третьих, все российские модернизации были не только «элитистскими», как и многие другие, но призваны были служить процветанию и укреплению тех элит, которые их инициировали. Между тем обычно по ходу модернизаций инициировавшие их группы теряют власть, а в худшем случае даже устраняются. В России эта закономерность проявилась в двух крупных «двойных циклах» модернизаций. Первый (1695–1917 годы) состоит из фазы успешного развития, не только не угрожавшего системе, но даже укреплявшего ее (1698–1815 годы), и фазы более короткой, на протяжении которой перемены стали подрывать стабильность системы и привели к ее краху (1861–1917 годы). Между этими фазами лежал период застоя и неопределенности, в ходе которого накапливались признаки приближения тупика. Второй «двойной цикл» также состоял из периода развития, в целом укреплявшего систему (1921–1964 годы), и новой попытки рывка, приведшего в конечном счете к ее краху (1985–1991 годы). Между ними вновь лежало время застоя и кризиса. Очевидно, что модернизаторы «образца» 1861 и 1985 годов намеревались укрепить основы унаследованного ими порядка, а не привести его к краху: однако дефицит эволюционных изменений заметен в России как в XIX, так и на рубеже XX и XXI столетий. «Болезнь» российских модернизаций заключена в постоянной и неизбывной несогласованности экономических и политических реформ.
С учетом приведенных выше теоретических рассуждений и краткого исторического очерка можно попытаться ответить на вопрос, насколько вероятна новая российская модернизация, и если она невозможна, то по каким причинам.
Почему в России не будет модернизации
Идея «современности» России в трактовке большинством как западных, так и отечественных экспертов основывается на предположении о возможности ее успешного экономического развития[288]. Между тем итоги 1990-х и даже 2000-х годов не свидетельствуют о такой возможности: доля сырьевого сектора в экономике за последние тридцать лет только выросла, основные фонды обновляются очень медленно, многие интегральные хозяйственные показатели так и не вернулись к позднесоветскому уровню. Попытка модернизации, которую анонсировал в 2008 году тогдашний президент Д. Медведев[289], была быстро свернута, и сейчас данный термин уже практически не упоминается в официальной риторике. Всё это, разумеется, не означает, что модернизации в стране никогда не случится, однако вряд ли ее стоит ждать в ближайшие несколько десятилетий — причем по ряду причин.
Первая сводится к идеологическим аспектам, определяющим неготовность и правящей группы, и народа к модернизационной повестке.
С одной стороны, политическая элита ныне официально провозглашает курс на «консерватизм» и укрепление «традиционных» ценностей и норм[290], в то время как любая модернизация исходит из постулата о гибкости социальных устоев и возможности их трансформации. Идея модернизации в своей основе предполагает отказ от традиций и максимальную рационализацию общественной жизни — и тем самым прямо противоречит основной идее современной России, консерватизму. Заявить о модернизации — значит пересмотреть всю идеологическую парадигму, построенную с большим трудом и сложностями за последние полтора десятилетия, — причем пересмотреть во имя попытки достижения неочевидного результата. Предполагать, что помешанная на «стабильности» власть пойдет на это, — значит заниматься самообманом.
С другой стороны, сегодня все усилия власти направлены на убеждение сограждан в том, что Россия «встала с колен», вернулась в число великих держав, что она готова на равных (в том числе и в технологической сфере) соперничать с Западом[291]. Более того, распространяются представления о том, что крах Советского Союза был либо исторической случайностью, либо результатом заговора, что необходимо не столько смотреть в будущее, сколько стремиться к воссозданию утраченных элементов экономического и политического величия. В таких условиях призывы к модернизации диссонируют с основной риторикой власти: ее задача — убедить граждан в том, что в стране всё не только хорошо, но и всегда было хорошо (за исключением 1990-х годов, к чему мы еще вернемся); а модернизации случаются только тогда, когда в обществе возникает консенсусное желание откреститься от прошлого, в которое наша власть как раз ведет Россию.
Население, в свою очередь, также не готово поддержать модернизацию — и тоже по многим причинам.
Прежде всего в российском общественном сознании модернизация несомненно и прочно связана с мобилизацией: всякий раз в истории страны в периоды бурных перемен власть жестко ломала существовавшие структуры социальной повседневности. От Петра I до коммунистических вождей модернизационные попытки предполагали лишения и напряжение всех сил общества (что во многом касается и модернизаций в других странах, требовавших ограничения текущего потребления и жесткого государственного регулирования). Между тем в последние десятилетия российской истории население привыкло к относительно высокому жизненному уровню и более «спокойной» жизни, чем прежде, и с опасением относится к любым попытками мобилизации. Оно не видит необходимости резко увеличивать усилия в реализации какого-то крупного проекта — что отчасти обусловлено и курсом власти, которая, как я показал выше, ориентировала людей на индивидуализм и снижала ценность коллективных действий.
Кроме того, следует отметить фактор «исторической памяти»: все попытки модернизаций, которые происходили в стране на протяжении последних 100 лет, оставили крайне неоднозначное впечатление. Сталинская индустриализация обернулась гигантскими жертвами, построением в целом не слишком эффективной экономики — и была во многом развенчана сторонниками рыночного и демократического развития страны. Хрущёвская попытка «догнать Америку» сегодня не вспоминается прежде всего потому, что о вкладе самого тогдашнего советского лидера в историю страны предпочитают забыть. Перестройка, начинавшая под лозунгами «ускорения» (той же модернизации в «прочтении» 1980-х годов), принесла разочаровывающие результаты. «Модернизация» по Д. Медведеву вообще обернулась фарсом. После такого набора неудачных попыток любая новая будет воспринята как профанация. В последние годы даже вполне объективные опросы общественного мнения — например, проводимые «Левада-центром» — указывают, что народ считает идеальным временем годы правления Л. Брежнева с его экономическим и идеологическим «застоем»[292].
Таким образом, в России сегодня нет — и я не вижу условий для ее появления — самой главной предпосылки модернизации: широкого общественного консенсуса по вопросу о неприемлемости существующего положения вещей. Сомнительный опыт прежних модернизаций (ни одна из которых не была органичной) накладывается на нигилизм, обусловленный иллюзорным ощущением того, что все эти материи нам-де хорошо известны, и сдабривается нежеланием властей расшатывать достигнутую «стабильность» (во многом выступающую современным обозначением любимого гражданами «застоя»). Как показывает практика, для преодоления состояния относительной экономической удовлетворенности и социальной апатии без активного влияния властей требуются десятилетия — во всех успешно модернизировавшихся странах оно ускорялось массированной государственной пропагандой нового типа развития и убеждением граждан в необходимости перемен, а в России пока нет оснований надеяться на то, что руководство страны рискнет что-то менять.
Вторая причина — происшедшие в мировой экономике существенные изменения, обусловленные современной технологической революцией.
Традиционно индустриальная модернизация опиралась на массовое производство и базировалась на нескольких «китах»: быстрой коммерциализации новых технологий, наличии возможностей искусственного снижения себестоимости (дешевых ресурсов или рабочей силы), широких рынков для относительно унифицированных товаров. В последние два-три десятилетия ситуация меняется: передовыми и наиболее востребованными стали отрасли, производящие продукцию, себестоимость которой устойчиво снижается, а рыночная успешность обусловливается не массовостью выпуска одинаковых примитивных товаров, а способностью заполнить относительно узкие сегменты рынка самыми разнообразными видами одного и того же продукта. Примерами могут быть компьютеры, мобильные телефоны, фото- и видеотехника, средства для передачи и обработки данных, офисная техника. Все эти товары на протяжении довольно долгого периода устойчиво дешевеют во всем мире (средний переносной компьютер стоит сегодня около $530 против $3,8 тыс. в конце 1990-х, а мобильный телефон — $300 против $1,5 тыс.[293]; про их неизмеримо более разнообразные функции и радикально возросшее быстродействие я не говорю) при параллельном повышении качества изделий. В России даже в условиях формально рыночной экономики данный тренд неприменим практически ни к одной отрасли, кроме разве что мобильной связи и интернет-технологий (развитие которых, однако, отражает глобальные, а не российские, тренды). Условием успешности в России является скорее повышение издержек (фактически все товары и услуги постоянно растут в цене — и чем более монополизирована отрасль, тем сильнее) — а это означает поступательное снижение эффективности, а не ее рост, который как раз и воплощается в модернизации.
В данном случае феномен объясняется уже отмечавшейся тесной смычкой государства и бизнеса — как видимой, так и не вполне прослеживаемой. В первом случае речь идет о повышении тарифов на услуги естественных монополий, которые обеспечивают дополнительные налоги для бюджета и возможности для менеджмента госкомпаний; во втором — о повышении издержек, в которые закладывается коррупционная составляющая, неизбежная практически в любом российском бизнесе. Государство, чиновники и менеджеры не заинтересованы в повышении эффективности бизнеса и в росте капитализации компаний — для них наибольшим значением обладает текущий денежный поток, из которого поступают налоги и черпаются неофициальные доходы. И, как мы видим, ни одна из отраслей, в которых во всем мире наблюдается снижение издержек, в России так и не развилась[294]. Поэтому даже если традиционная индустриальная модернизация выглядит маловероятной, то современная «информационная» и вовсе остается в зоне чистых фантазий.
То же самое относится и к происходящей во всем мире максимальной диверсификации продукции и обновлению модельного ряда изделий. В среднем крупная компания в сфере производства компьютеров или мобильных устройств обеспечивает выпуск 15–30 моделей в течение 5 лет; в России каждый промышленный образец новой продукции разрабатывается в течение более длительного срока (в последние годы этот тренд прослеживается наиболее явно даже в оборонной промышленности, где с учетом растущего к ней внимания со стороны властей ситуация должна была быть обратной[295]). Соответственно, международные компании ориентируются на самые разные сегменты рынка, тогда как российские — только на массового и непритязательного потребителя, в привлечении которого имеют прежнее значение ценовые характеристики. Поэтому чем более гибкой будет мировая экономика, тем меньше шансов будет у российской — а глобальные тренды не изменить.
Третья причина — отсутствие экономических и политических интересантов (потенциальных бенефициаров) модернизации.
Прежде всего следует отметить, что российская экономическая элита — и это вытекает из сказанного выше — носит выраженный «сырьевой» характер; она ориентирована на поддержание контроля над ресурсным сектором экономики и отраслями первичной переработки сырья, на извлечение максимально возможных доходов для бюджета и перераспределение бюджетных потоков. Учитывая, что человеческий капитал в России качественно ухудшился из-за эмиграции, снижения качества образования и деградации структуры экономики, а также что бюрократия во многом парализовала нормальную экономическую жизнь, практически единственным конкурентным преимуществом России и залогом ее инвестиционной привлекательности могли бы быть избыток ресурсов вкупе с легкостью доступа к ним и низкими расценками на все виды сырья. Однако и экономически, и политически подобные условия радикально противоречат интересам элиты: в первом случае имела бы место попытка ограничить сверхдоходы большинства олигархов; во втором — покушение на бюджетные доходы, в основном обеспечиваемые поступлениями от налога на добычу полезных ископаемых и экспортными пошлинами. По сути, сама идея «энергетической сверхдержавы» предполагает, что модернизация может быть только фиктивной или восприниматься как элемент дешевой пропаганды — просто потому, что индустриализовать страну, не затрагивая интересов представителей сырьевого бизнеса, невозможно.
Кроме того, модернизация могла бы быть выгодна инвесторам только в том случае, если бы в стране была обеспечена здоровая конкуренция, в том числе и в сфере ввода в действие основных фондов. Сейчас же в России сложилась уникальная ситуация, которой страна обязана посткоммунистической «пиратизации»[296]: получив практически за бесценок крупнейшие промышленные предприятия и инфраструктурные объекты, предприниматели давно окупили свои вложения и сейчас продолжают пользоваться соответствующими фондами как дармовым ресурсом. В такой ситуации любой сторонний конкурент, намеревающийся построить новое промышленное предприятие, столкнется с большими затратами, которые объективно будет сложно окупить, так как его конкуренты, пользуясь бесплатными активами, смогут серьезно снизить цены и выдавить противника с рынка[297]. К этой ситуации, сложившейся в 1990-е годы, я обращусь чуть ниже — но именно она объясняет тот факт, что в России почти не строится новых предприятий (за исключением тех отраслей, в которых конкуренции со стороны отечественных производителей можно не опасаться — например, в автомобилестроении). В итоге народное хозяйство остается очень «советским» вплоть до наших дней: среди 100 крупнейших по капитализации российских фирм 74 компании практически полностью работают на советских основных фондах (для сравнения — среди 30 корпораций, ныне входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 14 не состояли в нем в момент его последнего пересмотра в «советские» времена — 6 мая 1991 года, а в Китае среди 100 крупнейших по капитализации компаний критически зависят от производственных мощностей, введенных в эксплуатацию 25 лет назад или ранее, только 4)[298]. Поэтому можно понять нежелание элиты принимать любые перемены: чем более существенными они окажутся, тем с бльшими рисками столкнутся старые предприятия, неизбежно проигрывающие в конкурентной борьбе. Очевидно, что модернизация не входит в планы российской элиты не только потому, что может поставить под сомнение роль сырьевого сектора, но и потому, что ее следствием окажется рост конкуренции в промышленности в целом. Этим же обусловлено и общее скептическое отношение к иностранным инвестициям в индустриальный сектор: с тех пор как в 2000-е годы они обеспечили минимально необходимые стандарты качества производства в ряде ориентированных на потребительский рынок отраслей, приток их в страну практически остановился.
Четвертая причина связана с российской внешней политикой и характером наших союзников. Каждая попытка успешной модернизации предполагала наличие партнера — страны, которая была бы не только политически дружественной, но и выступала бы как важнейшим рынком для реализации промышленной продукции, так и поставщиком инвестиций и технологий, необходимых для ускоренного развития. Россия могла бы успешно модернизироваться, ориентируясь на статус индустриального партнера Европы, получая оттуда капитал и технологии, которые могли бы успешно инвестироваться в стране с учетом ее ресурсов и человеческого потенциала. Открытие для европейской конкуренции и наращивание экспорта в ЕС могло бы обеспечить эффект, сравнимый с эффектом США для Китая или Мексики.
Однако Россия, по сугубо политическим причинам «отвернувшись» от Европы, обратилась к наиболее консервативным постсоветским странам в попытке построить альтернативную модель политической интеграции, и к Китаю в надежде укрепить экономическое сотрудничество. Между тем последний, будучи крупнейшей индустриальной экономикой, менее всего заинтересован в том, чтобы Россия стала его конкурентом. Начиная с первой половины 1990-х Китай в своем экспорте из России последовательно сокращает долю промышленных товаров, увеличивая долю необработанного сырья (сейчас первая упала ниже 7 %, а вторая достигла 79 %, превысив соответствующий показатель в торговле России с Европейским союзом[299]). Китай выступает основным потребителем нефти и газа, добываемых в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, — но даже в рамках программы развития приграничного сотрудничества, принятой в 2009 году, российской стороне не удалось убедить партнера построить на нашей территории хотя бы одно предприятие полного цикла переработки сырья. Аналогичным образом мы не видим бума китайских инвестиций в промышленные объекты в других регионах нашей страны. Вывод, на мой взгляд, достаточно очевиден: для успеха модернизации нужны тесные торговые и инвестиционные связи проводящей ее страны с государством/государствами заметно более высокого уровня развития, которые воспринимают развивающуюся индустриальную экономику не как конкурента, а как либо дополняющую их собственные хозяйственные системы, либо открывающую значительные возможности для инвестиций или технологических трансфертов.
Союз России и Китая — а точнее, российское следование в китайском фарватере — не основан на взаимодействии подобного типа. Это почти единственный случай в мире, когда ведущая (по крайней мере более крупная) экономика не заинтересована в развитии своего сателлита и не может ничего дать для его ускоренного прогресса. Максимум, на что способен Китай, — способствовать чисто количественному росту российской экономики без ее структурных изменений, и это заставляет серьезно задуматься о том, имеют ли экономические аспекты хоть какое-то значение для российской элиты при выборе внешнеполитического курса и союзников на мировой арене. Не продолжая эту линию, констатируем лишь, что внешнеполитическое позиционирование и выбор союзников — еще одно препятствие на пути модернизации России (про попытки создания ЕАЭС я и не говорю — тут мы скорее имеем дело с целым рядом потенциальных «нахлебников», которые ни при каких обстоятельствах не смогут выступить инструментом ускорения модернизации отечественной экономики).
Пятую причину я вижу в предельно слабом интеллектуальном потенциале возможных «модернизаторов». Модернизации необходимо проводить с учетом как успешного, так и неудачного их опыта — и поэтому следовало бы помнить как минимум о двух важных обстоятельствах.
С одной стороны, модернизация — это попытка догнать лидеров, и потому она неизбежно предполагает «подтягивание» сначала отраслей массового индустриального производства, затем более передовых сегментов экономики и только впоследствии — выходы на новейшие технологические рубежи. В России вся логика модернизации (как неудавшейся при Д. Медведеве, так и ожидаемой в каком-то отдаленном будущем) сводится к стремлению «перепрыгнуть» определенную стадию прогресса («технологический уклад», как это «по-кондратьевски» называют многие отечественные эксперты[300]), «оседлать» новый технологический уклад и ворваться на нем в современную передовую экономику. К сожалению или к счастью, история последнего столетия показывает, что как Соединенные Штаты, так и европейские страны (прежде всего Великобритания и Германия), которые были лидерами в освоении всех предшествующих технологических укладов, не утрачивают лидерства — просто потому, что «постиндустриальные тенденции не замещают предшествующие общественные форм как “стадии” общественной эволюции — они сосуществуют, углубляя комплексность общества и природу социальной структуры»[301]. Только страны, усвоившие прежний уклад, могут успешно развивать следующий — и этого в России как не понимали, так и не хотят понимать, что, на мой взгляд, является критическим препятствием для планирования и осуществления модернизации.
С другой стороны, модернизация — это не только экономический, а прежде всего социальный процесс, который не сводится к одним только секторальным технологическим изменениям. Я неоднократно отмечал, что набор «модернизационных» приоритетов Д. Медведева изначально давал возможность предположить, что из его инициативы ничего не последует[302]. Модернизации во всех успешных странах всегда начинались с отраслей, которые менее всего могли стать объектом влияния со стороны внешних игроков — и особенно государственных структур. Именно поэтому тот же Китай выходил на мировые рынки со своими игрушками, мебелью, одеждой, а потом персональными компьютерами и оргтехникой — то есть со всем тем, чьими потребителями были не государства и даже не корпорации, а частные лица, для которых выгода всегда выше политической целесообразности. Завоевав мир потребителей, Китай стал внедряться и на более «чувствительные» рынки; Россия же заявила о том, что направлениями ее «прорыва» станут сложные — и при этом довольно мало зависящие от свободного рынка отрасли — ядерная энергетика, космические технологии и фармацевтика[303], которые даже в (маловероятном) случае успеха не могли запустить в стране масштабного экономического роста.
Можно и дальше перечислять ошибочные и иллюзорные представления, в плену которых находились отечественные специалисты, рассуждая о возможности модернизации экономики страны, но даже отмеченных выше достаточно, чтобы понять: имеющегося экспертного потенциала для запуска и реализации в России процесса устойчивой технологической модернизации совершенно недостаточно.
Наконец, шестой причиной можно назвать специфическую конъюнктуру, которая проявляется всякий раз, когда речь заходит о попытке модернизации, пусть даже весьма узкой и специфической. Как свидетельствует опыт самых разных модернизаций, для их успеха необходимы либо масштабный импорт технологий и оборудования (в случае, если задачей ставится наращивание экспорта), либо активные капиталовложения со стороны иностранных компаний (если они заинтересованы в освоении рынка соответствующей страны).
В России экономическая успешность страны обусловлена фазами циклического изменения цен на ресурсные товары, составляющие основу ее экспорта. В соответствии с ними потребность в модернизации начинает осознаваться правящей элитой в периоды, когда нефтяные цены находятся на низшей точке цикла, бюджет оказывается в дефиците и возобновляются рассуждения о необходимости «слезть с сырьевой иглы». Однако как раз в такие периоды падает курс рубля — и, соответственно, взлетают цены на оборудование и технологии, резко снижая спрос на них. Учитывая, что большая часть всего нового оборудования сегодня импортируется (по данным Росстата, доля импорта в горно-шахтном и нефтегазовом оборудовании достигает 70 %, в поставках тракторов и экскаваторов — 81–85 %, металлорежущих станков и кузнечно-прессового оборудования — 94 %, а прядильных и швейных машин — 99–100 %[304]), в условиях ослабления рубля инвестиции в основные фонды становятся практически неподъемными для предприятий, попытки «импортозамещения» оказываются нереалистичными — а в области производства современного промышленного оборудования Россия отстала на десятки лет, причем производимые образцы часто даже дороже, чем импортные. Всё это порождает своего рода «ловушку российской модернизации»: успешные реформы в стране могут быть инициированы только в период высоких цен на нефть — однако специфическое мировосприятие отечественного правящего класса не позволяет серьезно задумываться о модернизации до тех пор, пока экономическая конъюнктура остается хоть сколько-нибудь благоприятной.
Иностранные капиталовложения «работают» в противофазе — они готовы приходить в экономику тогда, когда она находится на подъеме, однако в эти периоды российская олигархическая система стремится вкладывать в наиболее привлекательные сегменты экономики сама, и западный капитал допускается только в наиболее конкурентные отрасли. Кроме того, по мере ускорения роста повышаются зарплаты и (особенно) издержки, в силу чего традиционное для большинства модернизаций экспортно ориентированное производство становится неактуальным (в такие периоды опережающими темпами растет как раз импорт в Россию иностранной высокотехнологичной продукции и товаров народного потребления). Ориентация же на внутренний рынок для иностранных компаний выглядит достаточно рискованной: все помнят, например, как ведущие аналитики прогнозировали, что к 2016 году Россия станет крупнейшим автомобильным рынком Европы[305], и это привело в страну сборочные подразделения ведущих европейских автогигантов. Однако с началом экономического кризиса российский рынок сократился более чем на 45 %[306], цены на нем далеко не так привлекательны, как раньше, — и то же самое относится к значительному числу других производств, с которыми западные инвесторы в свое время приходили в Россию. Текущий кризис, конечно, когда-нибудь завершится, но цикличность развития экономики никто не отменял — и поэтому ориентация на российский рынок как была, так и останется рискованной, а традиционная экспортно ориентированная модернизация как была, так и остается в нашей стране невозможной.
Подводя итог, можно уверенно утверждать: сегодня модернизация России не представляется ни возможной, ни даже желательной с точки зрения большинства населения. В условиях растущей отчужденности от внешнего мира, сложной сырьевой конъюнктуры, примитивизации управленческого класса и очевидного противоречия между идеологией и экономикой любое «осовременивание» страны противоречит задачам момента. Важнейшим, на мой взгляд, политическим достижением путинского режима стало то, что он убедил большинство россиян в том, что следовать в русле «общемирового» прогресса не только бессмысленно, но и опасно. В результате в России сложилась ситуация, в которой регресс и отставание стали восприниматься как показатель успеха (не важно, куда мы идем, лишь бы не в том же направлении, что и остальные). Как и во многих других случаях, о современности тут говорить сложно.
Россия 1990-х и Россия 2010-х: единство недавней истории
Говоря о невозможности перемен в России, стоит остановиться на одном существенном обстоятельстве — ограниченной роли В. Путина в «обеспечении» подобного состояния. Сегодня как в России, так и за ее пределами бытует мнение об ответственности нынешнего президента за все проблемы страны — однако несовременность России характеризуется тем, что проводимый ныне курс вовсе не оригинален и выступает естественным продолжением того, что происходило в 1990-е годы (даже несмотря на то, что сам В. Путин постоянно подчеркивает принципиальную разницу политик и подходов, существовавших в то время и в начале XXI века). Оценим эту преемственность по нескольким направлениям.
Начнем с экономики, к которой чуть ранее я обещал вернуться. Большинство авторов полагают, что экономический кризис 1990-х годов подготовил приход В. Путина к власти тем, что резко понизил жизненный уровень населения, сломал привычный образ жизни — и потому породил в обществе запрос на возвращение в прошлое, на ту «стабильность», которую и обещал новый президент. Многие прямо обвиняют либеральных политиков 1990-х в организации кризиса, который сократил российскую экономику на треть, запустил невиданную инфляцию, выбросил половину населения страны за черту бедности и породил олигархический капитализм[307], что не могло не вызвать широкого разочарования в «демократах» и в демократии. Однако более важным мне кажется иное обстоятельство.
Приватизация, запущенная в России в начале 1990-х годов и призванная создать как средний класс ответственных собственников, так и крупную буржуазию, привела (и не могла не привести) к тому, что большая часть активов перешла в частные руки либо бесплатно (как, например, жилье), либо по очень низким ценам. Обычный инвестор мог за один приватизационный чек (ваучер) купить, например от 700 до 2 тыс. (в зависимости от региона) акций «Газпрома», которые на пике их стоимости в 2008 году оценивались в $10–30 тыс., хотя сам ваучер не поднимался в 1994 году в цене выше 26 тыс. руб. ($22 по тогдашнему курсу)[308]. Менеджеры по дешевке выкупали у своих работников предприятия; государство в рамках залоговых аукционов продало в 1995–1996 годах контрольные или блокирующие пакеты акций ЮКОСа, «Норильского никеля», «Сибнефти» и «Сиданко» (позже — ТНК-ВР) за общую сумму $580 млн[309], хотя уже в 2004 году ЮКОС оценивался на бирже в $41,6 млрд, «Сибнефть» была продана «Газпрому» в 2005 году за $13,1 млрд, а «Роснефть» купила ТНК-ВР в 2013 году за $61,0 млрд[310]. И проблема не в том, что приватизация была «несправедливой» (хотя, наверное, проведенные в конце 1995 года залоговые аукционы могли бы принести и больше, чем 1,1(!)% доходной части федерального бюджета за соответствующий год[311]), а в том, что она имела крайне деструктивные последствия для народного хозяйства. Дешево получив активы в собственность, новые хозяева обрели возможность производить товары с крайне низкими издержками — и тем самым ограничили вход на рынок новым игрокам, которым требовалось вкладывать миллионы долларов в строительство новых производственных мощностей. Если в том же Китае мощности нефтепереработки за последние 25 лет увеличились в 3,9 раза, то в России в действие был введен всего лишь один новый нефтехимический завод; если в Китае производство цемента выросло с 300 млн до 2,62 млрд тонн, то в России оно стагнировало в пределах 70–75 млн тонн, а цены на продукцию порой превышали европейские[312]. Приватизация 1990-х, таким образом, в большей мере послужила становлению российского монополистического капитализма, чем все шаги В. Путина по раздаче собственности и государственного заказа близким к нему олигархам новой волны. Весь экономический рост при этом сконцентрировался в отраслях, которые до середины 1990-х годов практически вообще не существовали, — в банковском и риелторском бизнесе, розничной торговле, сфере коммуникаций и интернет-связи[313]. По мере того как все эти сегменты экономики стали демонстрировать признаки насыщения, рост в стране остановился, так как компании, приватизированные в 1990-е, так и не вышли на более высокие производственные показатели.
Кроме производственной неэффективности, приватизация принесла и еще одну проблему. Быстро получив прибыли, на которые они рассчитывали, собственники предприятий стали играть в новую игру — покупку и перепродажу активов. Практически ни одна компания, действовавшая и действующая в России в базовых отраслях народного хозяйства, не демонстрировала органического роста (классический пример — «Роснефть», доля органического роста в добыче которой за 2012–2017 годы составила всего 23 %[314]). Создание и реструктуризация промышленных холдингов стала главным средством создания крупных состояний после 1996 года — и совершенно очевидно, что методы их формирования далеко не всегда были вполне рыночными. По мере прихода к власти представителей силовой элиты распространялось рейдерство, «отжим» собственности у политически оппозиционных предпринимателей или попавших в опалу чиновников. В результате в стране сложились условия для формирования «перераспределяющего государства», в котором даже самые влиятельные предприниматели готовы «хоть завтра» уступить властям свою собственность[315]. На мой взгляд, ничего подобного не могло сформироваться, если бы приватизация не обеспечила легкого и «беспроблемного» обретения собственности российской финансовой элитой.
Таким образом, в 1990-е годы были заложены экономические основы для современного авторитаризма: все крупные компании ориентировались на создание монополистического капитализма и начали приспосабливаться к действиям государства, а не стараться влиять на них; население оказалось зависимо от бюджета, а тот — от госкорпораций; «перераспределяющее государство» стало в итоге поистине всепроникающим и заразило идеей передела практически все стороны общественной жизни и все социальные слои. По сути, в эти годы — задолго до прихода В. Путина к власти — были заложены основы того, чтобы экономика предпочитала не развиваться, а постоянно «топтаться на месте». Я бы даже сказал, что политическая «стабильность» оказалось во многом изначально предопределена и предвосхищена этим экономическим неразвитием.
В политической сфере между 1990-ми и 2000-ми годами различия также не столь велики, как это может показаться. Вряд можно с полным основанием противопоставлять друг другу эти два периода, считая первый «демократическим», а второй — «авторитарным». Ведь если строго следовать классическим определениям демократии как политического устройства, позволяющего не только «влиять» на власть, но и сменять ее посредством свободного народного волеизъявления[316], окажется, что в России после распада СССР подтверждений демократического характера власти не просматривается вообще. Общенациональные выборы привели к смене власти только один раз — в рамках электорального цикла 1990–1991 годов, когда в РСФСР, тогда еще союзной республике в составе Советского Союза, были избраны Верховный Совет и президент, находившиеся в оппозиции как к ранее занимавшим соответствующие посты политикам, так и к центральному союзному правительству. С тех пор российским избирателям не удалось сменить власть ни разу — даже тогда, когда правящая партия проигрывала выборы и формально оказывалась в парламенте в меньшинстве, президенту удавалось сохранять необходимый ему состав правительства за счет голосов представителей других фракций или «независимых» депутатов. Когда конфликты достигали особой остроты, как это произошло, например, в сентябре — октябре 1993 года, президент пошел на применение силы и военными средствами разогнал избранный в условиях наибольшего «разгула демократии» Верховный Совет. Именно в 1990-е годы демократы предложили стране «голосовать сердцем» (а не умом) на президентских выборах 1996 года, где незадолго до этого находившийся в аутсайдерах Б. Ельцин во втором туре с небольшим (и достаточно неочевидным) перевесом победил Г. Зюганова; именно тогда основным аргументом в открытую назывались не столько выдающиеся качества предпочтительного кандидата, сколько «отсутствие альтернативы». Этот принцип активно используется с тех пор в ходе любой президентской кампании в России, и в недавно завершившейся он эксплуатировался, пожалуй, наиболее открыто и настойчиво — вплоть до утверждения о невозможности смены президента-главнокомандующего в «воюющей стране»[317]. И стоит признать наконец, что вовсе не программы Д. Киселёва, а творчество С. Доренко положило начало уничтожающей критике оппонентов на государственном телевидении с использованием откровенной лжи, передергиваний и непроверенной информации, которая сегодня используется практически повсеместно.
Следует заметить, что персоналистский режим 2000-х годов основан прежде всего на Конституции 1993 года, которую писали не отпетые консерваторы-традиционалисты, а последовательные демократы типа С. Шахрая или В. Шейниса. Между тем именно положения этого Основного Закона позволили президенту обладать всей полнотой власти, не отвечая при этом практически ни за что и не будучи объектом критики: президент назначает и освобождает от должности не только министров и руководителей федеральных агентств, но и их заместителей — хотя при этом за деятельность правительства несет ответственность его председатель. Именно эта Конституция позволила в 2004 году изменить порядок выборности губернаторов и превратить в ширму Совет Федерации — то есть два института, которые обязаны были сдерживать всевластие главы государства, были изначально прописаны в ней так, чтобы позволить ему свободно реализовывать свою волю практически во всем; в 2012-м та же Конституция — несмотря на четкую фиксацию в ней предела президентских полномочий как «двух сроков подряд» — позволила легитимизировать третий срок В. Путина в Кремле (а в 2018-м С. Шахрай, один из ее авторов, прямо признал, что разработчики Основного закона «не предполагали» того, что этот временнй лимит действительно будет соблюдаться в дальнейшем[318]).
Даже пресловутую «национальную идею», которую В. Путин в конечном счете нашел в «патриотизме»[319] (о чем несколько позже), начали конструировать в 1990-е годы, когда в 1994 году была создана специальная президентская комиссия по ее формулированию и разработке[320]. С тех же пор власти, поняв необходимость своей дополнительной легитимации, стали опираться на Русскую православную церковь как на своего рода «идеологический отдел» кремлевской администрации: патриархия практически потеряла грань между собственным и государственным кошельком, получив не только значительную собственность, но и огромные государственные льготы для ведения коммерческой деятельности, а также формально частные, но поступавшие по сути от государственных и муниципальных компаний, пожертвования (достаточно вспомнить процесс возрождения храма Христа Спасителя в Москве). Именно демократы «первой волны» заложили идею исторической преемственности новой Российской Федерации с царской Россией, что стало основой для превознесения прошлого в условиях, когда у элиты не было ясного проекта будущего. Канонизация последнего императора Николая II и членов его семьи, перезахоронение их останков в Санкт-Петербурге в самый тяжелый с экономической точки зрения период 1990-х годов, воздвижение уродливых памятников Петру I и т. д. — всё это выступало естественной подготовкой к «поворачиванию головы назад»; и пусть тогда отечественные политики предпочитали прославлять Петра I и П. Столыпина, а сейчас — Ивана Грозного и И. Сталина, идею ретроградства В. Путин получил уже в готовом виде.
Нельзя не отметить, что стремление к возрождению Российской империи или восстановлению Советского Союза; подход к бывшим республикам СССР как к провинциям России, лишь по историческому недоразумению обретшим независимость и «лишившим» страну значительной части территории, населения, а также экономического и военного потенциала[321], также проявилось отнюдь не вечера, а как минимум двумя десятилетиями ранее. Если М. Горбачёв фактически не препятствовал росту национального самосознания и последующему самоопределению постсоветских государств, то Б. Ельцин, сначала призывавший республики в составе России «брать столько суверенитета, сколько сможете проглотить»[322], в 1994 году начал войну в Чечне, хотя многие его сторонники считали правильным допустить ее независимость; именно отсюда тянется прямая линия к чеченским войнам начала 2000-х годов, укреплению власти В. Путина и ситуации, в которой сохранение территориальной целостности России становится задачей, нерешаемой при желании переформатирования страны в реальную федерацию[323].
Вмешательства в дела сопредельных государств начались также практически немедленно после распада Советского Союза: Россия с помощью своих войск сумела в 1992 году фактически расколоть Молдову, выделив из нее марионеточную Приднестровскую Молдавскую Республику, а в 1993–1994 годах, формально «находясь над схваткой», немало способствовала фактическому отделению от Грузии Абхазии и Южной Осетии, независимость которых признала уже путинская Россия после конфликта 2008 года. Политика России в отношении постсоветских государств получила название курса на поддержание «управляемой нестабильности»[324] за два десятилетия до того, как российские войска оказались в Донбассе, — тем самым Москва сделала последующее развитие событий практически неизбежным. Звонок Б. Ельцина Э. Шеварднадзе после одного из покушений на него с замечаниями о вредности трубопроводов из Азербайджана в Турцию прекрасно показал, насколько Россия намерена контролировать энергетическую политику своих соседей[325] еще в то время, когда, казалось бы, она никак не вмешивалась в их экономические дела. «Газпром», по всей вероятности, своими собственными действиями спровоцировал взрыв на газопроводе «Средняя Азия — Центр» в апреле 2009 года ради того, чтобы не допустить поставок туркменского газа на Украину задолго до того, как компания превратилась в проверенное «энергетическое оружие» Кремля в борьбе против «политически нелояльных» стран[326]. И даже о проблеме Крыма стали говорить в Москве вовсе не в 2013–2014 годах, а намного раньше, когда мэр Москвы Ю. Лужков и влиятельный депутат К. Затулин в 2002–2009 годах демонстративно обсуждали и в России, и в самом Крыму «несправедливость» передачи полуострова Украине в 1954 году, его закрепления за ней в 1991-м и настаивали на том, что «Севастополь является русским городом»[327]. Еще в 1990-е годы Россия запустила акции по массовой раздаче своих паспортов жителям сопредельных государств[328], подготавливая позднейшие их претензии на «самоопределение»; подчеркну, что всё это происходило в условиях, когда курс страны определяли не сегодняшние «ястребы», а вполне «демократичные» политики, пришедшие к власти сразу после падения коммунизма.
Наконец, стоит вспомнить и про идеи постсоветской реинтеграции, которые тоже появились вовсе не вместе со знаменитой статьей В. Путина о Евразийском союзе[329]. В Москве перестали относиться к Содружеству Независимых Государств как к форме «цивилизованного развода» еще в 1994–1995 годах, осознав масштаб популистского потенциала «квазисоветских» идей. В 1996–1997 годах первая попытка восстановления прежних структур вылилась в образование сначала Сообщества России и Белоруссии, потом и так называемого Союзного государства, которое было воспринято частью российских граждан как первый шаг в верном направлении возвращения к Союзу и стало существенным фактором повышения доверия к тогдашней власти (объявление о создании Сообщества не случайно было сделано за несколько месяцев до президентских выборов 1996 года). Впоследствии этот эксперимент привел к тому, к чему сегодня приводит и вся «евразийская интеграция», — извлечению из России гигантских средств и перекачке их в соседние государства в обмен на риторические заявления их лидеров о дружбе, солидарности и лояльности (к этой теме мы подробно обратимся в седьмой главе).
Наконец, следует вкратце остановиться на внешней политике (хотя более обстоятельный разговор о ней еще впереди). Фундаментальный сдвиг в российской риторике в данной сфере — от позднесоветской идеи «большой Европы от Лиссабона до Владивостока», которая лежала в основе Парижской хартии 1990 года[330] к настороженному отношению к Западу и стремлению к партнерству, но не интеграции с ним, — относится не к 2000-м, а к 1990-м годам. Россия, по инерции воспринимая себя как великую державу, которой после завершения холодной войны она по большинству критериев уже не являлсь, была чрезвычайно разочарована неготовностью Запада рассматривать ее в качестве равноправного партнера. Несмотря на то, что остальной мир активно поддержал Российскую Федерацию в самые тяжелые для нее годы (кредиты зарубежных финансовых институтов и международных организаций России за 1992–1998 годы составили почти $65 млрд[331]), интеграция на правах одного из членов западных объединений Россию не устраивала. Уже Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Российской Федерацией от 1994 года никак не упоминало интеграционную повестку дня, о которой много говорили в 1990–1992 годах[332].
Одновременно в российский политический инструментарий вошли идеи о необходимости укреплять и восстанавливать связи с пусть и «изгоями», но с теми, кто казался «друзьями», а также мысли о необходимости поиска союзников за пределами западного лагеря. Первое направление можно проиллюстрировать историей российских отношений с Югославией и поддержкой режима С. Милошевича (на войну на стороне которого даже отправлялись сотни российских добровольцев). Апофеозом этого приключения стали знаменитый разворот самолета Е. Примакова над Атлантикой накануне начала натовских бомбардировок Югославии в 1999 году и марш российских десантников на Приштину, который практически поставил Москву на грань военного столкновения с НАТО. Эффект от поддержки вскоре распавшейся Югославии оказался, увы, нулевым — даже Черногория вступила в НАТО, несмотря на попытки России организовать в стране военный переворот[333], а Сербия активно пытается присоединиться к ЕС[334]. Второе направление выразилось в попытках России соорудить некую «ось» Пекин — Дели — Москва, которая обычно связывается с именем того же Е. Примакова, который видел ее принципиальной основой для мира XXI века, свободного от доминирования Запада[335]. Несмотря на то, что отношения Китая с Индией как в то время, так и позже чаще бывали настороженно-враждебными, чем дружественными, эта доктрина стала основой для современной концепции «поворота на Восток», под прикрытием которой Россия все очевиднее становится младшим партнером Китая.
Подводя итог этой части, можно заметить, что Россия, как только она возникла из недр Советского Союза в ходе самой впечатляющей мирной демократической революции ХХ века, сразу же начала пытаться отойти от повестки, непосредственно задававшейся этой революцией, — во многом уникальной и, скорее всего, нетипичной для страны — и вернуться в свое прежнее состояние имперского, недемократичного, государственно-олигархического общества, для которого прошлое всегда играло намного более значительную роль, чем будущее. Это доминирование прошлого над настоящим и будущим не вполне объяснимо для страны, которая предпринимала массу попыток модернизироваться, а на протяжении последних 100 лет претендовала на статус наиболее «обращенной в грядущее» страны, выражавшей интересы и чаяния самых передовых и революционных сил. Однако приходится констатировать: все элементы российского общества сегодня пронизывает мощный консервативный заряд, препятствующий тому развитию, которое составляет самую суть современной цивилизации.
Движимая потребностями своей правящей элиты, обладающей полным контролем над народным хозяйством страны и ее основными активами, Россия достигла сегодня того, к чему ее правящий класс более всего стремился на протяжении последних двух десятилетий: не-развития. Можно даже сказать, что она стала признанным идеологическим лидером той части цивилизации, которую О. де Риверо удачно назвал в свое время «не-развивающимся миром»[336]. Россия позиционирует себя как оплот консерватизма и традиционных ценностей не столько потому, что ее лидеры действительно в них верят, сколько потому, что все они отдают себе отчет в том, что современно понимаемое развитие несовместимо с сохранением их контроля над экономикой и обществом. Такое положение, указывающее на невозможность модернизации и неизбежность экономической деградации[337], могло бы считаться терпимым, если бы не два обстоятельства.
С одной стороны, подобный застой, когда он рассматривается не как негативное явление (а именно так он воспринимался большинством советских граждан в эпоху перестройки), а как должное и чуть ли не идеальное состояние, приводит не только к экономическому прозябанию, но и к стремительному разрушению человеческого капитала и серьезному упадку во всех сферах жизни: интеллектуальной, научной, культурной. Следствием осознанного (и прославляемого) застоя выступает масштабная деградация нации в то время, когда информационный и интеллектуальный прогресс во всем мире становится основой конкурентных преимуществ всех передовых стран. Это выглядит наиболее впечатляющим и очевидным свидетельством несовременности страны, решившей без всяких видимых причин радикально повернуть вспять в своем развитии.
С другой стороны, управляемый регресс происходит в России не в условиях закрытости от мира, как было на протяжении многих столетий, а на фоне открытых границ, тесных финансовых связей с остальным миром, постепенного восприятия значительной частью молодого поколения если не западных ценностей, то западного образа жизни и глобальных правил конкуренции. Следствием «разворота» страны в прошлое в этой ситуации становится массированная эмиграция, которая, разумеется, лишь ускоряет деградацию общества, но в то же время рождает феномены, которые оказывают существенное влияние как на российское общество, так и на государство — делая и то и другое еще менее современными во всех смыслах этого слова.
Глава пятая
Навстречу социальной катастрофе
Общества, которые претендуют на то, чтобы считаться современными, на всех континентах демонстрируют сегодня одно исключительно важное качество: они не просто «заботятся» о благополучии своих граждан, но формируют условия, при которых сфера, прежде именовавшаяся «социальной» и считавшаяся в советское время «непроизводственной»[338], становится важнейшим движителем хозяйственного прогресса. В основе этого подхода лежат новые представления о человеческом капитале как о важнейшем производственном ресурсе[339] и основанное на них осознание того, что вложения в человека, которые в былые столетия экономисты относили к потреблению, являются на деле самыми высокодоходными инвестициями[340]. Это понимание воплощается в наши дни в обеспечении более высоких доходов старшему поколению; в стремительном развитии здравоохранения и его коммерциализации; в совершенствовании системы и форм образования; в максимальном использовании того креативного потенциала, который скрыт в растущем этническом, культурном и гендерном разнообразии социумов XXI века.
Несовременность России, однако, проявляется в отношении власти к обществу, и общества — к индивиду даже в большей степени, чем в неспособности страны модернизироваться или в ее нежелании привыкнуть к изменяющейся глобальной политической конфигурации. Все темы, которые предполагается рассмотреть в данной главе, объединены одной стержневой проблемой — проблемой рациональности. Следуя принципу рациональности, наиболее успешные общества на протяжении последних десятилетий постоянно пересматривают исторически сложившиеся представления о нормальном и допустимом ради создания для своих членов более комфортных в материальном и социальном плане условий существования и потому поступательно движутся вперед. В отличие от них те общества, в которых на первое место выводятся представления об «особом пути» или «вселенской миссии» и которые по каким-либо причинам не желают признавать происходящие в мире необратимые перемены, выбирают в качестве своей идеологической доктрины разные варианты светского или религиозного консерватизма — но при этом основной жертвой все равно становится рациональность, а вместе с ней и самые разные интересы значительной части общества.
Мешающие «экстерналии»
Целый ряд исторических и хозяйственных причин — от позиционирования государства по отношению к собственному народу до сырьевого характера экономики, не требующей «излишнего» населения, — приводят к тому, что в России традиционно остававшиеся в тени проблемы качества жизни (сохранения здоровья, обеспечения в старости, защиты окружающей среды — и это только наиболее очевидные) становятся еще менее привлекающими внимание.
Начнем со стариков, которым «везде у нас почет». По мере того как растет продолжительность жизни, во всем мире пенсионеры становятся не столько проблемой, сколько активом современной экономики. Они — одни из главных потребителей медицинских и социальных услуг, они задают тренды на потребительском рынке, в туризме и в доставке товаров на дом. Причины просты: с одной стороны, государство определяет рамки пенсионного обеспечения, в которых действуют не только граждане, но и бизнес — в частности, пенсионные фонды, которые стали в последнее время крупнейшими инвесторами, как частными (можно вспомнить обслуживающий 1,6 млн бывших госслужащих и бюджетников Калифорнии фонд Сalpers c $352 млрд под управлением), так и государственными (в Норвегии с 5,3 млн жителей в Пенсионном фонде $1,035 трлн)[341]; с другой стороны, правительства создают специальную «среду благоприятствования», которая обеспечивает бесплатные для пожилых людей, но вовсе не для бизнеса, услуги — то есть через пенсионеров власти финансируют социально ориентированные отрасли, и прежде всего здравоохранение (в 2016 году система Medicare в США оплатила медицинские счета более чем на $672 млрд[342], тем самым повышая качество жизни стариков и одновременно спонсируя крупнейшие корпорации в сфере фармацевтики и медицинского обслуживания). В России «коэффициент замещения» (т. е. отношение средней пенсии к заработной плате за 10 лет до выхода на нее) составляет лишь 33,7 %, тогда как в Дании, Франции и Швеции он достигает 86,6, 60,5 и 55,8 %[343], а за счет большого количества бесплатно предоставляемых пенсионерам услуг может оказаться и еще выше.
Некоторые винят в этом «советскую» пенсионную систему, которая была не накопительной, а распределительной. Однако практика показывает, что власти не намерены отходить от политики, основанной на прежней психологии, исходящей из того, что деньги пенсионеров — это средства бюджета. Проведенная в 2002 году пенсионная реформа была изначально ущербной, так как, с одной стороны, устанавливала низкий уровень, с превышения которого пенсионные отчисления платились по ставке 10 % вместо 22 % (сейчас при превышении суммы 1,021 млн руб. в год; для сравнения: в Германии — при превышении €74,4 тыс.; в США верхний предел отсутствует[344]); с другой стороны, и в новых условиях центральное место занимает государственный пенсионный фонд, а его «инвестиционные успехи» требуют доперечисления из бюджета около 2,6 трлн руб. ежегодно. Последнее обусловлено тем, что государство стремится, чтобы пенсионные накопления обеспечивали дешевые «длинные деньги» для развития экономики, в то время как это расходится с целями пенсионных фондов, которые должны ориентироваться исключительно на высокую доходность для вкладчиков (за 2013–2017 годы Пенсионный фонд Норвегии обеспечил своим вкладчикам среднегодовую долларовую доходность в 9,2 %, а российский ВЭБ — минус 1,9 %[345]). При этом с появлением первых же сигналов кризиса российские власти заморозили накопления граждан в негосударственных пенсионных фондах, созданных в рамках отмеченной выше реформы, по сути реквизировав у населения более 2,5 трлн руб.
Сегодня средняя пенсия в России составляет 13,8 тыс. руб. — в 4,2 раза ниже, чем в Германии и в 5,3 раза ниже, чем в США[346]. Проблема, однако, состоит не столько в абсолютном размере пенсионных выплат, но и в том, что выход на пенсию в России отчетливо ассоциируется с концом относительно нормальной жизни: коэффициент замещения снизился с 39,9 % в СССР в 1985 году до 33,7 % в России сегодня[347] — и власти откровенно говорят о том, что улучшить «качество» пенсионного обеспечения без повышения возраста выхода на пенсию невозможно. В обоснование этого тезиса приводится очевидный, казалось бы, аргумент о том, что российский пенсионный возраст намного ниже западного — но при этом забывается, что средняя продолжительность жизни на пенсии в России (11,6 года для мужчин и 16,6 года для женщин) заметно меньше средних показателей для США или Германии (18,0 и 19,6 года)[348]. Однако сегодня серьезная рыночная реформа пенсионной системы не стоит на повестке дня правительства, так как она неизбежно расширила бы возможности частного бизнеса и нанесла существенный удар по мобилизационным возможностям экономики; поэтому, судя по всему, власти не попытаются создать в стране современную пенсионную систему, а пойдут по пути банального повышения пенсионного возраста, которое сможет «решить проблему» на некоторое время — но в нереформированной экономике коэффициент замещения снова постепенно начнет снижаться.
Столь же несовременным в России остается (и даже становится все менее современным) отношение к медицине. Здесь ситуация выглядит куда более комплексной. В развитых странах здравоохранение — важная отрасль экономики, на которую приходится от 11,3 (в Германии) до 17,1 % ВВП (в США); в России, по сопоставимым оценкам Всемирного банка, показатель составляет всего 7,1 %[349] — но при этом нужно учитывать, что в абсолютных цифрах сумма американских расходов на медицину более чем в 1,5 раза превышает весь ВВП Российской Федерации. Сегодня за достижение реформ выдается тот факт, что средняя продолжительность жизни в стране выросла между 2000 и 2015 годами на 6,6 года, достигнув 71,9 лет — но по сравнению с показателями тридцатилетней давности она увеличилась всего на 4,3 года[350], тогда как в США — на 6,1 года, в Германии — на 7,5 года, а в Китае — на целых 8,7 лет[351]. Причина тупиковости российской ситуации заключена, на мой взгляд, именно в огосударствлении медицины и в ее восприятии в качестве «бюджетного» сектора.
Современное здравоохранение (если, конечно, его хотят сделать качественным) не может быть дешевым. Медицинские технологии — одни из наиболее совершенных в нынешнем мире, и их развитие требует огромных капиталовложений, которые глобальные корпорации стремятся «отбить» до той поры, пока их достижения не будут «перехвачены» производителями дженериков. Используемые в России медицинское оборудование и материалы в большей своей части не производятся в стране: импорт здесь составляет 79,8 %, а в лекарственных субстанциях и препаратах — 72,7[352]. Однако правительство считает, что оно может управлять чем угодно, — и потому устанавливаемые прейскурантами «учетные» расценки на большинство медицинских услуг почему-то ниже американских в 6–22 раза[353]. Соответственно, основным фактором экономии становятся зарплата медиков (в 2017 году она составила чуть выше 30 тыс. руб. в месяц в среднем по стране, что соответствует $6,4 тыс. в год — при том, что в Америке средняя зарплата семейного терапевта составляет $207 тыс., а кардиолога или ортопеда — $410–430 тыс. в год)[354] и «побочные» затраты на содержание и обслуживание пациентов. Несмотря на все сложности и зарегулированность, в стране постепенно формируется сектор коммерческих медицинских услуг, однако он все равно функционирует скорее как «окраина» государственной медицины: перетягивая на себя значительную часть лабораторных работ, стоматологии, гинекологии и т. д., но при этом не претендуя на основной сектор, остающийся под контролем государственных клиник. Кроме того, ориентируясь на близкие к международным стандарты обслуживания и цен, коммерческая медицина сосредоточена в крупных городах (39 % платных медицинских услуг приходится на Москву и Санкт-Петербург[355]).
Государство также понимает, что с учетом как скудности средств (в России в 2016 году финансирование медицины из всех источников составило не более 2 % от аналогичного показателя в США[356]), так и неэффективности их использования (в том числе «коррупционного фактора») сохранить даже советскую медицину невозможно. С 2000 по 2016 год в России было закрыто 7,5 тыс. больниц и поликлиник[357]. Используя модный ныне метод «укрупнения» всего и вся, власти пытаются сосредоточить относительно конкурентоспособных врачей и оборудование опять-таки в крупных городах (не в последнюю очередь потому, что и государственная медицина постепенно коммерциализируется и «идет за спросом»). В результате сейчас, по данным Счетной палаты, в более чем 17,5 тыс. населенных пунктов граждане не могут получить никакой медицинской помощи[358]. При этом оказывается, что создание «опорных точек» в крупных городах хотя и снижает доступность врачебной помощи, но не привносит в медицину тех «индустриальных» методов, которые сегодня особенно явно прослеживаются в развитых странах. Я имею в виду, что отрасль может успешно развиваться лишь в случае, если передовые технологии внедряются так, что их применение становится массовым и повсеместным. В США в 2013 году было проведено, например, 415 тыс. операций аортокоронарного шунтирования и 1,05 млн операций по замене суставов, а в России — 16,5 и 76 тыс. операций соответственно, т. е. в 15–25 раз меньше при вдвое меньшем населении[359]. И проблема не только в том, что у нас помогли меньшему числу пациентов, но и в том, что, выведя такие операции в ранг типичных, в передовых странах сосредотачивают внимание на новых ориентирах, а мы по-прежнему сдаем толстые бюрократические отчеты о том, какую «высокотехнологичную медицинскую помощь» оказывают, проводя давно ставшие рутинными в развитом мире операции, наши врачи.
Еще более серьезны проблемы в профилактике — хотя, казалось бы, именно на ней следует сосредоточить основные усилия при недостатке средств на финансирование здравоохранения. Однако в основном все сводится к формальности. Серьезное обследование, которое следует проводить не реже одного раза в два-три года и которое включает в себя базовые анализы, УЗИ и МРТ основных органов, в российских условиях стоит не менее 20 тыс. руб. по рыночным ценам — но «расчетный» тариф, выплачиваемый клиникам за так называемую диспансеризацию, установлен на 2017 год в сумме 930 руб. для мужчин и 1057 руб. для женщин среднего возраста[360]; цена, думается, говорит всё, что нужно знать о качестве обследования. В Германии полное секвенирование генома упало в цене до €400 — но в России подобного качества исследования не производятся вообще. Поэтому не приходится удивляться, что 39,6 % онкологических заболеваний у нас выявляются на III–IV стадиях, вследствие чего коэффициент дожития в последующие пять лет составляет менее 53 %, тогда как в США — 66 %[361]. Российские руководители много говорят (и кое-что делают) для роста рождаемости, однако люди, вступающие в жизнь сегодня, смогут стать полезными для общества через два-три десятилетия, в то время как мужчин, находящихся в самом расцвете сил (от 35 до 54 лет), Россия теряет ежегодно в 5,3 раза больше, чем Соединенные Штаты[362]. И происходит это из-за стабильного недофинансирования российской медицины: во всех развитых странах совокупные расходы на нее из бюджетов разных уровней и системы государственного медицинского страхования превышают расходы на оборону в 2,9 (США) — 7,3 (Германии) раза, тогда как в России — всего в 1,24[363], и пока борьбе с воображаемыми угрозами мы будем уделять большее внимание, чем противодействию реальным, ситуация не изменится.
Не будет преувеличением сказать, что в России формируется общество, отдельные страты которого существенно отличаются по тому, в какой мере они имеют доступ к современной медицине. С советских времен существуют чиновники, допущенные к «спецбольницам», обслуживание в которых в целом соответствует уровню среднеразвитой европейской страны; появилась и расширяется высшая прослойка среднего класса, способная позволить себе платные медицинские услуги или высококлассные страховки; но при этом все больше россиян сталкивается с медициной, качество которой постоянно ухудшается вследствие как ограниченного финансирования, так и снижающегося профессионализма медиков, выпускаемых в последние годы отечественными вузами. В целом, даже если не говорить о закрывающихся больницах, качество здравоохранения в России все больше отстает от западных стран, а ни о какой «медицинской самодостаточности» страны не приходится и мечтать.
Совсем катастрофической, однако, сегодня выглядит ситуация в сфере эпидемиологии, где Россия остается единственной крупной страной (я не говорю — великой державой), в которой стремительно растет число людей, инфицированных ВИЧ. Парадоксально, но до сих пор ежегодный анализ крови на ВИЧ не стал обязательным — что должно было быть первоочередной мерой, — и потому даже число носителей вируса можно определить только приблизительно (оценки колеблются от 1,11 до более чем 2 млн, а скорость заражения оценивается в 85–120 тыс. новых случаев в год[364]). Однако, даже несмотря на то, что обрывочные данные позволяют говорить об инфицированности в ряде крупных городов от 2,5 до 8 % (!) мужчин в возрасте от 30 до 40 лет[365], власть предпочитает замалчивать проблему, всерьез полагая, что большинство инфицированных сами виноваты в своей беде, а главным приемом борьбы с распространяющейся эпидемией может стать пропаганда высокоморального образа жизни; иногда утверждается даже, что сама тема «подброшена» с Запада и ситуация в стране вовсе не столь критична, как это утверждают специалисты[366]. На основании таких «оценок» государство не гарантирует обеспечения больных даже теми препаратами, которые выдаются им в соседней Белоруссии, не говоря уже о тех, предоставление которых регламентируется рекомендациями ВОЗ. И как бы мы ни проклинали «лихие 90-е», количество смертей от СПИДа в стране сегодня существенно превышает показатели того «ужасного» времени и будет расти дальше.
Однако, пожалуй, нигде несовременность российской социальной политики не проявляется столь очевидно, как там, где проблемы социального обеспечения и здравоохранения пересекаются, — в отношении к инвалидам. Как отметили многие, у недавно скончавшегося С. Хокинга не было бы шансов не только сделать в России научную карьеру, но даже регулярно появляться в обществе — и именно поэтому то, что людей с ограниченными возможностями можно видеть в России гораздо реже, не означает, что проблема отсутствует. Сегодня в стране живет более 1,3 млн инвалидов I группы, 636 тыс. детей-инвалидов и более 10,3 млн человек, чьи возможности общественно-полезной деятельности ограничены в меньшей степени[367]. Из числа инвалидов I группы постоянную работу имеют всего 4,5 % (для сравнения: в США — около 21 %[368]). В России не было и нет движения в направлении более активного трудоустройства инвалидов; ни одна крупная отечественная компания не соответствует стандартам equal opportunity employer в нынешнем понимании этого термина; городская среда катастрофически неприспособлена для ведения людьми с ограниченными возможностями социально активного образа жизни. При этом постоянно нагнетаемая апология маскулинности (если не воинственности) прямо указывает на то, что власть не считает интеграцию инвалидов в общество достойной себя задачей (для сравнения отметим, что в США на социальное обеспечение бывших военнослужащих в 2018 году будет потрачена сумма, в 4,3 раза (!) превышающая весь военный бюджет России[369]).
Очевидно, что в мире накоплены многочисленные практики повышения эффективности здравоохранения, — однако Россия упорно и последовательно игнорирует их. Ни индивидуальная врачебная практика, ни европейские протоколы лечения, ни лекарственное страхование — ничто из этого у нас не прививается. Зато быстро сокращается набор бесплатных медицинских услуг (вплоть до обоснования бессмысленности финансирования из бюджетных средств лечения онкобольных на последних стадиях развития болезни[370]); идут попытки «импортозаместить» современные препараты субстанциями вчерашнего дня; запрещается вывоз из страны биоматериалов, необходимый для сложных (в том числе генетических) анализов; очередные ограничения на использование некоторых видов обезболивающих (за которыми якобы охотятся наркоманы) приводят к случаям самоубийств неизлечимых больных (что, наверное, видится «российским ответом» на европейскую практику эвтаназии); сплошь и рядом в числе благотворительных организаций, занимающихся борьбой с тем же ВИЧ, выявляются «иностранные агенты» со всеми вытекающими из этого последствиями. В результате население страны продолжает сокращаться, что наши заботливые либералы советуют компенсировать, «делая Россию привлекательной для мигрантов»[371].
Еще одна проблема, с которой государство все меньше хочет бороться, — экологическая. Расходы на поддержание окружающей среды в пригодном для жизни состоянии — самое явное воплощение тех «излишеств», которые в России начала XXI века отнюдь не приветствуются. В условиях, когда весь мир стремится усовершенствовать экологические стандарты, развивает «зеленую» энергетику, повышает энергоэффективность как производств, так и повседневной жизни, России это «не указ». Согласно данным Greenpeace, почти 15 % территории европейской части страны должно считаться зоной экологического бедствия. Российское Минприроды признаёт, что в 147 городах (или в 60 % от числа тех, где проводятся наблюдения), где живут 56,2 млн человек, средние за год содержания вредных веществ превышают ПДК хотя бы по одному показателю (при этом в самом грязном из них, Норильске, пост Гидрометцентра в 2003 году был вообще закрыт)[372]. Почти половина населения России не обеспечена безопасной питьевой водой, а каждая третья проба воды из источников питьевого водоснабжения не соответствует не то что европейским, но даже отечественным стандартам[373].
Несмотря на то, что Россия — территория ресурсной экономики, ее природа эксплуатируется хищническими методами. Коэффициент извлекаемости нефти составляет 42–43 %, а количество разливов нефти и нефтепродуктов из трубопроводов превышает 25 тыс. в год, причем только в Северный Ледовитый океан попадает ежегодно не менее 500 тыс. тонн нефти[374]. При этом государство не стремится наказывать предприятия, нарушающие экологические нормы: достаточно оценить слова министра природных ресурсов и экологии С. Донского, гордо вещающего об 1 млрд руб. штрафов, собранных в 2016 году в России со… 153 тыс. мест незаконного захоронения отходов (что означает: средний штраф составил около 6,5 тыс. руб., или эквивалент цены вывоза… 12 куб. м мусора — и как тут удивляться, что свалки берут в тиски наши города?)[375]. Во многих случаях вопиющие злоупотребления вообще не расследуются (как, например, регулярные превышения уровня сероводорода в Москве), а предприятия — источники загрязнений не закрываются и не модернизируются годами.
При этом экологические стандарты в России давно устарели и медленно приближаются (если вообще приближаются) к европейским. Россия лишь в 2013 году с четвертой попытки запретила моторное топливо класса «Евро-2», причем неготовность компании «Роснефть» в срок перейти на выпуск более качественного топлива спровоцировала в стране полномасштабный бензиновый кризис[376]. Удельная энергоемкость ВВП в России сегодня в 2,34 раза превышает американский уровень, в 3,04 раза — французский и в 3,37 раза — японский[377]; если Россия имела хотя бы такой же уровень энергоэффективности, как Польша, она могла бы поставлять на экспорт вдвое больше природного газа, чем сегодня, не наращивая при этом объема его добычи. Сейчас в Европе практически решен вопрос о запрете с 2025–2030 годов дизельных автомобилей, а с 2040 года — о полном прекращении выпуска машин с двигателем внутреннего сгорания; в России же по состоянию на середину 2018 года было продано всего 1100 электромобилей — меньше, чем их сегодня состоит на учете в Руане[378], небольшом городишке на севере Франции с населением всего 110 тыс. человек.
Не иначе как дикой стоит назвать и сложившуюся в России ситуацию с утилизацией отходов, которых наш средний соотечественник производит 400–500 кг в год. В последние годы и месяцы мы стали свидетелями нескончаемых скандалов, связанных с функционированием так называемых полигонов, а на самом деле — банальных свалок, взявших в кольцо наши города. Сегодня только вокруг Москвы захоронено более 210 млн тонн отходов, отравляющих воздух и подземные воды, — однако в России не предприняты самые очевидные меры, которые давно используются в развитых странах: не введен обязательный раздельный сбор отходов (в Германии действует с 1996 года); не запрещено их открытое хранение (как сделано сейчас в 19 странах ЕС); не практикуется сортировка и глубокая вторичная переработка отходов (максимум, о чем сейчас говорят власти российских столиц, — о мусоросжигательных заводах, пик строительства которых в Европе пришелся на 1980-е годы)[379]. Целые города попадают в зоны, практически непригодные для жизни; распространяются болезни, вызванные проблемами с экологией; дети начинают задыхаться даже в ближнем Подмосковье — но в стране, где свалки «по случайному совпадению» контролируются структурами сына генпрокурора, а надзор за соблюдением природоохранного законодательства осуществляется его отцом, надеяться на перемены не приходится[380].
Можно продолжать приводить примеры, но общая ситуация понятна: и люди, и те проблемы и тенденции, которые пусть и требуют внимания, но выглядят «статьями затрат», а не доходов, российские власти интересуют все меньше — а общество еще не дозрело до того, чтобы заставить правительство не то чтобы обратить на все эти вопросы внимание, но даже исполнять собственные законы, принятые в соответствующих сферах. Между тем я бы рискнул назвать современным только такое общество, которое является экономически инклюзивным; общество, которое ставит благополучие каждого конкретного человека выше абстрактных «национальных интересов» и способно продуцировать перспективную повестку дня, а не отмахиваться от нарастающих проблем.
Отупление нации
Можно ли, однако, требовать от страны и общества формулирования перспективных целей, если нация в последние годы откровенно — и целенаправленно — дебилизируется? Этот вопрос, каким бы чувствительным ни был, нужно рассмотреть именно в такой постановке.
В последние годы особенностями российского общества, заметными невооруженным взглядом, стали, с одной стороны, снижение уровня осмысления происходящих процессов (я бы сказал — отказ в признании за ними реальной степени сложности) и, с другой стороны, совершенно новая культура коммуникации, распространившаяся как внутри страны, так и в отношениях с внешним миром. В первом случае речь идет о полном оттеснении на периферию общественного внимания сколь-либо серьезной аналитики и о выходе на «передовые позиции» авторов, апеллирующих к идеологическим, а не рациональным, аргументам, к постоянной профанации знания, распространении «теорий заговоров» и иных подобных построений (конечно, я сейчас не говорю о естественных науках, но, увы, не они определяют «интерфейс» любого интеллектуального сообщества). Во втором мы начинаем жить в мире «постправды»[381], в котором информация все активнее замещается пропагандой; исчезает привычное понимание авторитета; главным аргументом становится напористость; голословные обвинения или их столь же голословные опровержения как бы сами являются событиями; в котором даже те люди, которые по своим профессиональным обязанностям должны быть образцом корректности и сдержанности, легко переходят на коронные «Дебилы, бл@!». Россия в последние годы стремительно становится страной, в которой за новости выдаются сообщения о намерениях или события, которые при ряде условий имеют шанс случиться в будущем, — но именно это и формирует «новостной фон» большей части средств массовой информации. Все это может казаться наносным — но я убежден, что это отражает процесс выпадения России из современности (что на практике прослеживается, например, во внешней политике, к чему я еще обращусь).
Насколько мне известно, глубоких работ, посвященных деструктурированию постсоветской общественной/политической мысли, пока нет. Я попытаюсь отметить несколько важных моментов, которые могли бы быть учтены будущими исследователями этой проблемы; суждения мои будут обрывочными, но достаточно понятными.
Важнейшим фактором превращения советской общественной мысли в то, что мы сегодня имеем, была «потеря ориентации» после краха коммунизма. Часть постсоветских обществоведов сохранила свои марксистские убеждения и сэволюционировала в левацкий антиглобализм (тут можно отметить А. Бузгалина, А. Колганова, Б. Кагарлицкого и ряд других). Часть быстро «перековалась» и превратилась в специалистов в области экономикс, социальной компаративистики и количественных методов анализа социальной реальности (к ним относятся исследователи, сплотившиеся вокруг Высшей школы экономики, Европейского университета в Санкт-Петербурге и Российской экономической школы). Большинство остались работать в своих институтах и фактически утратили влияние на формирование ментального климата. Вскоре оказалось, что первые и вторые более интеллектуально связаны со своими зарубежными коллегами, чем с российскими. Большинство же, осознав свою растущую маргинальность, превратилось в идеальную среду для распространения «исконно российских» теорий, которые хотя бы на уровне воображения диссонировали с печальной реальностью. Здесь и взросли построения А. Дугина, В. Цымбурского, Е. Островского, П. Щедровицкого и многих других, часть которых и поныне считаются российскими maitres d’esprit.
Эта «новая волна» впитала в себя как старые, так и новые элементы. От советского марксизма она унаследовала любовь к «методологии» и «большим теориям», не заморачивающимся с фактами, но стремящимся объяснить мир исходя из умозрительных построений. Из хаоса 1990-х годов идеологи российской исключительности вынесли вывод о том, что для обеспечения своим теориям признания нужно не столько убеждать академическое сообщество или коммуницировать с властью, сколько внедрять соответствующие концепты в сознание обывателей, чье признание гарантирует теории будущее по мере того, как «отрицательный отбор» в верхах сравняет интеллектуальный уровень «элиты» и плебса. Идя по этому пути, новые теоретики написали тома букв, не имевших особого отношения к реальности, но мощно срезонировавших в умах людей, которым трудно было окончательно смириться с тем, что Россия оказалась в ее новом неприглядном положении вследствие собственных ошибок, а не в результате заговора (и потому предполагавших, что из сложившейся ситуации можно относительно легко выйти). Тенденция к вульгаризации проявилась даже и в естественных науках в образе поиска простых решений сложных вопросов, восторженно воспринимавшихся властями (особо выдающиеся примеры хорошо представлены в материалах специально созданной в Российской академии наук комиссии по лженауке[382]). Так что В. Путину после его прихода к власти не нужно было создавать новой идеологии и воспитывать новых «ученых» — и та, и те были уже готовы.
Однако для того, чтобы примитивные представления, апологетизирующие особый российский путь и не допускающие даже мысли о том, что страна все больше отстает от остального мира, стали в обществе доминирующими, необходимы были два дополнительных условия.
Первым являлся «естественный» упадок образования, вызванный целым рядом причин. Не секрет, что во времена позднего СССР советские вузы и школы считались одними из лучших в мире, хотя в сфере истории и общественных наук доктринерство было очевидно. После краха коммунистического проекта, упадка индустриального сектора и сокращения трат как на фундаментальные, так и на прикладные исследования спрос на качественное естественнонаучное образование сократился, а прием студентов в вузы по профилю «промышленность и строительство» за 1985–2003 годы вырос на 60 %, хотя в вузы, готовившие специалистов по экономике и праву, он подскочил в 6,2 раза[383]. Обнищание преподавательского состава в начале 1990-х дало толчок эмиграции, сократившей число профессоров в ряде вузов на 25–40 %. Одновременно возник масштабный спрос на дипломы (в большей мере, чем на образование) в общественно-научных дисциплинах, экономике, юриспруденции и менеджменте. Если есть спрос, появляется и предложение: число вузов в России на фоне нараставшего хозяйственного кризиса выросло с 514 в 1990/91 учебном году до 965 в 2000/01-м (а затем, после возобновления экономического роста — и до исторического максимума в 1115 в 2010/11-м) (и это не учитывает внутренней структуры вузов: например, число факультетов в МГУ за последние 30 лет увеличилось с 16 до 40, причем из 24 новых подразделений лишь 6 можно с той или иной долей условности причислить к естественно-научному сегменту[384]), а в целом по стране рост числа вузов был практически целиком обеспечен именно новыми экономическими, юридическими и социологическими институтами. Соответственно увеличилось и количество студентов — с 2,85 млн в 1990/91 учебном году до 7,05 млн в 2000/01-м[385], — несмотря на то, что качество образования было, скажем откровенно, последним фактором, определявшим успешность человека в России в первые десятилетия после развала Советского Союза. В некоторые годы россияне столь проникались желанием учиться, что число зачисленных в вузы превышало… количество выпускников школ соответствующего года. Иначе говоря, к началу 2000-х Россия стала страной фактически всеобщего высшего образования, хотя никаких экономических оснований для этого не имелось (доля лиц с высшим образованием в рабочей силе достигла в России 54 % против 35,7 % в США, 28,1 % в Германии и всего 17,2 % в находящейся с нами на одном уровне по подушевому ВВП Бразилии[386]); параллельно было фактически уничтожено среднее профессиональное образование, на которое делают сейчас акцент в развивающихся странах. Структура российского образования окончательно подстроилась не под постиндустриальное, а скорее под деиндустриализировавшееся общество.
Такое положение вещей определило снижение качества образования, так как, с одной стороны, ухудшался контингент преподавателей и по мере увеличения нагрузки и совместительства снижалось внимание к студентам и, с другой стороны, сама молодежь понимала важность диплома, а не учебы, посвящая значительную часть времени зарабатыванию денег. В результате сейчас лишь 46 % российских выпускников находят работу по той специальности, по которой учились (в США — 76 %), 24 % вчерашних студентов удовольствуются позициями, вообще не требующими высшего образования[387], а масса управленцев, чиновников и судей отлично «устраиваются в жизни» даже с поддельными свидетельствами об окончании вуза. Последние стали совершенно новым словом в данной области и, не побоюсь сказать, важнейшим российским «ноу-хау» постперестроечной эпохи. С начала 2000-х годов производство фейка в российских образовании и науке оказалось поставленным на поток. Несмотря на то, что Россия стремительно сдавала свои позиции в сфере международно признанных исследований (сегодня она занимает 15-е место по числу поданных патентных заявок, отставая от Китая в 43 раза и обеспечивая всего 0,4 % их общемирового количества, а доля научных работ российских авторов в индексах цитируемости, составляющая 2,12 %, не должна особо радовать, так как бльшая ее часть обеспечивается учеными, работающими за пределами страны [публикации на русском языке занимают только 0,6 % общего числа публикаций, охваченных Web of Science][388]), число защищенных кандидатских и докторских диссертаций выросло более чем вдвое по сравнению с позднесоветскими показателями — причем, если судить по ученым званиям, российские парламент, правительство и региональные органы власти укомплектованы самыми образованными людьми в мире. Некоторые региональные вузы по числу подготовленных кандидатов и докторов наук оставили позади столичные университеты — но иcследования «Диссернета» указывают на то, что около пятой части всех работающих в стране научных советов имеют прямое отношение к производству фальшивых кандидатских и докторских диссертаций; при этом работа ВАК, умудряющегося порой за день присудить 400 степеней доктора наук, не дает оснований надеяться на то, что в данной сфере что-то скоро изменится[389]. Однако ученая степень остается столь важным аксессуаром современного российского управленца, что одна из таких «жемчужин» есть даже у президента России В. Путина[390]. В стране процветали такие же «фабрики диссертаций», какие существуют ныне «фабрики троллей» — и качество их продукции я бы назвал сопоставимым. После того как правительство предприняло робкие попытки отрегулировать ситуацию, требуя от «ученых» научного продукта, возникло множество фейковых «научных» журналов, зарегистрированных как в России, так и за рубежом, но в основном печатающих «труды» авторов из Российской Федерации и стран СНГ[391]. Я думаю, что не будет преувеличением сказать: российское обществоведение (за другие отрасли знания судить не возьмусь) превратилось в фикцию, а бльшая часть серьезных ученых либо сосредоточились в нескольких глобализированных вузах, работая между Россией и другими странами, либо эмигрировали. Ситуация, я полагаю, не изменится, пока властью в стране обладают те, кто воспитан в этой «фейковой» псевдонаучной культуре.
Вторым условием стала политическая заинтересованность властей в подавлении свободомыслия и установлении того, что принято называть «образовательным стандартом», а также стремление элиты к контролю над студенческими сообществами. Еще в 2005–2010 годах была искоренена или формализована процедура выборов руководителей учебных и научных организаций; в вузы были введены «представители» власти (в том же МГУ как сам университет, так и 7 его факультетов и приравненных к ним структур возглавляют сегодня функционеры правящей партии или ее известные пропагандисты), а Академия наук с 2013 года была превращена в правительственное агентство, руководитель которого «избирается» по представлению президента страны. Фактически в России уже выстроена своего рода «научная вертикаль», полностью подчиненная Кремлю либо непосредственно (в первую очередь за счет распределения довольно скудного финансирования — в 2017 году бюджет МГУ составил 12,1 млрд руб., тогда как бюджет Стэнфордского университета на 2017/18 учебный год составляет $5,85 млрд[392]), либо через идеологизированные структуры типа Российского исторического или Военно-исторического обществ, возглавляемые ведущими «силовиками» из правительства. Помимо прямой индоктринации, большой размах получает «выдавливание» из вузов ученых, по ряду вопросов занимающих «неудобную» для властей позицию или препятствующих коммерциализации учебного процесса и разворовыванию имущества высших учебных заведений[393].
Происходящее в последние годы резко изменило паттерн молодых россиян, стремящихся связать свою жизнь с серьезной наукой. Рост числа обучающихся в зарубежных вузах превысил в 2000–2015 годах 400 %, и это не связано прямо с большей доступностью платного образования вследствие повышения благосостояния россиян: более всех российских студентов обучаются в Европе и Северной Америке по грантовой системе, пройдя сложный отбор; при этом доля возвращающихся в Россию едва достигает 30 % (в Китае — более 80 %)[394]. Проблемы карьерного роста актуальны отнюдь не только в общественно-научных дисциплинах: на начало 2010-х пришелся пик карьер тех ученых, которые в сравнительно молодом возрасте (30–40 лет) переехали в Москву или Петербург из провинциальных вузов в 1990-е годы, компенсируя миграционный отток того времени; сейчас они прочно контролируют управленческие позиции в своих институциях и не заинтересованы в конкурентах. В результате приток молодых кадров ограничен как естественными, так и искусственными причинами: средний возраст академиков и членов-корреспондентов РАН превышает сегодня 70 лет.
Таким образом, можно констатировать, что Россия выпадает из глобального тренда на формирование knowledge society: образование становится скорее формальностью; общественные науки превращаются в инструмент идеологической обработки граждан; передовые научные исследования ведутся все менее активно, а за оригинальные разработки выдаются фиктивные достижения. Российские технологии во многом существуют на позднесоветском «заделе» (как в космонавтике или военно-промышленном комплексе), но он близок к исчерпанию. Для попытки прорыва, вовсе не очевидно успешной, необходимы не только масштабные финансовые вливания, но и качественные научные коллективы, соответствующая мировым аналогам интеллектуальная свобода и, главное, востребованность результатов исследований как экономикой, так и политической элитой. В России, напротив, всё способствует подмене знания мнениями; снижению внимания к фактам; переходу от аргументов к истерике; формированию системы, в которой правильной может быть только точка зрения вышестоящего руководителя. Причем к этой нарастающей несовременности добавляется еще один элемент, который для развитого мира является особенно странным.
Речь, разумеется, идет о религии и той индоктринации, которая исходит от Русской православной церкви, ставшей в последние годы, как это часто подчеркивается, по сути, отделом воспитания и пропаганды президентской администрации. Не вдаваясь детально в историю, можно сказать, что роль церкви в России во все времена была совершенно особой: унаследованное от Византии как «государственная» религия, православие выстраивалось в первую очередь для сервильной поддержки действующей власти и старательно охраняло свою «территорию». Его «коллаборационизм» оценили даже монголы, никогда не препятствовавшие его развитию и специальными документами легализовавшие как права собственности церкви на имущество, так и полномочия по сбору десятины[39], справедливо полагая, что русские церковники идеально ретранслируют волю любой власти. После освобождения от ига церковные иерархи сделали очень много как для утверждения власти русских царей, так и для изображения России новым центром мира, который не нуждается в совершенствованиях. Вполне понятно поэтому, что реформаторы и «прогрессисты» — от Петра I до коммунистов — откровенно не жаловали РПЦ, то подчиняя ее себе, то попросту пытаясь уничтожить.
Руководство новой России изначально было расположено к церкви — и даже если это расположение несло в себе элемент извинения за жестокости советской эпохи, оно в той или иной степени предполагало обмен покровительства со стороны власти на ее дополнительную легитимацию со стороны церковников. Политически роль РПЦ была особо значимой потому, что исторически она сформировалась именно как русская государственная институция, в отличие, например, от любых западных конфессий, которые либо вообще не имеют единого центра, либо управляются из Ватикана, на политических амбициях которого еще несколько столетий назад был поставлен крест (прошу прощения за двусмысленность). Поэтому если сначала Кремль стремился просто «поддерживать» церковь (например, обеспечивая ей льготы при импорте в страну алкоголя и сигарет, обогативших нынешнего патриарха и его окружение[396], или строя храм Христа Спасителя на средства, выделявшиеся по разнарядке организациями, близкими к московскому правительству), то впоследствии государство стало стирать грань между бюджетными и церковными деньгами. В Москве (программа «200 храмов») и за рубежом (Русский культурный центр в Париже) государственные структуры либо софинансируют строительство объектов культа, либо передают в собственность церкви земельные участки под ними. При этом Положение о церковном имуществе никем не утверждено; Устав РПЦ, принятый Архиерейским собором 16 августа 2000 года с поправками от 27 июня 2008 года, не регистрировался в Минюсте; а Гражданский устав РПЦ, вроде бы там зарегистрированный, никогда не публиковался[397]. Русская православная церковь также освобождена от налога на имущество, используемое для религиозной деятельности; земельного налога на земельные участки со зданиями религиозного и благотворительного назначения; и налога на прибыль от доходов, полученных «в связи с совершением религиозных обрядов» (финансовая отчетность организации тоже никогда не становилась публичной).
Начиная с 1990-х годов в России при поддержке властей наблюдается немыслимый для современной европейской страны религиозный ренессанс. Если в начале 1980-х годов православными считали себя 8 % граждан, то сегодня такими числятся уже около 70 %. Вместо 5,3 тыс. храмов и 18 монастырей, действовавших на территории РСФСР в 1985 году, мы имеем почти 40 тыс. церквей и 900 монастырей[398], новые строятся куда быстрее, чем родильные дома, детские сады и школы. Создается институт священников в Вооруженных силах; руководители страны выставляют напоказ свою религиозность; первосвященник и святые отцы высказываются по наиболее значимым вопросам внутренней и внешней политики; в вузах создаются кафедры теологии и открываются «ученые» советы по данной специальности; попы путешествуют с членами правительства на зафрахтованных самолетах, освящая падающие потом космические аппараты. Так откровенно, как в современной России, религиозные организации никогда не «продавали» свой «продукт» власти и не становились по отношению к ней столь сервильными. При этом президент постоянно участвует в православных службах, посещает монастыри в стране и за рубежом — чего публично не позволяет себе ни один западный лидер. В некоторой мере это объясняется тем, что власть демонстративно надеется на церковь в решении многих вопросов — от поддержания нравственности (однако 640 тыс. наркозависимых, до 5 млн алкоголиков и каждый третий ребенок, рождающийся в стране вне брака[399], ее эффективность не подтверждают) до совсем уж экзотических попыток снизить аварийность на дорогах или прекратить засуху с помощью крестных ходов полицейских или окропления полей святой водой[400]; такая апелляция светской власти к «духовной» разительно контрастирует с фундаментальными основами современного понимания мира и закономерностей развития общества.
Проблема, на которую я в данном случае обращаю внимание, состоит не в распространении среди россиян религиозных ценностей как таковом — в самом этом процессе нет ничего противоестественного (в России к православным сегодня причисляют себя 68 % граждан, тогда как в США религиозными считают себя около 77 % жителей, в Польше только католиками называют себя 87 %[401]). Проблема в том, что религиозные авторитеты начинают нарушать российские законы, de facto цензурируя произведения литературы и искусства (под их указку переписываются сценические постановки сказок Пушкина — в Республике Коми была отменена опера Д. Шостаковича «Балда», требуют «крещения» Деда Мороза, закрытия безобидных комических музеев типа «Музея Бабы-Яги» в городе Кириллове Вологодской области)[402], практически вводят новые статьи в Уголовный кодекс, настаивая на приобщении к обвинениям решений церковных соборов тысячелетней давности; монополизируют право на определение того, что нравственно, а что — нет; открыто посягают на светский и многонациональный характер российского общества (в 2002 году нынешний патриарх заявил, что «мы должны вообще забыть расхожий термин “многоконфессиональная страна”: Россия — это православная страна с национальными и религиозными меньшинствами»[403]). По сути, православие становится сегодня инструментом политики как внутренней, так и внешней — и религиозно-мистические мотивы стремительно проникают в сознание значительной части россиян, наслаиваясь на идеологические установки, задаваемые Кремлем. То, что сегодня происходит у нас в стране, представляется мне однозначным регрессом — воскрешением идеологических норм, восходящих к Средним векам, за которым наверняка последует и нравственная легитимация распространенных в то время социальных практик (чуть позже я еще остановлюсь на этом подробнее). Именно эта старинная «связка» церкви и государства делает Россию все менее современной — если, конечно, считать идеалом европейские общества, а не Иран или Саудовскую Аравию. Церковь в России предоставляет власти дополнительное ощущение легитимности, но тащит страну в прошлое. Вера все активнее претендует на то, чтобы заместить знание, однако оказывается не в состоянии исцелить социальные пороки.
Наконец, нельзя не обратиться и к тому процессу оболванивания населения, который ведет само государство через средства пропаганды — прежде всего телевидение. Откровенная примитивная ложь становится основой его контента, а главным аргументом оказывается степень истеричности ведущих и комментаторов. Не только в обществе, но и в самом управленческом классе формируется запрос на самые простые решения и на наименее способных и творческих исполнителей — причем сложно сказать, что кажется властям более необходимым: тупое общество или тупые руководители. Сегодня в стране искоренена не только политическая конкуренция (выборы на многих уровнях отменены, а в оставшихся участвуют специально отобранные кандидаты), но и конкуренция в сфере управления. Карьерные «лифты» работают крайне странным образом: во-первых, высшие и средние должности в приоритетном порядке замещаются уже даже не друзьями первых лиц государства, а их родственниками[404] (последний пример — назначение двоюродного племянника В. Путина заместителем председателя правления «Газпрома»[405]); во-вторых, возникают своеобразные «кадровые резервы», составляемые в ходе конкурсов и отборов, проводимых в значительной мере на основании выявления наиболее политически лояльных персонажей; в-третьих, средний уровень в управленческих структурах комплектуется из тех, кто достаточно туп для того, чтобы выгодно оттенять не слишком высокие интеллектуальные способности своего шефа. В результате «вертикаль власти» превращается в систему отрицательного отбора, всасывающую в себя наименее честных и компетентных «специалистов». Новое российское государство извращает всяческие смыслы, ранее существовавшие в обществе. Язык общения с народом превращается во все более бессмысленный набор бюрократических штампов. Охранники президента, неожиданно становящиеся губернаторами, именуются технократами, а руководители, «заваливающие» один участок работы за другим, — эффективными менеджерами.
Отдельно следует сказать несколько слов о том, чем нынешняя Россия разительно отличается от всех Россий, существовавших в прошлом (возможно, за исключением сталинской — и то на протяжении довольно короткого периода). Я имею в виду насаждаемую милитаризацию общественного сознания, а порой и скрытый культ войны, быстро распространяющиеся в обществе. В своих первых проявлениях это восходит к 2000-м годам, когда в условиях героизации советского наследия День Победы стал главным праздником страны, — однако настоящий ренессанс милитаризма случился после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. Именно тогда георгиевская ленточка, традиционно являвшаяся в Российской империи и Советском Союзе символом ратной доблести и принадлежности к военной службе, стала общенациональным символом; к этому же времени относится превращение акции «Бессмертный полк» в часть официальных празднований 9 Мая; постоянное повышение «градуса» соответствующих мероприятий вызвало к жизни лозунг «Можем повторить!», немыслимый в советской культуре, которая в последние десятилетия существования СССР была основана на пропаганде неустанной борьбы за мир. Конечно, я не идеализирую политику Советского Союза, но хочу подчеркнуть, что в те годы вожди страны стремились не допустить выхода милитаризма «в массы», оставляя определение контуров военной доктрины профессионалам. Сегодня же Кремль проводит линию на искусственное снижение «порога принятия» войны обывателями: по стране проходят патриотические утренники в школах, где детей наряжают в «костюмы» танков и ракет; результаты опросов показывают общенациональную одержимость придумывания названий пока еще не существующим видам вооружений[406]. Во всем этом я вижу серьезную проблему, так как милитаристская истерия разворачивается все сильнее по мере того, как уходит поколение, имевшее хоть какую-то память о войне, и весь ее трагизм как бы выветривается из народной памяти. Милитаристская индоктринация в такой ситуации практически лишается возможных сдержек — и, учитывая почти полное исчезновение «силовой» компоненты из спектра тем, занимающих умы людей в развитых странах, также подчеркивает, что Россия сегодня идет не столько «нога в ногу» с тем миром, к которому она принадлежит, сколько в совершенно противоположном направлении.
Отторжение идеи равенства
Одной из наиболее часто отмечаемых российских проблем является пренебрежение властей правами человека. Очень часто мы даже не отдаем себе отчета, сколь непривычно в России мыслить соответствующими категориями: традиционное для Запада апеллирование к праву и нормам у нас сплошь и рядом подменяется обращением к «справедливости» и «честности», к понятиям «плохо» или «хорошо»[407]. Причину такого положения вещей я вижу в глубинной непримиримости понятия права и сущности российской власти как таковой: Кремлю и его назначенцам любого уровня сложно смириться с мыслью, что правами можно обладать от рождения, — просто потому, что они привыкли к тому, что ими можно только наделять (в чем, собственно, они и видят свое предназначение). Именно потому несовременность России сегодня видна особенно отчетливо там, где речь заходит о базовых правах — и, в частности, о принципе равенства, который в развитом мире уже как-то странно даже и обсуждать.
Начнем с самого банального — с гендерного равенства. Учитывая, что государство в России ориентировано не на диалог с гражданами, а на издание приказов относительно того, кто что должен делать; не на помощь человеку, а на его подавление, оно по своей природе предрасположено к насилию. В свою очередь, сила всегда ассоциируется с мужским, а не с женским началом — и поэтому, на мой взгляд, в «мобилизованном» и конфронтационном обществе типа российского возникает такой культ маскулинности. Если бы наша страна была более современной, народ мог бы понять, что проповедь гендерного равенства, которая в последние десятилетия столь популярна на Западе, имеет прежде всего не столько идеологический, сколько сугубо практический смысл: утверждая права женщин, общество создает рычаги противостояния насилию и произволу на самом низшем уровне, непосредственно в семье. Ежедневно сталкиваясь с необходимостью учета чужого мнения и чужих прав, люди становятся менее склонными к антисоциальным формам поведения; у них возникает более четкое понимание границ частной жизни и принципа неприкосновенности личности. Конечно, все можно извратить и довести до противоположности — но защита прав женщин имплицитно означает защиту более слабой части общества и потому по определению делает весь социум более гуманным.
В России мы сегодня уверенно разворачиваемся в сторону русского средневековья с его порядками «домостроя». Женщины, составляющие бльшую часть населения, непропорционально представлены в управлении страной даже несмотря на то, что в среднем они более образованны, чем мужчины (24,8 % россиянок в возрасте 15 лет и более имеют высшее образование против 21,7 % граждан мужского пола[408]). В нынешнем составе Государственной думы женщин 16,7 % (да и то хорошо — в предыдущем было всего 4,6 %), в то время как в германском Бундестаге — 31,2 %, в норвежском Стортинге — 41,4 %[409]. Женщина никогда не была в России премьер-министром (в странах ЕС за последние 30 лет 27 женщин занимали такой пост) и женщины никогда не получали на президентских выборах более 5 % голосов. Средняя зарплата женщин в России ниже зарплаты мужчин на 27,4 %[410], и ситуация отнюдь не демонстрирует признаков улучшения. Однако основная проблема даже не в этом.
По мере выпадения России из современности женщины в стране сталкиваются со все более явным проявлением отношения к ним как к «недочеловекам», которые обязаны терпеть многочисленные унижения и не воспринимать это как нечто ненормальное. Несмотря на то, что наказание за «понуждение женщины к вступлению в половую связь или к удовлетворению половой страсти в иной форме лицом, в отношении коего женщина являлась материально или по службе зависимой» появилось в Уголовном кодексе РСФСР еще в 1926 году (ст. 154)[411], став одним из первых в мире упоминаний в уголовно-правовом документе того, что сейчас принято считать харрасментом, и перекочевало в современную версию Уголовного кодекса (ст. 133), по данной статье дела возбуждаются крайне неохотно и практически никогда не доходят до суда. Кроме того, почти никак не прописана ответственность за непристойные предложения и приставания (несмотря на многочисленные попытки внести соответствующие дополнения в ст. 135 УК РФ[412]). Недавняя дикая история с разоблачениями несколькими журналистками депутата Государственной думы Л. Слуцкого, открыто к ним пристававшего, и последующий отказ руководящих органов парламента признать поведение депутата неподобающим (не то чтобы уголовно наказуемым)[413] показывают, в каком веке на шкале современности пребывает Россия (примерно в те же дни суд штата Мичиган, рассматривая дело физиотерапевта сборной США по гимнастике, обвиненного в домогательствах к портсменкам, назначил ему наказание в виде 175 лет тюремного заключения с правом ходатайствовать о досрочном освобождении не ранее чем через 99 лет[414]). Однако несколько большее понимание причин такого поведения российских парламентариев приходит после того, как осознаёшь, что именно они в 2017 году приняли известный закон о «декриминализации» домашних побоев, считая, видимо, что мужчинам положено самыми разнообразными методами принуждать своих жен и подруг к покорности. Характерно, что проблемы в данной сфере существовали и признавались в России давно; их отмечали еще авторы доклада Amnesty International, вышедшего в 2005 году, по мнению которых «в Российской Федерации на федеральном, региональном и местном уровнях власти предпринимается недостаточно мер для предотвращения домашнего насилия, защиты пострадавших и привлечения виновников к ответственности»[415]. В 2011 году после нескольких раундов обсуждений в рамках Совета Европы была одобрена соответствующая конвенция, но на сегодняшний день ее не подписали и не ратифицировали только две страны — Россия и Азербайджан[416]. Между тем проблема становится все более острой: в 2016 году в России потерпевшими от насилия в семье были официально признаны почти 50 тыс. женщин[417] — и это число будет расти на фоне того, что их мужья и партнеры теперь знают об относительной безнаказанности своих действий и не всегда смогут остановиться и не зайти слишком далеко (тем более что до суда доходит не более 3 % дел о домашнем насилии[418]). Трагедия М. Грачёвой, которую ревнивый муж вывез в лес и топором отрубил ей обе руки, на некоторое время завладела общественным вниманием — но деньги на создание бионических протезов были не выделены государством, а собраны как частные пожертвования, да и операция была проведена не в «идеально оснащенной медицинским оборудованием» России, а все же в Германии[419].
Конечно, можно порассуждать о том, что проблема насилия в отношении женщин существует в самых разных странах, — однако следует обратить внимание прежде всего на то, как российские суды рассматривают дела об изнасилованиях и тяжких телесных повреждениях: практически всегда в той или иной степени сторона защиты использует аргумент о виновности самой жертвы; в то же время постоянно предметом обсуждения становятся многочисленные случаи жестоких приговоров в отношении женщин, которые, «превысив пределы самообороны», убили или серьезно ранили своих несостоявшихся насильников[420]. Подобная практика правоприменения однозначно больше соответствует ближневосточной, чем европейской, — и, к сожалению, в России с каждым годом подобного рода «уклон» проявляется все более очевидно.
Наконец, учитывая патриархальные и архаичные традиции страны, а также существенное различие в материальном благосостоянии мужчин и женщин, давно перезревшей выглядит потребность в формализации отношений сожительства (pacte civil de solidarit, Eingetragene Lebensgemeinschaft), что во Франции было сделано еще в 1999 году, а в Германии — в 2001-м[421], так как в данном случае женщина получит куда бльшие возможности требовать от своего партнера «сатисфакции» в случае неадекватных действий с его стороны. Однако стоит ли удивляться, что предпринятые относительно недавно попытки предложить такого рода закон постоянно наталкиваются на противодействие властной системы и в обозримой перспективе имеют небольшие шансы на успех?[422] Не столь критически важными, но не менее показательными являются решения Конституционного суда, касающиеся получения материнского капитала и воспитания детей, явно закрепляющие пункт об «особой, связанной с материнством, роли женщины в обществе» и на данном основании по сути утверждающие признаваемое законодателем фактическое неравноправие мужчин и женщин.
Развивая гендерную тему, нельзя не остановиться и на проблемах сексуальных меньшинств, которых в России предпочитают называть «лицами нетрадиционной сексуальной ориентации», дополнительно подчеркивая тем самым их девиантное, отличное от «нормального», поведение. Формально в России не ущемлены права ЛГБТ-граждан (за исключением отсутствия юридического признания однополых союзов — которые, замечу, сегодня легализованы даже не во всех развитых странах), однако на практике дискриминация этих людей носит массовый характер, а многие политические деятели открыто говорят о том, что «Россия должна иметь возможность защищать общество от гомосексуалов»[423], чуть ли не потому, что «все они заражены ВИЧ»[424], и т. д. Печально знаменитый закон о «запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», который формально не добавил запретов в части личной жизни ЛГБТ-граждан, тем не менее очень четко сформулировал позицию государства как гомофобскую и не только легализовал de facto существовавшие ограничения (типа запретов на гей-парады), но дал понять россиянам, что власти расценивают сексуальные меньшинства как нежелательный элемент. Human Rights Watch указала на дискриминационный характер закона, так как он не ограничивает информирование граждан о любых иных проявлениях сексуальности, а его язык «настолько размыт, что под эти понятия могут быть подведены любые попытки противодействия дискриминации ЛГБТ-граждан в России»[425]. Тем самым, добавлю от себя, российское государство заняло крайне опасную позицию: открыто не вести наступление на права ЛГБТ-граждан, но в то же время и не делать вид, что оно намерено их защищать, позволив «решать возникающие вопросы» самому обществу, причем часто неправовыми методами.
В условиях отмечавшейся уже ранее радикализации, и даже фашизации, общества такая позиция однозначно обусловливала и обусловливает причисление ЛГБТ-граждан к людям второго сорта и провоцирует тех, кто считает себя идеологически или религиозно «правильными», на агрессивные действия в отношении «отщепенцев». Дискриминация представителей ЛГБТ-сообщества при приеме на работу или предоставлении услуг проявляется сегодня в России совершенно открыто[426] и не вызывает никакой реакции властей; случаи физического насилия в отношении ЛГБТ-граждан также становятся достаточно обыденными[427] — однако особую тревогу вызывает мобилизация на борьбу с ними верующих, что чревато массовыми и жестокими расправами. Серия подобных случаев, по заверению целого ряда независимых друг от друга источников, случилась в феврале 2017 года в Чечне, где местные религиозные фанатики при участии старейшин и представителей силовых структур похитили и подвергли заточению и пыткам более 100 человек, по крайней мере 27 из которых были убиты[428]. Федеральные власти, однако, так и не провели надлежащего расследования, ограничившись предположениями о том, что задержанные или исчезнувшие лица могли быть связаны с боевиками исламистского подполья — что, однако, опровергается тем, что 35 человек, о которых писали журналисты и правозащитники, в конечном итоге смогли эмигрировать в Канаду при поддержке правозащитной организации Rainbow Railroad[429]. Всё это прекрасно подчеркивает масштаб угрозы, возникающей в обществе в условиях «смычки» официального консерватизма, религиозного фанатизма и культа маскулинности и насилия.
ЛГБТ-движение, и это сегодня совершенно ясно, воспринимается в России враждебно прежде всего потому, что его требования фактически выступают требованием равенства per se — единого отношения к любому человеку безотносительно не только к его полу, но и к его ролевому статуу и сексуальным предпочтениям. Российские власти не могут преодолеть негативного отношения к гомосексуалам, поскольку привыкли рассматривать общество как не более чем размножающееся стадо, а людей — как простые инструменты производства новых рабочих рук и потенциальных новобранцев. «Перекодирование» общества и перенос основного внимания с абстрактной «массы» на отдельных конкретных людей не входит в планы этих вождей, достойных прошлых столетий.
В заключение отмечу еще одну характерную черту — возвращение во времена сословно-кастового общества, которое сегодня стремительно происходит в стране. В течение столетий на Руси существовала сословная система, устанавливавшая четкие границы между отдельными слоями общества, но при этом противопоставлявшая их все государству и государю. Продвигая «консервативную» повестку дня, привлекая для этого религию и распространяя среди людей самые примитивные представления о должном, власть восстанавливает сегодня близкую и чуть ли не родную для русского человека категорию холопства в смысле слепого и верного подчинения всех жителей государю и в этом отношении их одинаково рабского состояния. В России XXI века понятие государя формально уступило место понятию государства, однако суть от этого не изменилась: идеология консерватизма обусловливает важнейшее проявление современного российского неравенства — неравенства «государевых людей» (попов, работников «идеологического фронта», а также их родственников и т. д.) и «холопов», т. е. бывших граждан.
Это явление заметно в России повсеместно на примере уходящих от ответственности детей министров и депутатов, священников и прокуроров, следователей и спецпропагандистов. Оно отражено уже и в художественной литературе — взять, например, замечательный роман «Текст» Дм. Глуховского, показывающий всевластие нынешней силовой «элиты» над простыми людьми, не защищенными никакими нормами права[430]. В стране официально имеются целые категории лиц, которые обладают своего рода «недипломатической неприкосновенностью»: их машины не могут быть остановлены и подвергнуты досмотру, сами они не могут быть освидетельствованы на алкоголь, их допросы и задержания должны оформляться в особом порядке. Более того; даже среди привилегированных «опричников» формируются особые кланы, и представители нижестоящих вообще не принимаются за людей теми, кто более отмечен благосклонностью властной вертикали. Когда видишь кадры, на которых сбивший дорожного полицейского на Новом Арбате офицер ФСБ спокойно скручивает номера своего автомобиля и увозится сослуживцами[431], кажется, что страна живет не по Конституции 1993 года, ст. 19 которой гарантирует «равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от… имущественного и должностного положения, а также других обстоятельств», а по «Русской правде» XI века, ст. 84 «пространного» изложения которой начинается с простых и понятых слов: «А в холопе и в робе виры нетуть»[432] (т. е. штрафа за их непреднамеренное убийство не предполагается). Усовершествованием этой старой русской «конституции» в наше время стало, правда, то, что нахождение в состоянии холопства не определяется изначально, а атрибутируется в зависимости от специфики ситуации. В России на определенном — и не очень высоком по мировым меркам уровне — богатство и положение во властной иерархии полностью меняют если не формальный правовой статус человека, то его способность выводить самого себя и своих близких из-под действия практически любых норм и законов. Если посмотреть на самые резонансные дела последнего времени, окажется, что менталитет чиновников и судей «заточен» исключительно под стандарты русских кодексов тысячелетней давности. Сбили в Балашихе мальчика — и нужно сделать всё возможное, сфальсифицировать любые экспертизы, переписать все протоколы только для того, чтобы родители не могли потребовать крупных компенсаций[433]. Оно и понятно — смерды и ребенок их смердом родился, смердом и умер. Вся система почти автоматически приходит в движение, защищаясь от претензий тех, кто, по ее понятиям, ну никак не может быть равен самопровозглашенной «знати».
Это «феодальное» и чуть ли не «доисторическое» неравенство, все более заметное в российском обществе, является идеальным подтверждением его несовременности. Оно — одна из тех «традиционных морально-нравственных ценностей», которые считаются уже чуть ли не залогом национальной безопасности страны и которым нас призывают поклоняться. Однако такая «традиция» несовместима с современностью, и она в конечном итоге приведет к масштабному исходу из страны всех тех, кто не хочет жить в реалиях домонгольской эпохи на далекой окраине Киевской Руси. Традиционные формы управления могли применяться в условиях столь же традиционной мобильности, когда перемещение в пространстве на десяток верст считалось чуть ли не всамделишным путешествием. Сегодня все мы живем в другом мире, где ценности безопасности и элементарные нормы закона — которые по сути своей не могут быть избирательными — важнее любых исторических реминисценций. И именно «доисторическое» неравенство в самых разных его формах и проявлениях, столь культивируемое сейчас на Руси, вполне может стать тем фактором, который запустит саморазрушение нынешнего российского режима.
Это далеко не все проблемы, с которыми сталкивается в наши дни российское общество, — однако и сказанного достаточно, чтобы понять, в какой мере оно не хочет быть современным. Государство выстраивает свою политику таким образом, чтобы граждане воспринимались как своего рода балласт, который необходимо чему-то учить, хоть как-то лечить и еще содержать в старости: даже мысль о том, что люди способны сами накопить свои пенсии (как это и происходит во всем мире), если не ограничивать их право на распоряжение собственными деньгами, не приходит элите на ум; правительство не способно организовать качественное здравоохранение на коммерческой основе и разрешить в этой сфере благотворительность и частную врачебную практику; образование воспринимается не более чем элемент идеологической индоктринации. При этом все последние годы даже те минимальные гарантии, которые существовали у граждан (от низкого пенсионного возраста и социальных льгот до частично «бесплатного» здравоохранения), ликвидируются либо законодательно (в случае повышения возраста выхода на пенсию или «заморозки» ее накопительной части), либо «по факту» (в случае «укрупнения» клиник и закрытия сельских медпунктов). Научная деятельность во многом превращается в откровенный фейк; вера заменяет знание и экспертизу, а профессиональный рост оказывается полностью зависимым от кумовства и лояльности.
На мой взгляд, именно во всех этих тенденциях наиболее выпукло проявляется архаичность российского общества — архаичность, которая из него никогда не уходила, но которая в коммунистический период была прочно затушевана насаждавшимися в стране элементами «прогрессизма». Сегодня любой прогресс и любые изменения означают риск разрушения той «стабильности», которая стала любимым детищем нынешней российской власти, — и потому в социальной сфере ренессанс устаревших форм организации и мышления настолько заметен. Хотя большинство россиян пользуются сегодня теми же мобильными телефонами, компьютерами и планшетами, что и жители развитых стран, их социальные паттерны и стереотипы поведения разделяет все большая пропасть. «Особый» путь, который якобы выбрала для себя Россия, уводит ее от современности.
Однако предпринимать такой бунт против истории в одиночку было бы для богоспасаемого народа слишком примитивно — и поэтому стоит обратиться к более широкому «территориальному» обрамлению российского «рассовременивания».
Глава шестая
Нищета «русского мира»
Идеологический провинциализм и интеллектуальная деградация, которые являются практически «визитной карточкой» России XXI века и о которых мы говорили в прошлой главе, находят свое политическое воплощение в одной из самых популярных концепций последнего времени — так называемой теории «русского мира». Сам этот термин в его современном (т. е. политико-идеологическом) значении возник в 1870-е годы и связан с именем генерала М. Черняева, первого губернатора Туркестана, в перерывах своей военной карьеры издававшего под таким названием популярную славянофильскую газету[434]. С того самого момента и до наших дней данный концепт прочно занял свое место в арсенале реакционеров, стремившихся максимально отдалить Россию от европейского пути, но при этом никогда не преуспевавших в обеспечении ее устойчивого развития.
Интернационализм, панславизм, «русский мир»
На протяжении последних трех веков российской истории в ней постоянно боролись две тенденции: с одной стороны, стремление к открытости и «интернационализации»; с другой — желание замкнуться в собственной особости. Первый тренд проявлялся с самых разных вариантах: можно вспомнить как Петра I и его политику «европеизации» России, результатом чего стало перенятие значительного количества европейских практик и технологий, так и коммунистический период, в течение которого Советский Союз сам претендовал на роль «идеологического центра» мира, предлагающего свои социальные практики другим странам и народам. Какими бы разными ни были эти подходы, они ставили экономические или идеологические соображения выше культурно-исторических, а их сторонники настаивали на том, что Россия должна быть частью общемировых процессов не по причине своих предопределенных черт, а вследствие осмысления элитами (другой вопрос, насколько адекватного) ее экономических, политических и экономических интересов. Стоит заметить, что история однозначно свидетельствует о том, что в периоды такой «интернационализации» Россия достигала своих самых значительных успехов — от превращения в одну из важнейших держав Европы в эпоху Петра I и Екатерины II до обретения статуса глобальной сверхдержавы и мирового лидера в ряде областей в период максимального могущества СССР. Второй тренд апеллировал к специфике российских истории и общества, уникальным особенностям православия, призывая не столько к традиционному национальному строительству, какое происходило в Европе повсеместно в XVII–XIX столетиях, сколько к своеобразной этнокультурной солидарности и противопоставлению страны остальному миру. Последнее было призвано преувеличить успехи и значимость России — как через создание альянсов с «исторически» близкими, но при этом более слабыми и готовыми подчиняться союзниками (что, по сути, проповедовал панславизм[435]), так и через отгораживание от внешнего мира и консервирование уникальной ментальной и социальной среды, утверждение превосходства которой достигалось через простой отказ от сравнений с альтернативными вариантами развития.
Между тем до последнего времени идея «русского мира» не была достаточно «кристаллизована» — прежде всего, на мой взгляд, потому что она не соответствовала ни самовосприятию нации, ни политическим потребностям власти.
С одной стороны, на протяжении большей части того периода, в который вообще имело место сколь-либо концептуальное осмысление места и значения русского народа в истории, ни о каком «мире», за исключением определенного границами страны, не приходилось и говорить. С того времени, как Москвой были покорены Новгород и Псков, случился упадок Литовского княжества, обеспечен контроль над большей частью современной Украины, русский народ (включая все его тогдашние вариации) сконцентрировался в пределах единого и мощного российского государства. Призывать к консолидации «русского мира» было бессмысленно — за пределами страны его не существовало. В этих условиях идеи панславизма выглядели намного адекватнее: они предполагали определенную открытость, призывая к объединению исторически близких народов (но при этом не к их русификации); выступали элементом проведения напористой внешней политики; устанавливали определенные рубежи влияния в отдалении от российских границ. Как распространение славянофильства и панславизма во второй половине XIX века, так и быстрый их упадок после образования независимых славянских государств[436] указывали прежде всего на явную невостребованность «русской» идеи как таковой даже в то время, когда Россия несомненно считалась «протектором» всего славянского сообщества.
С другой стороны, обращение к «русскости» так или иначе предполагало проповедь национализма — а подъем национализма продуктивен (и то далеко не всегда) только в том государстве, где подавляющее большинство населения с готовностью воспринимает себя титульной нацией (как это было во Франции, Германии или Италии). Между тем Россия, и я уже говорил об этом, была уникальной империей, в которой на единой территории жили десятки, если не сотни народов. Педалирование здесь «русского вопроса» могло стать фатальным для государства, и это понимали все его правители: в эпоху Российской империи податным населением выступали практически исключительно русские, жители метрополии[437]; в советские времена национальная политика велась таким образом, что русские, несмотря на то, что имели самую крупную советскую республику, не обладали национальной компартией, хотя значение партийного руководства, несомненно, превышало роль советского (и если даже не были, как утверждают сегодня некоторые авторы, чуть ли не наиболее угнетенным народом[438], по крайней мере представляли республику, выступавшую основным финансовым донором всего Советского Союза[439]). Примечательно, что распад СССР был предопределен не столько подъемом грузинского или украинского национализма, сколько ростом самосознания русских и появлением российских органов власти — от Компартии РСФСР до президента России[440]. Поэтому до поры до времени идея «русского мира» выглядела не только не слишком актуальной, но и весьма опасной.
Следует также отметить, что предпосылки для возникновения этой идеи в ее современном виде сформировались на протяжении самого трагичного для России и русских столетия — ХХ века. Даже в годы расцвета панславистских движений в России за рубежами страны жили всего несколько тысяч россиян — как правило, представителей высших слоев общества, художников, писателей, иногда политических противников режима (и селились они почему-то не в слишком славянских странах). Старт широкой эмиграции — и не столько собственно русских, сколько представителей этнических меньшинств, пришелся на период «первой глобализации» рубежа XIX и XX столетий, причем процесс ускорился после начала организованных черносотенцами еврейских погромов. К началу Первой мировой войны количество выходцев из Российской империи в Европе и Северной Америке приближалось уже к 2 млн[441]. Однако по-настоящему «революционным» стал опыт 1918–1923 годов, когда в ходе и после завершения Гражданской войны из России бежало от 920 тыс. до 5,5 млн человек (средние оценки составляют 2–3 млн человек)[442]; масштабы русского присутствия в крупных городах от Харбина до Шанхая, от Стамбула до Праги, и от Берлина до Парижа не имели аналогов ни в прошлом, ни в настоящем (В. Тишков называет именно этот исход событием, породившим «русский мир»[443]). Еще не менее 700 тыс. русских оказались в Европе по итогам Второй мировой войны[444]; 1,14 млн «русскоязычных» выехали из СССР в 1950–1980-е годы[445]. И, наконец, на протяжении последних 30 лет «русский мир» расширился самым радикальным образом: с одной стороны, за счет более чем 16 млн русских (а также украинцев и белорусов), оказавшихся за пределами своих трех национальных государств после распада Советского Союза, и, с другой — вследствие добровольной эмиграции не менее 3 млн человек из России, Украины и Беларуси в «дальнее зарубежье» на протяжении 1990-х и 2000-х годов[446]. Собственно, итогом трех волн исхода и одной дезинтеграции стало образование гигантского сообщества, численность которого за пределами России достигает 37 млн человек, а с учетом всего населения самой Российской Федерации (так обычно считают эксперты, забывая, что не все граждане России могут считать себя «русскими») — приблизительно 180 млн.
Люди, составляющие это сообщество, — от живущих во Франции потомков старой имперской аристократии до плохо говорящих по-русски тувинцев и якутов, от поселившихся в Аргентине и Канаде старообрядцев до нигилистической «золотой молодежи», обучающейся в престижных американских и британских университетах, — представляют собой тот «русский мир», который в нынешней России стал одним из самых обсуждаемых социологических и геополитических концептов.
Однако эта столь популярная доктрина имеет множество серьезных изъянов — как терминологических и смысловых, так и сугубо (гео)политических. Начнем с самого простого.
Русский мир определяется сегодня сторонниками этой концепции по-разному, но практически в каждом определении содержатся указания на несколько элементов. Прежде всего говорится о факторе этничности (иногда говорят о «русском суперэтносе» и о советском народе как форме его существования[447], иногда к «русскому миру» причисляют всех представителей восточнославянских народов), но сама такая отсылка к славянскому происхождению присутствует в большинстве определений. Вторым важнейшим моментом называется русский язык: утверждается, например, что «русский мир — это сетевая структура больших и малых сообществ, думающих и говорящих на русском языке»[448]. Третьим обстоятельством называется общая история, воплотившаяся в том числе в устоявшихся нормах, ценностях и стереотипах поведения, причем именно последние, вместе с православной верой, часто считаются определяющим моментом: «к [русскому] миру могут принадлежать люди, которые вообще не относятся к славянскому миру, но которые восприняли культурную и духовную составляющую этого мира как свою собственную»[449]. Наконец, довольно часто, используя цивилизационный подход, философы и политологи говорят о том, что «русский мир» — это некая геополитическая реальность, которая претерпела серьезные потрясения и стремится вернуться в свои естественные границы[450]. Порой утверждается, что «русский мир» сплочен «не только нашим общим культурным кодом, но и исключительно мощным генетическим кодом», который «почти наверняка является одним из главных наших конкурентных преимуществ в сегодняшнем мире»[451]. Однако, какие бы определения ни давались, имплицитно вся концепция «русского мира», как дополняющая само понятие России, основывается на подчеркивании феномена диаспоры — как оставшейся за пределами российских границ после распада Советского Союза, так и образовавшейся вследствие постепенной миграции в направлении «дальнего зарубежья». Как отмечает В. Тишков, русский мир — это трансгосударственное и трансконтинентальное сообщество, «феномен глобального масштаба», а подобными мирами «обладают, наряду с Россией, только Испания, Франция, и Китай, Ирландия вместе с Великобританией»[452].
Здесь мы остановимся, чтобы задать самим себе несколько вопросов. Прежде всего все, что касается мифических генетических кодов и суперэтносов, в современном мире давно уже погребено под массой социальных и политических структур, не признавать которые невозможно. Как отмечал недавно А. Лукашенко, хотя «много в последнее время говорится об идее некоего “русского мира” — я так понимаю, это не про нас. Мы высоко ценим великую русскую культуру и не отделяем ее от нашей, мы — часть этой культуры. Но это не значит, что мы россияне. Мы — белорусы»[453]. Попытки не признавать политические водоразделы чреваты чередой опасных конфликтов, которые заблокируют любые попытки «возвращения в естественные границы». Ценности и стереотипы поведения, а также религиозные особенности также во все большей степени подчиняются сегодня нормам и законам гражданских наций и не являются (за исключением редких и обычно осуждаемых случаев) основным фактором, определяющим действия людей. Наконец, следует сравнить «русский мир» с остальными «мирами», чтобы понять масштабы различий предстающих перед нами феноменов. Испанский и португальский «миры» родились в совершенно уникальных условиях, когда сами испанцы и португальцы начали борьбу против своих монархий и в результате создали государства, в которых они самоопределились как венесуэльцы и аргентинцы, чилийцы и бразильцы, но не часть указанных «миров» (то же самое случилось и при возникновении Соединенных Штатов). Русские, замечу, не создали под своим контролем ни одного государства, кроме России. В случае с британским, французским и испанским «мирами» деколонизация привела к выходу заморских владений из-под контроля метрополий в ходе борьбы местных комбатантов — однако в мире остались 54, 27 и 20 суверенных государств, которые считают государственным соответственно английский, французский и испанский языки. Стоит ли напоминать, что на просторах бывшего СССР только одна страна (Белоруссия) не отказала русскому языку в равном со своим собственным статусе и еще одна (Казахстан) пока признает его официальным наряду с государственным казахским? При этом ни одна из бывших метрополий не рассматривает свои воображаемые «миры» как прообраз будущих политических объединений («естественных границ»): все четыре великие метрополии (Испания, Великобритания, Франция и Португалия) интегрировались друг с другом и ни одна — со своими бывшими колониями. Поэтому я бы сказал, что «русский мир» — уникальная концепция, не имеющая аналогов в современных условиях.
Если «русский мир» претендует не только на пропагандистский эффект, эта концепция должна стать намного более определенной: нужно понять, какие черты являются определяющими для отнесения к «русскому миру» (этничность [право крови], место рождения [право почвы], знание языка, принадлежность к православной общине и т. д.) и что подобное отнесение дает тому или иному принадлежащему «русскому миру» человеку. Соответственно Россия, как «ядро русского мира», должна как можно более определенно сформулировать свою роль и свои возможности: готова ли она принять относящих себя к этому миру в свое гражданство; намерена ли она в случае возникновения кризисных ситуаций защищать только своих граждан (что сделали бы большинство государств) или всех этнических русских? Намерена ли она брать под свою защиту и покровительство также русскоязычных — или даже православных? Все эти вопросы выглядят вовсе не надуманными, так как сегодня в мире действуют довольно строгие нормы, определяющие порядок вмешательства в дела других стран, и их расширительная трактовка чревата серьезными последствиями.
Кроме того, следует заметить, что концепция «русского мира» формирует условия для существенного регресса в политическом облике самой России: сейчас страна по сути приблизилась в своем развитии к этапу становления современной гражданской нации, основанной на политическом участии. Существенно расширяя круг относящихся к «русскому миру» — а это значит, что имплицитно — и к России, мы тем самым создаем основу для возвращения в политический дискурс идеи «высших смыслов и ценностей», которые оказываются более значимыми, чем права и обязанности, вытекающие из гражданства. По сути, возникает механизм возвращения архаичных форм в структуру политического участия, что существенно повлияет на формирование в стране демократических институтов и правового государства. Кроме того, нужно постоянно иметь в виду, что никакая формула, основанная на откровенно выгораживаемом принципе этничности/национальности, не является инклюзивной — а это значит, что наряду с гипотетической консолидацией русских, проживающих за границей, она породит весьма вероятное разобщение россиян, находящихся в стране. Даже идея «советскости» в любом ее исполнении была в этом отношении гораздо более безопасной, чем концепт «русского мира».
Самым важным моментом, однако, является все же нечто иное. Как я уже говорил, Россия в последние десятилетия проделала большой путь от открытости к замкнутости, от универсальности к партикуляризму. Собственно, идея «русского мира» показывает это наиболее рельефно. Одно дело — собирать единомышленников под знаменем коммунистического интернационала. Другое — взывать к братьям-славянам и посылать армии на помощь братским народам, восставшим против османского владычества, надеясь при этом на создание славянской федерации. И третье — продвигать идею русскости, которая способна резонировать только в соотечественниках. Каждая из отмеченных концепций влияет на сужающиеся сообщества людей и обладает все меньшим универсализмом. Иначе говоря, идея «русского мира» — самая партикуляристская из всех, какие Россия выдвигала на первый план за последние 300 лет, и поэтому совершенно наивно рассчитывать на то, что именно она станет тем рычагом, с помощью которого страна изменит в свою пользу глобальные политические расклады. Можно говорить о том, что «почти каждый двадцатый житель планеты обладает духовными или ментальными признаками русскости и неравнодушен к судьбе и месту России в мире»[454], но это не отрицает того, что девятнадцать из двадцати обитателей Земли не имеют ко всему этому никакого отношения, и потому на сколь-либо глобальную отдачу от подобного проекта рассчитывать не приходится.
Идея «русского мира» ориентирована поэтому не на «наступательную», а на сугубо «оборонительную» политическую стратегию. Уверенные в собственных силах страны апеллируют к темам и ценностям, которые находят (или могут найти) отклик у значительной части человечества и таким образом расширяют сферу их влияния. Россия, которая в 1990-е годы испугалась по-настоящему интегрироваться в западный мир, сегодня ищет не обязательно конфронтации с ним, но практически наверняка защиты от его влияния — и идея «русского мира» ориентирована именно на это. Главный сигнал, который Москва подает в последние годы, состоит в заявлениях о якобы существующей «зоне исключительных интересов» России, границы которой Запад не должен переходить. Этот мотив звучал и в знаменитом выступлении В. Путина в Мюнхене в 2007 году, и во многих других заявлениях высших российских руководителей. Аннексия Крыма в 2014 году также встроена именно в эту линию: Москва апеллирует к тому, что Запад (или даже Турция) якобы были намерены захватить «сугубо русские» территории[455], обладающие к тому же некими элементами «святости» в «исторической памяти» народа[456]. Само поведение России может при этом казаться агрессивным, однако эта агрессивность в глобальном масштабе представляет собой не более чем некий micromilitarisme thtral[457], который указывает вовсе не на далеко идущие устремления и возможности страны, а на явную истощенность ее сил и неспособность предложить по-настоящему универсальную доктрину. Несмотря на глобальную риторику «русскости», Кремль de facto с ее помощью обосновывает и защищает статус России как региональной державы с присущей всем таким «локальным» державам скорее культурно-этнической, нежели ценностно-идеологической идентичностью.
Особое внимание привлекает, если так можно сказать, несвоевременность идеи, обусловленная двумя обстоятельствами.
С одной стороны, все те «миры», которые были созданы другими ведущими державами и о которых много говорят российские эксперты, сформировались в периоды масштабного избытка населения, отмечавшегося в метрополиях[458]. И Латинская, и Северная Америка, и Австралия, и Южная Африка — все это были так называемые Western offshoots, где выходцы из Европы быстро составили большинство населения, что, собственно, и сделало их «испанским» или «британским» мирами. В российском случае широкий «исход» собственных граждан ради расширения «русского мира» крайне опасен, да и практически невозможен, учитывая демографическое состояние России и ее стран-соседей. Государства, которые представляют собой на продолжительном историческом отрезке демографически и экономически «скукоживающиеся» объекты (а последние полвека Россия однозначно принадлежит к этой категории), не могут себе позволить применять стратегии, опробованные когда-то странами, находившимися в совершенно иных условиях (и к тому же серьезно пострадавшими от увлечения подобным «рассеиванием» собственного народа — тут достаточно вспомнить пример так и не оправившейся от колониальных предприятий Испании). Поэтому, если Россия сделает четкий акцент на следование европейским принципам экспансии трехсотлетней давности, она достаточно быстро приведет себя к коллапсу.
С другой стороны, следует иметь в виду, что образование всех европейских «миров» происходило в условиях реализации той миссии, которая самим европейцам однозначно казалась цивилизаторской. Расширяя зоны своего влияния, европейские поселенцы-колонизаторы перестраивали окружающую их среду под собственные стандарты — и, собственно, именно это создало элементы европейской цивилизации на глобальной периферии. «Русский мир» формировался и формируется людьми, которые приходят в новые общества не как носители новой доминантной нормы, а по сути как просители, понимающие, что именно от приспособления к стандартам жизни и поведения в принимающей стране зависит их выживание; это было справедливо для любой волны русской эмиграции — от исхода белогвардейцев, спасавших собственные жизни, до переезда нынешних состоятельных русских, стремящихся воспользоваться юридической и финансовой системой западных стран для сохранения накопленных в России состояний. Именно поэтому русские менее любых других иммигрантов создают в новых странах прочные этнические сообщества, не говоря о том, чтобы сформировать там нечто похожее на прежние европейские «миры». Регионы, в которых исконно русские нормы и ценности могли претендовать на ведущие позиции исчерпались — увы и ах — еще в конце XIX века, и это нельзя упускать из виду.
Наконец, нельзя пройти мимо еще одного важного обстоятельства. Теория «русского мира» появилась в российском «идеологическом» инструментарии, пожалуй, в самый неудачный для этого момент. Если с конца 1980-х и до середины 2000-х годов — в период, когда мир свято верил в преимущества глобализации и в идеи «конца истории», — доминирующим трендом были рассуждения о мультикультурализме и о равенстве всех культур, этносов и традиций, то в последние 10 лет в мировом масштабе стал заметен сдвиг в сторону национализма и исключительности. Характерно, что пионерами в этом отношении стали именно посткоммунистические страны, которые, с одной стороны, видели в национализме инструмент борьбы с коммунистической идеологией и, с другой, — утверждали через него новые идентичности получивших независимость государств от Казахстана до Хорватии, от Эстонии до Азербайджана. «Русский мир» на этом фоне выступает откровенно враждебной доктриной для элит большинства постсоветских стран, которые (особенно после Крыма) видят в нем угрозу суверенитету своих государств и потому пытаются конструировать новые черты идентичности[459], и чуждой концепцией для большинства развитых стран, которые не в восторге от идеологий, обосновывающих исключительность представителей диаспор и попытки управления ими из их «этнических столиц», будь то Москва, Анкара или Пекин[460]. Соответственно, сложно предположить, что за пределами российских границ новая кремлевская ide fixe полчит какую-либо поддержку, а сами русские и русскоязычные жители смогут извлечь из своей национальной консолидации и из укрепления связей с «титульным» государством ощутимые выгоды.
Сказанное означает, что даже в чисто теоретическом и концептуальном смыслах проект «русского мира» представляет собой не более чем измышление, ставшее продуктом «скрещивания» неудовлетворенности политиков сложившейся после распада Советского Союза ситуацией и деградации интеллектуального класса, неспособного ни предложить более универсалистские теории, ни аргументировать необходимость принятия страной одной из уже существующих. Использование его в качестве средства обоснования практической политики уже привело к серьезным негативным последствиям, и может привести к еще более плачевным результатам — особенно если учитывать не только искусственность самого подхода, но и совершенно разную природу тех компонентов, из которых пресловутый «русский мир» состоит в его сегодняшнем виде.
Два «русских мира»
«Русский мир», как к нему ни относись, выступает одним из самых заметных примеров отклонения России от любых норм существования современных национальных государств. И дело даже не в масштабах русской диаспоры за рубежом (как абсолютных, так и относительных), а прежде всего в том, что эта диаспора имеет уникальную двойственную природу.
С одной стороны, существует «обычная» русская (точнее — русскоязычная) диаспора, которая сформировалась в результате нескольких волн исхода на протяжении всего ХХ века. Как и в большинстве других случаев миграции европейцев (например, в США, Аргентину, Канаду или Бразилию), русские, прибывая в новые для себя общества, стремились в них встроиться и ассимилироваться. Сегодня в тех же США российские эмигранты второго поколения (приехавшие в раннем возрасте или родившиеся в Америке) связывают себя узами брака с другими российскими эмигрантами или их потомками реже, чем с местными жителями. Более 90 % через пять лет после приезда свободно говорят на английском языке (среди китайцев — менее 60 %, среди латиноамериканцев — до 70 %). При этом эмигранты из бывшего СССР имеют в среднем 14,1 года образования против 12,6 в среднем по США, активнее занимаются предпринимательством и зарабатывают на 39 % больше среднестатистического американца[461]. Приезжие из России, как правило, сильно экономически и карьерно мотивированы и в огромном своем большинстве (несмотря на сформированные о «русских» мифы) совершенно законопослушны.
Сегодня эта «ветвь» «русского мира» представлена людьми, не отрицающими своей связи с русской культурной традицией, но при этом не выпячивающими своей этнокультурной идентичности и достигающими значительных карьерных и материальных успехов собственными усилиями. Среди русской эмиграции, разумеется, встречаются и представители «новых русских», которые не столь озабочены проблемой «встраивания» в новые общества, однако и они (если не сказать — в первую очередь) принимают законы и нормы страны пребывания; по крайней мере не известно ничего подобного выступлениям арабов или турок, в которых принимали бы участие выходцы из России или стран бывшего Советского Союза. Это «условно русское» население составляет сейчас от 3,5 до 9 % жителей крупнейших мегаполисов стран европейской культурной традиции — Лондона, Берлина, Парижа, Нью-Йорка[462]. По различным данным, в странах ЕС сегодня живут около 3,5 млн выходцев из СССР и России, уже принявших гражданство одного из европейских государств, и до 4 млн человек, имеющих виды на жительство и/или рабочие визы; более 500 тыс. россиян владеют в ЕС и Турции недвижимым имуществом[463].
Среди этих людей — более 10 тыс. ученых и профессоров, работающих в университетах и научных центрах США и Европы: многим хорошо известны имена нобелевских науреатов А. Гейма, К. Новосёлова и А. Абрикосова, талантливых ученых В. Вапника и М. Концевича, Е. Кунина и А. Линде. В России популярна шутка о том, что американский университет — это место, где русские профессора учат китайских студентов, и, как говорится, «в любой шутке есть доля шутки». В Америке и Европе работали и работают выдающиеся представители российской культуры: музыканты и исполнители М. Ростропович и Г. Вишневская, В. Гергиев и Д. Мацуев, М. Барышников и А. Нетребко, художники И. Кабаков и Д. Врубель, спортсмены А. Овечкин и П. Буре, М. Шарапова и Г. Каспаров. Какой бы прочной ни была их приверженность русскому «культурному коду», по своей ментальности, мотивации и способности к рациональному выбору все они — типичные представители евроцентричной цивилизации. Они успешны, обеспечены, как правило, ничего не ждут от России и делают акцент на профессиональную, а не национальную идентичность.
Все это помогает представителям «русского мира» становиться процветающими предпринимателями (чего стоят примеры С. Брина, И. Олейникова, В. Гапонцева и десятков других) или развивать бизнес-проекты, которые были начаты ими еще в России (как делают это П. Дуров и многие его коллеги). По некоторым подсчетам, «русские» (точнее — выходцы из стран постсоветского пространства) контролируют и управляют в Америке и Европе активами, рыночная стоимость которых превышает $1,5 трлн[464]. Таким образом, без преувеличения можно сказать, что «русский мир» практически с нуля создал вовне России экономику и интеллектуальное сообщество, соизмеримые с самой Россией: технологическое и промышленное производство подконтрольных ему компаний в несколько раз превышает несырьевой сектор российской экономики, а доля живущих за границей «представителей русской культуры» в индексах научных цитирований и числе нобелевских лауреатов заметно выше, чем у граждан России, пока еще работающих в их собственной стране. Конечно, можно говорить, что наше государство вложило в образование и становление этих людей огромные средства, а подчас позволило им заработать миллиарды долларов, но факт остается фактом: воспользоваться их возможностями и талантами Россия не смогла.
Важнейшим же моментом, на который хочется обратить внимание, является, однако, не успешность сформировавшегося в «дальнем зарубежье» «русского мира», а нечто совершенно иное. В отличие от большинства существующих в мире диаспор, эта часть живущих за рубежом русских испытывает к России достаточно специфическое отношение. Обычно людей толкают на эмиграцию нужда, экономические проблемы, бесперспективность хозяйственной ситуации в собственной стране. Из 258 млн человек, относимых по методологии ООН к международным мигрантам, около 90 % перебрались за границу по сугубо экономическим соображениям и немногим более 10 % можно отнести к беженцам и соискателям убежища[465]. Я не могу привести точных цифр, но в случае с Россией этот показатель в разы меньше. Первые большие волны эмиграции были практически полностью обусловлены заботой людей об их физическом выживании, волна 1960–1980-х была во многом вызвана очевидной дискриминацией; сегодня все большая часть уезжающих на постоянное место жительства движима неприятием формирующегося в стране политического режима (последнее с легкостью подтверждается самым простым примером: голосованием постоянно живущих или временно находящихся за границей российских граждан на парламентских и президентских выборах, которое демонстрирует их устойчивую приверженность не тем партиям и политикам, которые по итогу объявляются победителями[466]). Российская диаспора намного более отчуждена от России, чем практически любая иная в мире, — и это можно подтвердить показателями банального экономического участия в процессах, происходящих в собственной стране. Сегодня в странах «дальнего зарубежья» живет не менее 3,5 млн россиян — почти столько же, сколько вьетнамцев вне Вьетнама и в 2,5 раза меньше, чем мексиканцев за пределами Мексики[467]; при этом ежегодно в Россию поступает денежных переводов только на $7,2 млрд, в то время как во Вьетнам — на $13,8 млрд, а в Мексику — на $30,5 млрд[468]. Эмигранты из России могут «думать и говорить на русском языке» и «воспринимать культурную и духовную составляющую русского мира как свою собственную», но они существенно расходятся с большей частью населения России по своим политическим предпочтениям и совершенно не жаждут принимать участие в экономической жизни бывшей родины.
Иначе говоря, российская диаспора, на протяжении столетия сформировавшаяся в западных обществах, является практически идеальным примером того, как должен действовать «плавильный котел»: она лояльна к новым странам пребывания, весьма конкурентна и успешна; обеспечивает принявшим ее государствам дополнительные источники экономического процветания. Поэтому сегодня практически во всех крупных западных странах в той или иной форме присутствуют агенты политического влияния Кремля (и волнения как американцев, так и европейцев по поводу их возможного вмешательства в политические процессы вполне обоснованы), однако нигде нет ничего подобного цивилизованному лобби, какое, например, в США имеется у еврейского сообщества или у армянской и китайской диаспор. Это может казаться парадоксальным, но в последние десятилетия большая часть инициатив по защите прав русскоязычного населения в «дальнем зарубежье» или развитию его культурной самобытности исходят в основном из Москвы, а не рождаются «снизу» внутри самих зарубежных русскоязычных сообществ[469].
Мне кажется, что причина такого положения дел достаточно понятна: в течение всего того времени, пока развивалась российская эмиграция в собственном смысле этого слова, выходцы из Российской империи, Советского Союза и даже Российской Федерации не воспринимали этот процесс как создание своего рода «мостика» между исконной и новой родиной; эмиграция считалась процессом необратимым, а в самой России воспринималась если не как предательство, то как выбор, который делается раз и навсегда. Именно поэтому те, кто действительно эмигрировал и эмигрирует из России (а не создает в более удобных для жизни странах «запасной аэродром» или приобретает жилье для каникул), делают это без оглядки и если и остаются частью «русского мира», то такого, у которого с самой Россией выстраиваются довольно-таки непростые отношения.
С другой стороны, существует иная часть «русского мира», ставшая таковой по большей части против собственной воли. Разумеется, я имею в виду тех русских и русскоязычных граждан, которые в советскую (об имперской речь уже не идет) эпоху самостоятельно или в рамках разного рода государственных программ переселились в бывшие союзные республики, которые в начале 1990-х годов провозгласили себя независимыми государствами. Если ориентироваться на цифры переписи 1989 года, то к моменту распада СССР в союзных республиках этнических русских, украинцев, белорусов и евреев (не считая белорусов на Украине и украинцев в Белоруссии) было не менее 28,7 млн человек (если считать только русских — то 25,2 млн)[470]. Крах советского государства создал уникальную ситуацию: по крайней мере в 13 независимых государствах один и тот же народ — представлявший доминирующий этнос бывшей империи, а ныне соседней страны — выступал наиболее значительным национальным меньшинством, численность которого составляла от 1,5 до 33,9 % населения (для сравнения стоит сказать, что, например, доля этнических турок в населении Германии не превышает сейчас 1,9 %, а доля этнических алжирцев во Франции — 3,7 %[471]; при этом только в четырех странах Европейского союза самое крупное этническое меньшинство представляет то же государство, что и в соседней[472]). Более того; русское меньшинство, которое образовалось во многих постсоветских странах, не было ни тем меньшинством, которое добровольно прибыло в эти страны, заведомо воспринимая их как независимые образования (как происходило, например, с российской эмиграцией в США), ни тем меньшинством, которое приложило руку к созданию этих государств (как было в ходе процесса утраты европейцами их колоний в Америке в XVIII–XIX веках). Более того, как в самой России, так и в постсоветских странах на момент краха СССР не существовало устоявшихся гражданских наций, и поэтому националистический элемент не мог не присутствовать как часть стратегии государственного строительства. В итоге русские достаточно естественно стали восприниматься в новых государствах как некий враждебный элемент (аналогом могут выступать немцы, которым пришлось два десятилетия жить на территориях, потерянных Германией по итогам Первой мировой войны).
В отличие от европейских держав, которые в 1940–1960-е годы обеспечили практически полную эвакуацию собственных граждан из своих заморских владений (следует признать, что их было там не слишком много: в Великобританию с 1946 по 1975 год вернулись менее 90 тыс. человек, в Голландию — 30 тыс., в Португалию — около 12 тыс.[473]; только Франции пришлось принять сначала 40 тыс. французов из Индокитая, а потом — 800 тыс. из Алжира, где доля французского населения была сопоставима с долей русского в некоторых бывших республиках, составляя до 8 % его общей численности[474]), Россия не сделала для своих недавних граждан практически ничего. Единственная возможность была открыта упрощенным вариантом получения гражданства в случае временного проживания на территории России на момент распада СССР. Власти новых независимых государств где-то (как в Балтии) не стремились предоставлять свое гражданство всем желающим, а где-то (как в Средней Азии) не жаловали тех, кто принимал российское подданство, но собирался продолжать жить в стране. В результате русские, украинцы и белорусы начали масштабный исход из постсоветских стран — хотя те же государства Балтии оказались здесь исключением: в Латвии, например, доля русского населения сократилась с 1989 по 2016 год с 33,9 до 25,4 %, тогда как в Казахстане — с 37,8 до 20,8 %, а в Киргизии — с 21,5 до 5,9 %[475]. Всего за последнюю четверть века из бывших республик СССР в Россию убыло до 11 млн человек, и в результате сегодня «русский мир» на постсоветском пространстве количественно уступает «русскому миру», сформировавшемуся в «дальнем зарубежье».
Однако в куда большей степени первый уступает второму качественно. Большая часть активного русскоязычного населения, стремившегося воссоединиться с Россией, покинуло постсоветские республики довольно быстро еще в 1990-е годы; затем, уже в 2000-е, в Россию стала уезжать молодежь, за которой, как только она закрепится в российских регионах, потянутся и ее родители, которые к этому времени достигнут пенсионного возраста. Значительная часть граждан новых государств, идентифицировавших себя как русских по состоянию на начало 2014 года, — почти 7,5 млн из 10–12 млн человек[476] — проживала в северных областях Казахстана, восточных областях Украины, и в Крыму, и в Белоруссии, т. е. на территориях, где русское присутствие было очень значительным и поэтому люди могли не чувствовать себя в явном меньшинстве. При этом стереотипы поведения населения «русского мира» в «ближнем зарубежье» существенно, если не диаметрально, отличаются от тех жизненных принципов, которые освоены нашими соотечественниками в «дальнем».
Прежде всего следует отметить, что эта часть «русского мира» осознанно не стремится интегрироваться в новые национальные сообщества и активно демонстрирует — и декларирует — свою «русскость». Большинство принадлежащих к ней людей объединяет отношение к их новым странам пребывания как к бывшим колониям России (т. е. культурам более низким, чем русская); ностальгия по рухнувшей империи и неизбывная жажда помощи и поддержки со стороны Российской Федерации. Конечно, внутри данноо сообщества заметно разделение на тех, кто вовлечен в жизнь своих государств, обладает всеми гражданскими правами и не относится к новой национальной идентичности представителей титульной нации агрессивно; и тех, кто активно подчеркивает свою русскую идентичность, стремится самоорганизоваться по этническому признаку, надеется на помощь и поддержку своих инициатив со стороны Российской Федерации, а порой и открыто призывает к исправлению случившихся «исторических ошибок». В отличие от русской диаспоры на Западе, постсоветский «русский мир» всегда воспринимался местными властями с подозрением, и это было еще одной причиной того, что успешные политики, предприниматели и интеллектуалы являются в этой среде редкими исключениями. Русское население отнюдь не всегда дискриминируется, но оно практически везде ощущает себя маргинальной социальной группой. Маргинализация часто обусловливает агрессивность или пренебрежение в адрес представителей коренной национальности, что оборачивается новой волной отторжения и дальнейшей изоляцией.
В недолгий период своего быстрого экономического развития (1999–2007 годы) окрепшая Россия «повернулась лицом» к оказавшимся за рубежом русским — причем прежде всего к тем, чье положение требовало поддержки и могло выступать инструментом внутрироссийской политической мобилизации. В 2007 году был учрежден фонд «Русский мир» со значительным ежегодным бюджетом; в 2008 году создано Россотрудничество; с 2006 года запущена программа репатриации русскоязычных, которые выразили желание жить и работать в России. При этом взаимодействие с русскими меньшинствами в постсоветских странах носило и носит подчеркнуто политико-идеологический характер: пророссийские активисты мобилизуются на защиту исторической памяти, прославляют православие как российскую государственную религию, лоббируют особый статус русского языка, нигилистически отзываются о государственности своих новых стран пребывания, превозносят разные формы интеграции с Россией. Неудивительно, что такая политика поспособствовала формированию отношения к русским как к «пятой колонне», а к партиям, призванным защищать их права, — как к марионеткам Москвы, и результаты не заставили себя ждать: так, например, в Латвии, где этническими русскими, украинцами и белорусами называли себя в 2013 году 32,8 % жителей, «Русский союз Латвии» на выборах в сейм в 2014 году собрал лишь 1,58 % против 19,0 %, полученных прорусской партией «За права человека в единой Латвии» на выборах в 2002-м и не провел ни одного депутата (против 25 из 100, которыми обладал ЗаПЧЕЛ в начале 2000-х годов)[477]. Проект переселения в Россию еще до этого потерпел фиаско — с 2006 по 2012 год вернулись лишь 125 тыс. человек, или около 1,5 % живущих за границей русских[478] (для сравнения — в 1987–2000 годах из СССР/России по германской программе репатриации выехало более 70 % из всех проживавших в СССР на момент объявления этой программы русских немцев[479]).
Однако каким бы сомнительным «активом» ни оставалось русское население на территории бывшего Советского Союза, у Кремля всегда сохранялся план его использования для дестабилизации новых независимых стран региона. «Русская» риторика использовалась для создания линий напряжения в постсоветских странах; Москва активно принимала их жителей в российское гражданство с нарушением как собственных законов, так и правовых норм соответствующих стран. Появление значительной доли «россиян» среди жителей Абхазии, Приднестровья, Южной Осетии и Крыма стало позже одним из формальных поводов для российского силового вмешательства в их дела. Аннексия Крыма в феврале — марте 2014 года и организация сепаратистского движения в Донбассе, приведшая к его фактическому отторжению от Украины, стали самыми знаковыми моментами в истории постсоветского «русского мира». При этом события в Крыму и на Донбассе открыто именовались не иначе как «Русской весной»[480], а В. Путин, описывая их, прямо обосновывал вмешательство сначала тем, что «на [Крымском] полуострове живут русские, они оказались в опасности», а потом тем, что «вынуждены были защищать русскоязычное население на Донбассе»[481]. Учитывая тот резонанс, который имела крымская эпопея в российском общественном мнении, можно с уверенностью утверждать, что Россия сейчас позиционируется как держава, историческая миссия которой — быть центром «русского мира» и его защитницей; данный ход, несомненно, выглядит как изощренное обоснование права на вмешательство там, где проживает значительное число русских или там, где находятся «сакральные точки» «русского мира»[482]. При этом опыт Крыма показывает, что Москва готова щедро вознаграждать тех, кто либо давно поставил себя на службу российским интересам, либо осознал свою принадлежность «русскому миру» в переломный момент исторических событий, — тем самым дается сигнал о том, что Кремль ценит лояльность как себе, так и делу «русского мира» и будет поддерживать своих адептов.
Последствия крымских событий — и в этом еще предстоит убедиться — нанесут серьезный удар по продвижению идей «русского мира», так как русские меньшинства в странах — соседях России, несомненно (и небезосновательно), станут рассматриваться как дестабилизирующий фактор, который в случае необходимости Кремль может использовать по своему усмотрению. Миновавшие после аннексии Крыма годы прошли под знаком укрепления безопасности в странах с самым значительным русскоязычным населением (прежде всего в странах Балтии) и в целом усиления как националистической риторики в них, так и сотрудничества этих государств с ведущими державами западного блока в рамках НАТО. Следует также отметить, что общее отношение к русским в большинстве европейских обществ радикально изменилось к худшему, что негативно повлияло и на обеспечение их интересов в области языковой и культурной самобытности — иначе говоря, положение представителей «эмигрантского» «русского мира» оказалось затронуто действиями России по обеспечению своих сугубо геополитических интересов.
Подытоживая эту часть, следует заметить, что двойственная природа российского сообщества за рубежами России практически не имеет аналогов и в истории, и в современной политике. С одной стороны, хорошо известны случаи массовой эмиграции из той или иной страны и возникновения значительных диаспор — однако практически нигде более их формирование не вызывалось на протяжении столь длительного времени преимущественно политическими, а не экономическими факторами; соответственно, крайне редко встречались и встречаются случаи столь отчужденного (или по крайней мере безразличного) отношения эмигрантов к своей бывшей родине. С другой стороны, также хорошо известны случаи деколонизации или военных поражений, сопровождавшихся изменениями границ, которые провоцировали возвращение в метрополии или проигравшие страны значительного числа их граждан, оказывавшихся в результате подобных событий за рубежом, — но опять-таки нигде обратная миграция не затягивалась на столь длительный срок, а присутствие этнических меньшинств на соответствующих территориях не было столь значительным.
Оба отмеченных тренда породили не просто существенно различающиеся, но практически противоположные друг другу элементы современного «русского мира». Первый представлен теми, кого стоит назвать «русскими профессионалами», — самостоятельными людьми, рискнувшими сделать ответственный выбор и начать жизнь на новом месте; образованными, интегрирующимися в новое общество, живущими по его правилам и канонам и вследствие этого не слишком нуждающимися в «опеке» со стороны Москвы. Второй состоит из тех, кого можно обозначить как «профессиональных русских», — людей, которые, оказавшись не по своей воле за пределами собственной страны, предпочли в той или иной мере приспособиться к новым условиям, а не попытать счастья в России; осознанно не стремятся к интеграции в формирующиеся новые национальные сообщества и грустят по временам советской империи, в результате чего оказываются очень податливыми к кремлевской пропаганде и «вниманию» со стороны российских властей. «Русские профессионалы» — одна из самых ценных находок для развитых стран; «профессиональные русские» — одна из наиболее серьезных угроз для новых постсоветских государств[483]. Эта разделенность диаспоры, которая и сама по себе делает ее уникальной, представляет особый интерес с точки зрения отношения к отдельным ее элементам российских властей — отношения, определяющего нынешнюю несовременную политику Москвы в сфере миграции и гражданства.
Борьба за неудачников и пренебрежение к успешным
С первых лет существования независимой России и соседствующих с нею постсоветских государств отношение Москвы к распаду Советского Союза сочетало в себе открытое сожаление («распад СССР был величайшей геополитической катастрофой ХХ века»[484]) и глубинное сомнение в том, что он окажется окончательным. Россия долгое время относилась к новым странам как к «своим» и оказывала им покровительство — военное, политическое и экономическое. Довольно быстро стало понятно, что следование в «фарватере» российской политики может быть очень выгодным для тех, кто готов демонстрировать максимальную лояльность Кремлю. Первыми это поняли в Белоруссии, с которой еще в 1995–1996 годах Российская Федерация создала «союзное государство», которое обеспечило белорусам такие же социальные и трудовые права, какие имелись у россиян, а Белоруссии — огромные льготы при закупках российского газа, а также при поставках своей продукции на российский рынок. По состоянию на начало 2017 года различные оценки выгод, полученных Минском за 2005–2015 годы, определяют их в сумму от $65 до $106 млрд[485], что эквивалентно ежегодному трансферту в размере от 7,5 до 13 % ВВП Белоруссии на протяжении этого периода. Практически во всех остальных случаях благорасположение Москвы зависело от формальных масштабов «прогиба» властей той или иной республики перед Кремлем (здесь следует вспомнить пример Таджикистана, где власть держится на присутствии российских войск и огромных по меркам республики деньгах, пересылаемых из России домой работниками-мигрантами), а порой даже и от ожиданий возможных уступок в будущем (тут приходит на память исключительная щедрость, проявленная в 2004 году в отношении «почти избранного президента Украины» В. Януковича — правда, так им и не использованная, — но из-за которой Россия поставляла Украине газ по цене $50/1 тыс куб. м — в 4,5 раза дешевле цены на границе Германии — на протяжении всего 2005 года[486]). В последнее время стремление России реинтегрировать свои бывшие владения проявилось в назойливой идее создания сначала Таможенного, а потом и Евразийского экономического союза, который изначально строился как конструкция не столько обусловливающая равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество, сколько позволяющая обменивать суверенитет на экономические выгоды (Д. Медведев сформулировал это предельно четко, когда сказал: «Если бы некоторые страны, присутствующие здесь [на встрече глав правительств в Бишкеке в марте 2017 года], не входили в состав нашего Союза… всё [поставляемое из России] было бы существенно, гораздо дороже»[487]).
Однако ЕАЭС, который, безусловно, выгоден для большинства входящих в него стран, вряд ли может принести значимые экономические выгоды России, так как, с одной стороны, экономики всех входящих в него стран так же зависят от сырьевого сектора, как и российская, что исключает любую синергию; и, с другой стороны, суммарный размер экономик российских союзников не превышает 11,3 % от показателя России, что также не дает шанса на какой-то интеграционный эффект[488]. Евразийский союз — ныне бессмысленная игрушка Кремля — имел бы определенный смысл только в том случае, если бы в нем приняла участие Украина: тогда он действительно был бы евразийским, так как в нем бы сосуществовали страны, «развернутые» как к Европе, так и к Азии[489], но так как эта возможность очевидно упущена, возлагать на объединение большие экономические надежды все сложнее.
Однако в одном «интеграционные усилия» России принесли очевидный и впечатляющий результат. Они запустили — во многом против воли самих простых россиян — масштабный процесс миграции из постсоветских стран в Россию, который в некоторые периоды казался практически неостановимым. В самом начале 1990-х годов маятник миграции качнулся как раз в ту сторону, которую можно было предположить вследствие политических потрясений: русские стали активно возвращаться в Россию, а представители бывших союзных республик — пусть и менее активно, но переезжать на родину, опасаясь дальнейшего ужесточения миграционного режима. В итоге с 1991 по 2000 год в Россию прибыло около 4,8 млн этнических русских, подавляющее большинство которых (около 3,6 млн) оставили свое постоянное место жительства в Казахстане и республиках Средней Азии[490]. Российское государство не только не оказывало переселенцам практически никакой помощи, но и делало довольно затруднительным получение ими российского гражданства. Достаточно сравнить этот процесс с переселением этнических немцев из СССР, России и Казахстана в Германию: за 1990–2010 годы выехали 2,2 млн человек, или 92 % всей диаспоры; при этом 85 % получили гражданство в течение не более чем 3 лет с момента переезда, а средние затраты ФРГ на переселение одной семьи составляли около €45 тыс.[491] (про израильскую программу репатриации я промолчу). Так или иначе поток русских переселенцев в Россию иссяк в начале 2000-х годов, но с оживлением экономики стала заметна совершенно иная тенденция.
На этот раз в Россию начали прибывать трудовые мигранты из «ближнего зарубежья» — при этом имеющие все более отдаленное отношение к «русскому миру». Довольно быстро стало понятно, что этот приток отвечает интересам как предпринимателей и состоятельных граждан (потому что обеспечивает дешевую рабочую силу), так и чиновников и силовиков (поскольку создает огромную прослойку совершенно бесправных и получающих преимущественно неофициальные доходы людей). Если в 1990-е годы ежегодный приток трудовых мигрантов не превышал 280 тыс. человек и происходил в основном из Украины, Молдовы и Белоруссии, то к середине 2000-х он увеличился до 1,7–2,4 млн в год и практически полностью состоял из выходцев из Средней Азии[492]. При этом власти, считая прибывающих «соотечественниками», относительно лояльно относились к получению ими российского гражданства: на протяжении 2000–2013 годов в него перешли более 1,7 млн выходцев из стран СНГ, не имеющих русских корней[493]. Этот поток не сможет остановиться в ближайшие годы по двум причинам: политически Россия продолжает развивать свой «интеграционный проект для Евразии»[494], который предполагает упрощение миграционного режима и в будущем; экономически многие бедные страны постсоветского пространства не в состоянии выжить без притока тех средств, которые мигранты или бывшие граждане посылают на родину (в Узбекистане они составляли в 2016 году 3,7 % ВВП, в Таджикистане — около 26 %, а в Киргизии — чуть более 28 %[495] [и это после двухкратного сокращения переводимых сумм по сравнению с рекордными 2013–2014 годами]).
Решение демографических проблем России через «импорт» нового населения происходит сегодня достаточно активно: миграция в 1992–2013 годах компенсировала 61 % естественной убыли населения, тогда как рождаемость — 70 %[496] (в «несчастной» Франции коэффициент естественного прироста превышал коэффициент миграционного в 2,5 раза[497]). При этом процесс имеет важный политический аспект: массовое принятие новых граждан способствует росту электоральной поддержки нынешней российской элиты, так как приезжие в основном относятся к регионам с куда большими традициями авторитаризма, чем, например, Украина или Молдова. Украина в последние годы вышла на первое место по приему ее граждан в российское подданство (100,7 тыс. человек в 2016 году из общего числа 265,3 тыс. новых россиян[498]), но, понятное дело, в основном за счет путинистов из Донбасса, а не проевропейски ориентированных лиц. Иначе говоря, даже это исключение последних лет не опровергает того обстоятельства, что одним из следствий современной миграционной политики является укрепление сложившегося в стране режима.
Характерно, однако, то, что Россия осознанно принимает все большее число переселенцев, которые обладают гораздо меньшим человеческим капиталом, чем средние россияне. Эмигранты из постсоветских стран имеют в среднем менее 10 лет образования против 14,2 для коренных россиян (о качестве этого образования я не говорю); они практически не присутствуют среди бизнес-элиты страны и не составляют значимой части ее интеллектуального класса; участие их в качестве высококвалифицированных работников в технологичных отраслях промышленности крайне редко. Это особенно удивляет в сравнении с теми же Соединенными Штатами, которые проводят последовательную политику привлечения в страну талантливой молодежи: в 2015/16 учебном году в американских вузах училось около 1,05 млн (!) иностранных студентов, из которых почти 198 тыс. — бесплатно[499]. В России с ее вдвое меньшим населением соответствующие показатели были в 4 и 13 раз меньше — соответственно 270 и 15 тыс.[500] (при этом следует иметь в виду, что до 80 % обучающихся в российских вузах «иностранцев» — либо русские с паспортами стран СНГ, либо украинцы и белорусы). Однако власти продолжают интегрировать Россию с постсоветскими государствами и «охотиться» за неудачниками, которые не могут достичь жизненных целей в своих странах и потому радостно «решают российские демографические проблемы» (а заодно экономические и политические). Своего рода апофеозом этого процесса стал подготовленный и внесенный в Государственную думу законопроект, предлагающий предельно упростить получение российского гражданства «по принципу места рождения» — причем предоставлять его рожденным не только в границах современной Российской Федерации после провозглашения страной суверенитета, но и «носителям русского языка и русской культуры, прямые предки которых родились на территории СССР или в границах Российской империи»[501]. Учитывая, что иммиграции в Россию из стран Балтии не отмечается, а с Аляски, скорее всего, потока переселенцев ждать не стоит, оказывается, что все отмеченные территории и страны имеют сегодня уровень жизни и степень экономического развития существенно ниже, чем Россия. Таким образом, привлечение «новых россиян» из, по сути, стран «третьего мира» — причем даже не в качестве мигрантов, а в качестве полноправных граждан — становится нашей государственной политикой — и пока она претворяется в жизнь, «новые русские» продолжают покидать страну.
Впечатляет, однако, не это. В России (и в странах постсоветского пространства) законодательство в большинстве случаев либо запрещает двойное гражданство, либо жестко ограничивает возможности для тех, у кого оно есть. В 1999 году было принято решение о запрете занятия должностей в структурах государственной власти и управления лицами с двойным гражданством, видом на жительство или иным документом, подтверждающим право на постоянное проживание за рубежом[502]; в 2013 году эта норма была распространена уже на тех, кто имел зарубежные счета и собственность[503]. Данные решения также выставляют Россию очень несовременной, причем по двум причинам.
С одной стороны, принимая такие решения, страна идет против непреодолимых глобализационных трендов. Мир становится более взаимосвязанным, число людей, живущих за пределами стран, в которых они родились, растет, и это нельзя не принимать в расчет. Можно вспомнить хотя бы самых известных политиков, для которых двойное (а подчас — просто чужое) подданство не создавало проблем. А. Шварценеггер дважды избирался на пост губернатора самого крупного американского штата, Калифорнии, будучи гражданином США и Австрии; сенатор и потенциальный кандидат в президенты Т. Круз в первые годы своего пребывания в должности имел канадский паспорт, член палаты представителей М. Бэчман — швейцарский; при этом запрет на занятие постов в правительственных структурах для американских граждан, имеющих иностранный паспорт, был отменен решением Верховного суда v. еще в 1967 году[504]. Генерал-губернатор Канады М. Жан была назначена на эту должность в 2005 году, имея также и французский паспорт. В Германии премьер-министром земли Нижняя Саксония с 2010 по 2013 год был Д. МакАлистер — британец, имевший в качестве второго также и немецкое гражданство. В ЕС вообще de facto существует институт транснационального гражданства, и гражданин любой из стран Союза имеет право занимать любые должности в другой, в том числе и в структурах государственной службы (а также голосовать на местных выборах и избираться депутатом локальных и региональных законодательных органов). По мере нарастания миграционных процессов и интернационализации глобальной элиты подобного рода ограничения станут последовательно отменяться — и Россия будет все сильнее казаться «белой вороной»[505].
С другой стороны, проводя такую политику, страна не столько возводит преграду для проникновения во властные структуры «безродных космополитов», сколько прежде всего ограничивает себя в использовании потенциала той части «русского мира», который я назвал «русскими профессионалами». Простая логика подсказывает, что иностранные граждане с русскими корнями могли бы быть востребованы прежде всего в государственных структурах: разве не нужны нам те, кто отработал годы в израильской полиции, британской антимонопольной службе, французских госкорпорациях, наконец, в американских университетах и think-tank’ах? Они куда менее склонны к коррупции и законопослушны, но, что важнее, прекрасно знакомы с современными управленческими практиками, которые мы пока пытаемся только изобретать, и то не вполне успешно. Их русские корни позволяли бы рассчитывать на патриотизм, как это происходит, кстати, во многих странах (например, в той же Балтии, где в каждой из обретших независимость стран представители диаспоры уже успели побывать президентами — причем В. Вике-Фрейберга вышла из канадского гражданства только после официального объявления о ее избрании президентом Латвии). Однако очевидно, что даже ради хорошей работы человек, всю жизнь проживший в успешной и развитой стране, не станет выходить из своего гражданства и принимать российское. Получить второй паспорт — вполне вероятно, но стать «только» россиянином — вряд ли. Это означает, что мы сознательно отталкиваем тех русских, кто долгим трудом добился успехов в самых конкурентных с точки зрения человеческого капитала странах, в то время как считаем расширением «русского мира» приобретение в потенциальные госслужащие людей из еще более коррумпированных стран, чем наша, к тому же с невиданной легкостью предавших то государство, которому они еще недавно служили (что относится, например, ко всем крымским чиновникам и силовикам, открыто и беспринципно изменившим Украине).
Ранее я уже говорил, что идея «русского мира» ориентирована на оборонительную стратегию, которую наша страна давно использует в своей международной политике. Осознавая, что она не может предложить новых глобальных концептов и идеологий, Россия сосредотачивается на том и на тех, что и кого она привыкла считать «своим»: территориях, которыми она долгое время владела, и людях, к врожденным качествам которых она может воззвать. Однако нынешние политические шаги указывают не только на стремление «оборониться» от других, но и на удивительное неверие в лояльность России представителей того «русского мира», о котором так много говорят как о великом благе. Сделанный западными странами выбор в пользу разрешения двойного гражданства и предоставления гражданам с двойным гражданством полных прав основывается на простой уверенности: лояльность, вызываемая гражданством твоей страны, заведомо выше любой иной. Избиратели в Калифорнии убеждены, что А. Шварценеггер не будет действовать на посту губернатора в интересах Австрии, — но в России всегда будут подозревать, что взявший также и российское гражданство русский, долгие годы имеющий гражданство Германии, или Канады, или США, все равно с высокой степенью вероятности окажется «иностранным агентом», на деле работающим на свою другую родину. Это, на мой взгляд, является той причиной, по которой настоящий «русский мир» будет все сильнее отдаляться от России и будет заменяться «миром» постсоветских бедняков и «профессиональных русских», которые вместо того, чтобы переехать в Россию и испытать все прелести жизни в ней, будут ради мифического блага русского народа дестабилизировать общества, в которых живут.
«Русский мир», я полагаю, представляет собой огромное — и, может быть, самое большое — богатство России. Сегодня по планете рассеяны от 30 до 37 млн человек, имеющих по крайней мере одного прямого русского предка хотя бы во втором поколении[506]. Залогом успешного развития России в ближайшие десятилетия является мобилизация этих людей, их энергии, талантов и капиталов на цели модернизации нашей экономики и политической системы. Россия — по-прежнему самая большая страна в мире, и ей нужны ее собственные граждане, а не новозахваченные или только еще «присматриваемые» территории; ей нужно возвращать себе утекающие из общества жизненные силы, а не обескровливать своих соседей. Стране не нужен безумный закон, по которому в российское гражданство можно будет принять всех жителей таджикских кишлаков или молдавских сёл; ей нужны правила, по сути автоматически признающие гражданами России всех тех, кто имеет русских предков даже в третьем поколении. Вместо введения jus soli (о пересмотре которого, сейчас, кстати, задумываются даже в Соединенных Штатах) нам нужно восстановление твердого jus sanguinis. Замечу: наличие хотя бы одного дедушки или бабушки соответствующей национальности является основанием для гарантированного получения гражданства (часто оформляемого прямо в консульствах той или иной страны за рубежом) во многих странах. Эта норма закреплена в ст. 116 конституции Германии, ст. 25 конституции Болгарии, ст. 36 конституции Эстонии, в ст. 14 конституции Армении; в ст. 5 закона о гражданстве Греции, главе 4 соответствующего закона Венгрии, ст. 8 — Украины, ст. 23 — Сербии и т. д.[507] В Италии и Ирландии предоставляют гражданство страны этническим итальянцам и ирландцам вне зависимости от того, когда в истории их рода встречались выходцы из этих стран (и даже государств, существовавших ранее на их территории). Приняв такой подход, Россия могла бы раздать миллионы своих паспортов в самых разных концах света. Конечно, не все их обладатели переселились бы в Российскую Федерацию — но по крайней мере они задумались бы о такой возможности как о чем-то большем, чем о неосуществимой мечте.
Следует признать очевидное: сегодня Россия окружена территориями, уступающими ей в своем экономическом развитии. При этом подавляющее большинство из миллионов покинувших ее на протяжении последнего столетия граждан и их потомков обеспечили себе уровень жизни более высокий, чем это удалось сделать населению нашей страны. Уже этот факт говорит о том, что самой разумной стратегией является обогащение страны через привлечение в нее новых русских граждан, а не введение ее в новые траты за счет присоединения бессмысленных территорий, которые требуют дополнительных ресурсов. Крым, в бюджете которого дотации из федерального центра составили в первые четыре года его пребывания в составе России 68 %[508]; разоренный Донбасс, который тоже вскоре встанет на российский «баланс», — где Россия попытается наконец остановиться? Ведь даже если ориентироваться на расценки, использовавшиеся в германской программе переселения, окажется, что расходы на Крым всего за 15 лет превысят средства, которые пришлось бы потратить на цивилизованную репатриацию в Россию всех его жителей (точнее, такого же количества новых русских граждан). Однако ничто не может убедить адептов «русского мира» в ошибочности их нынешнего курса. Поэтому нам придется лишь ждать, к чему он приведет.
В той же мере, в какой экономика не-развития в самую динамичную эпоху мирового хозяйственного роста или увлечение религией и конспирологией в наиболее рационалистический период всемирной истории, концепция «русского мира» указывает на несовременный характер России. Страна, пережившая крах колониальной империи и готовая при этом интегрироваться с ее бывшими владениями, но ограничивающая права тех, кто мог бы составить основу ее человеческого капитала, не может не вызывать удивления. Однако, судя по всему, логика развития ее политической и интеллектуальной элиты обусловливает именно такую динамику: скатывание к предельному партикуляризму в век формирующихся универсалий. Нынешние российские власти не могут сформулировать никаких идей, которые способны были бы резонировать за пределами того сообщества, которое говорит по-русски, помнит или осознаёт все безумие российской истории и с пониманием относится к политическим «особенностям» собственной страны.
При этом воплощение в жизнь концепции «русского мира» причудливо сочетает в себе заметное пренебрежение к русским, которые принимают как очевидное тот факт, что в XXI cтолетии интеллект и капитал важнее природных богатств и территорий, с повышенным интересом к тем бывшим соотечественникам, которые не имеют иных достоинств, кроме как проживание на землях, считающихся Россией «своими». Эта комбинация приводит прежде всего к утрате формирующимся российским обществом внутреннего ориентира в вопросе о том, кого стоит считать «своим», а кого — «чужим», что, замечу, исключительно важно для любой становящейся гражданской нации. Идея «русского мира» не дает четкого понимания, кто же к нему относится: этнические русские, где бы они ни родились и жили; русскоязычные; православные христиане; люди разных национальностей, долгое время жившие в России и воспринимающие ее культуру и обычаи; представители различных этносов, родившиеся и живущие в границах «исторической России», и т. д. В попытке объединить тех, кто так или иначе несет на себе печать «русскости», власти Российской Федерации на деле мешают стране консолидироваться и сформировать условия принадлежности к российской гражданской нации.
В то же время крайне широкая трактовка «русскости» обусловливает готовность защищать «своих» далеко за пределами международно признанных границ России — и при этом не обязательно российских граждан, но и так называемых соотечественников. Готовность эта далеко не всегда трансформируется в реальные действия — это обычно определяется степенью политической целесообразности, — но когда страна предпринимает попытки вмешательства, происходят события, которые мало кто решится назвать обыденными. Это, однако, целиком и полностью относится к сфере внешней политики, которая будет в фокусе внимания в следующей, заключительной главе.
Глава седьмая
Аномалии внешней политики
В последние годы «особость» России — и с этим согласятся, наверное, все или практически все наблюдатели — особенно рельефно проявляется в сфере внешней политики, где Москва, пытаясь «подняться с колен», уверенно движется к обретению статуса самого крупного «изгоя», присутствующего на международной арене. Двойные стандарты, вопиющая непоследовательность, не слишком искусная ложь и растущая агрессивность — все это указывает на то, что российская внешняя политика характеризуется прежде всего невиданной ранее истеричностью — и именно это делает ее сегодня столь несовременной. Причин этому я бы отметил как минимум две.
С одной стороны, это становящаяся все более очевидной экономическая и политическая неуспешность России, безусловно, раздражающая ее лидеров. Одна из самых крупных индустриальных держав, она так и не сумела совершить переход к постиндустриальному базису, став полностью зависимой от высокотехнологичного импорта и окончательно заняв позицию экспортера энергоресурсов, рост добычи которых сковывается сегодня западными технологическими санкциями; о модернизации даже перестали вспоминать, понимая ее невозможность. Крупнейшая в мире империя, она растеряла значительные территории, не смогла встроиться в новые интеграционные объединения в Европе, а ее собственный интеграционный проект становится все более дорогим и не приводит к реальному росту влияния даже на постсоветском пространстве. Выступая на протяжении большей части прошлого столетия одним из глобальных идеологических и военно-политических лидеров, Россия сегодня располагается в тени двух гигантов XXI века — объединенной Европы и Китая — и все чаще вынуждена, пусть и без особого успеха, защищать собственные интересы на территориях, которые казались и кажутся обитателям и лакеям Кремля неотъемлемой частью «исторической России»[509].
С другой стороны, Россия на протяжении нескольких веков «повышала ставки» в своей внешнеполитической игре, став последовательно самой мощной в военно-политическом отношении державой Европы, а затем долгое время будучи одной из двух глобальных сверхдержав. Однако в условиях, когда основой для политического влияния давно уже выступает экономическая мощь и контроль над финансовыми рычагами, Россия деградировала до сугубо региональной державы, сохранив при этом сильную «психологическую зависимость» от недавнего соперника, Соединенных Штатов, с которыми кремлевские лидеры постоянно сравнивают свои возможности и происками которых пытаются объяснить свои неудачи. Проблема усугубляется тем, что для США Россия сегодня не представляет ни экзистенциальной угрозы, ни даже особого экономического интереса, — с чем Москва никак не может смириться. Попытки обратить на себя внимание, помноженные на таланты нынешней российской элиты и ее представления о мире, еще более закрепляют за страной статус крайне несовременного внешнеполитического субъекта.
В результате во внешней политике Российской Федерации в наивысшей степени отражаются все комплексы и фобии отечественных элит — и именно это обусловливает ее малопредсказуемость и иррациональность.
Неспокойная держава «второго мира»
За последние несколько столетий политическая карта мира радикально изменилась, а в еще большей степени изменились факторы, определяющие внешнеполитические возможности отдельных государств.
Прежде всего стоит обратить внимание на роль военной силы, а также на возможности и результаты ее применения. Вплоть до начала ХХ века война считалась естественным средством разрешения политических противоречий между большинством государств, включая крупнейшие из них, — знаменитым «продолжением политики другими средствами»[510]. При этом в случае успеха войны оборачивались приобретением ценных территорий и/или активов, а также, в большинстве случаев, получением дани или контрибуций. Крупнейшие империи прошлого обеспечивали значительную долю своих доходов за счет эксплуатации завоеванных территорий[511]. Завершение этого тренда отмечается с окончанием Первой мировой войны, затраты сторон на которую оказались столь значительными, что агрессор был не в состоянии компенсировать даже нанесенного ущерба, а приобретения победителей были экономически бесполезными[512]. Вторая мировая война еще более подтвердила формирование данного тренда, а появление у крупных держав ядерного оружия во многом поставило точку в вопросе о возможности полномасштабного конфликта между ними. Параллельно шел процесс «эмансипации» глобальной периферии: если на протяжении сотен лет ее народы достаточно легко завоевывались и подавлялись с применением относительно незначительных сил[513], то в последние десятилетия сопротивление стало настолько жестким (и подчас иррациональным), что прежняя логика вторжений (даже продиктованных идеологическими соображениями) оказалась полностью девальвированной[514]. За последние полвека — со времен Алжира и Вьетнама до Ирака и Ливии — ни одна из крупных держав так и не выиграла ни одной войны на глобальной периферии с полным достижением поставленных целей; при этом цены на проведение таких кампаний выросли с $341 млрд, которых потребовала Корейская война, до $738 млрд, потраченных США на Вьетнам, и около $1,15 трлн, которые были израсходованы на войны в Афганистане и Ираке с 2001 по 2010 год[515]. Издержки контроля над территориями за пределами собственных границ стали существенно превышать любые выгоды, которые этот контроль мог принести; со времен завершения холодной войны экономические средства достижения любых внешнеполитических целей оказались эффективнее военных. В этом, как мне кажется, и скрывается подлинный смысл часто критикуемого тезиса о «конце истории»[516], если трактовать ее как историю войн с участием держав-лидеров, — и любые рассуждения о «возобновлении» исторического процесса в этом контекте не выдерживают критики[517].
В новых условиях резко повысилось влияние невоенных (и прежде всего — социальных, экономических и технологических) факторов на все аспекты внешней политики. Важнейшими средствами укрепления влияния в мире стали привлекательность модели развития страны (знаменитая «мягкая сила»[518]); наличие у того или иного игрока уникальных экономических возможностей (например, эмиссии мировых валют); его способность обеспечить защиту и безопасность союзников (склонность к прочным альянсам); а также экономические выгоды, извлекаемые из сотрудничества с той или иной страной (привлекаемые от ее компаний инвестиции, открытость ее рынков, получение кредитов и финансовой помощи). Как следствие, изменилась глобальная конфигурация: если в годы холодной войны планета была разделена на два «мира»: свободный и коммунистический, а оставшаяся часть была своего рода «полем битвы» для представляемых ими проектов развития, то с ее завершением «первый мир» стал воплощаться странами, которые либо являются наиболее богатыми и успешными, либо демонстрируют возможности стать таковыми в обозримом будущем. В очень реалистично отражающей нынешнее положение дел книге П. Ханны к этому «первому» миру причисляются США, Европейский союз и Китай[519], и против такого подхода сегодня сложно что-либо возразить. На указанные три «центра мощи» приходится 50,1–61,4 % глобального ВВП (в зависимости от подсчета с учетом паритета покупательной способности валют или по рыночным курсам)[520], они в качестве хотя бы одного контрагента участвуют в 45 % экспортно-импортных сделок[521]; на них приходится 67,8 % мировых расходов на НИОКР[522]; производится 72,8 % всей высокотехнологичной продукции[523]; две из трех сторон эмитируют глобальные валюты, третья обладает самыми крупными золотовалютными резервами; на все три приходится 79 % активов глобальной банковской системы и 73 % капитализации фондовых рынков[524]. Масштабы их экономик таковы, что в ближайшие 20–30 лет ни одна другая страна не сравнится с ними более чем по двум из указанных характеристик.