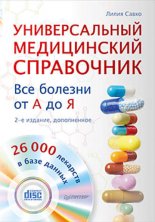Несовременная страна. Россия в мире XXI века Иноземцев Владислав

Каждый из основных игроков в мировой политике имеет фундаментальный «козырь», который помогает ему поддерживать и укреплять свое влияние в мире. У Соединенных Штатов это прежде всего статус крупнейшей в мире экономики, которая выступает генератором глобального спроса и источником большей части технологических инноваций; серьезная «мягкая сила», основанная на привлекательности американского образа жизни и свободы предпринимательства; статус эмитента резервной валюты и самая мощная на планете армия[525]. У Европейского союза это высокий уровень жизни и самая совершенная система социальной защиты населения; отлаженная интеграционная парадигма, обменивающая суверенитет входящих в него стран на экономическое благосостояние и правовую защищенность (притягательность этой модели можно наблюдать на примере советских сателлитов и некоторых бывших республик Советского Союза)[526]. Китай привлекает страны более низкого уровня развития готовностью развивать на их территории сырьевые и инфраструктурные проекты; полной толерантностью к авторитарным режимам, с которыми неохотно сотрудничают западные страны; неограниченными инвестиционными возможностями; статусом самого крупного в мире импортера природных ресурсов и продуманной моделью быстрого индустриального развития, которая для многих служит сегодня примером[527].
В сложившейся ситуации Россия, безусловно, выглядит державой «второго ряда» (это, разумеется, не означает «второго сорта») или, если следовать определениям того же П. Ханны, «второго мира». В данном мире есть многое от развитых стран, однако большинство политических и социальных институтов несут на себе печать имитационности; потенциал развития ограничен внутренним рынком и относительной провинциальностью; государства этой группы могут вырваться вперед и догнать лидеров экономически, но никто из них не способен сравняться с ними по степени своего международного влияния. Вывод прост: «будущее второго мира зависит от того, как он станет относиться к трем сверхдержавам; и наоборот, будущее любой сверхдержавы зависит от того, сможет ли она управлять вторым миром»[528]. Сегодня крупные страны «второго ряда» в чем-то схожи в своем геополитическом значении с «хартлендом» Р. Макиндера[529]: кто сможет привлечь их на свою сторону, тот (может быть) станет мировым гегемоном — но из этого (как, впрочем, и из теории «хартленда») не вытекает, что сами региональные державы обладают неоспоримой геополитической субъектностью.
Я останавливаюсь на этом столь подробно именно потому, что Россия сегодня относится как раз к категории стран «второго мира» — и при этом она не только является одной из них, но находится в ситуации даже более сложной, чем большинство остальных.
Положение России как державы «второго мира» определяется ее слабостью практически во всем, что сегодня ценится в международных делах. Российская Федерация остается крупнейшим в мире государством по размеру территории, и, вероятно, самой богатой природными ресурсами страной. Однако территория сейчас скорее «обязательство», чем актив, так как требует развития, а оно — денег. Спрос на сырье будет всегда — но при этом Россия остается зависимой от цен на него, которые пока складываются практически без ее участия (хотя в последнее время мы видим активные попытки Российской Федерации принять участие в их регулировании посредством присоединения к картельным соглашениям стран — членов ОПЕК). По наследству от СССР стране достался крупнейший в мире ядерный арсенал и место постоянного члена в Совете Безопасности ООН — но практика показывает, что важные решения в мире можно принимать и без санкции Совбеза, а ядерное оружие способно образумить агрессора, но вряд ли может быть применено (а если может, то только один раз — и итогом окажется тот «мир без России», который не вызывает в Кремле энтузиазма[530]). Собственно, на этом наши «козыри» исчерпываются.
При этом стоит отметить, что россиян мало: 44,9 % от числа американцев, 29,1 % — от европейцев (33,6 %, если не считать Великобританию) и всего 10,6 % от числа китайцев. Доля России в населении Земли — всего 1,93 % (и этот показатель снизился с 5,2 % в 1913 году)[531]. Экономически мы также не выглядим слишком впечатляюще: ВВП Российской Федерации составил в прошлом году 92,09 трлн руб., или $1,58 трлн по текущему обменному курсу валют (я беру этот показатель, так как можно доказывать самим себе, что мы намного богаче, но для действий на международной арене нужны инвестиции в долларах, а не в «учетных рублях»), что не превышает 2,0 % глобального показателя и находится ниже цифр 1913 года (5,03 %)[532]. Мы крайне блекло смотримся по показателям экспорта готовых промышленных изделий (к ним по международным классификациям можно отнести только 16–17 % вывозимых из страны товаров), и Россия в этом ряду немного отстает от… Словакии[533]. По высокотехнологичному экспорту ($9,84 млрд в 2014 году) мы более чем втрое отстаем от в прошлом нищего Вьетнама ($30,86 млрд), от Сингапура — почти в 14 раз ($137,4 млрд), а от Китая ($558,6 млрд) — в 57 раз[534]. В 2016 году Россия впервые экспортировала нефти и газа меньше (на $107,9 млрд), чем Китай — одних лишь мобильных телефонов (на $116,1 млрд)[535]. Россия «проваливается» в международных индексах цитирования и патентования — и пока нисходящий тренд устойчив. Совокупные прямые инвестиции российских компаний за рубеж составляли в 2013 году $439 млрд — около 16 % от китайских и менее 3,5 % от европейских[536].
Россия пытается компенсировать свое исчезновение с экономической карты мира наращиванием военной мощи: с 2000 по 2015 год военные расходы выросли в номинальном выражении в 15,6 раза, с 260 млрд до 4,95 трлн руб.[537], достигнув, по западным оценкам, к 2016 году 4,9 % ВВП[538] и уступая в этом отношении из развитых стран только израильским. Однако эти расходы пока не позволяют говорить о том, что Россия выглядит глобальным военным игроком. На восточных рубежах Тихоокеанский флот существенно уступает военно-морским силам Южной Кореи, на южных Черноморский флот — флоту Турции, а в целом у России нет ни одной авианосной группировки, сравнимой с любой из семи американских. Для поддержания оперативного соединения военно-морского флота в Средиземном море у берегов Сирии были задействованы надводные силы трех флотов (Черноморского, Тихоокеанского и Северного) — просто потому, что ни один из этих флотов не обладает достаточным количеством флагманских кораблей (ракетных крейсеров, оснащенных в том числе системами ПВО/ПРО С-300), чтобы самостоятельно проводить ротацию этого соединения.
И НАТО, и Китай сегодня имеют более сильные армии, чем Россия. Первая превосходит Россию в системах разведки и связи, в высокоточных вооружениях, в способности глобальной проекции силы (чего стоят хотя бы 10 действующих американских авианосцев и 22 ракетных крейсера класса Ticonderoga[539]); второй — в общей численности армии, в обычных морских вооружениях, в системах космической разведки и связи[540]. Конечно, Россия защищена от любой угрозы извне своим ядерным арсеналом — но для наступательной политики и расширения своей зоны влияния одного этого совершенно недостаточно.
При этом положение России в современном мире серьезно отличается от положения других держав, которые схожи с ней по экономическому потенциалу и степени влиятельности в региональной политике. В отличие от тех же Японии, Бразилии, Индии, Турции или Мексики, которые находятся на относительно «открытом» геополитическом пространстве, выступают очевидными экономическими лидерами в своих регионах и имеют тесные связи с несколькими центрами «первого мира» одновременно, Россия сегодня расположена между двумя крупнейшими игроками в Евразии — Европейским союзом и Китаем и практически не имеет вокруг себя значимых экономик, которые могли бы ее потенциально усилить. Фундаментальное отличие геополитического позиционирования современной России от недавно еще существовавшего Советского Союза состоит в том, что за последние 30 лет масштабы как ее экономики, так и экономик соседних стран разительно изменились. В 1980 году номинальный ВВП СССР оценивался западными экспертами в $1,2 трлн, тогда как ВВП Западной Германии — в $920 млрд, а ВВП Китая — в 226 млрд[541]. Советский Союз опережал как ФРГ, так и КНР по многим позициям в производстве промышленных товаров, а его технологическое отставание было далеко не безусловным; при этом Европейское экономическое сообщество невозможно было рассматривать как политическое объединение, а Европа до поры до времени оставалась разделенной по той линии, которая была проведена по окончании Второй мировой войны[542]. В 2017 году российский ВВП (опять-таки, согласно текущим рыночным курсам валют) приблизился к $1,6 трлн, в то время как ВВП объединившейся Европы (даже без Великобритании) составил $14,5 трлн, а Китая — чуть менее $12 трлн. В этой ситуации Россия сталкивается с бльшими вызовами, чем любая страна «второго мира», так как превращается в пространство, отделяющее одну державу «первого мира» от другой. И если в экономическом развитии Российской Федерации не произойдет радикальной смены тренда, ее дезинтеграция окажется вполне вероятной.
Наконец, нужно быть реалистами и понимать, что проблема состоит не только в том, что за последние несколько десятилетий Россия стала намного слабее по сравнению с Европой или Китаем. Она стала слабее и в абсолютном выражении: разрушено значительное число важных отраслей — от приборостроения до авиационной промышленности (в 2016 году Россия произвела 30 гражданских самолетов против 194, выпущенных СССР в 1988-м[543]); не заметен прогресс даже в столь любимых властями нефтяной и газовой отраслях: в 1990–2015 годах объем добычи в них соответственно вырос на 4,8 % и сократился на 2,9 %: в результате если в 1990 году доля РСФСР в мировой добыче нефти составляла 16,2 %, а газа — 29,8 %, то по итогам 2015 года эти показатели снизились до 12,4 и 16,3 %[544]. Даже если говорить не о «гражданских» отраслях, а о производстве вооружений, окажется, что в 1984 году знаменитый Уралвагонзавод произвел 1559 танков Т-72, а в 2015 году в войска поставлена была только партия из 20 новых танков Т-14[545]. Если в американской компании LockheedMartin в 2014 году на одного сотрудника приходилось $407 тыс. выручки, то в российской ОАК этот показатель составлял 404 тыс., но рублей[546]. Кризис в промышленности — и гражданской, и военной — приобретает непреодолимый характер, подталкиваемый устойчивой деградацией инженерно-технического образования и фундаментальной науки. Рассказ о проблемах можно продолжать, но очевидно одно: Россия сегодня «сжата» между двумя крупнейшими мировыми экономическими и военно-политическими центрами и явно не способна тягаться с ними ни в хозяйственной, ни в военной сферах.
В подобных условиях наиболее рациональным выбором было бы тесное сближение — причем «по всем направлениям» — с одним из ближайших соседей: либо с Европейским союзом, либо с Китаем, причем сближение ради экономического процветания и обеспечения коллективной безопасности и координации внешней политики. Между тем ничего подобного не происходит: самоотстранение от Европы становится все более явным, но и никакой entente cordiale c Китаем пока не намечается. Причины и того и другого понятны — но при этом довольно иррациональны. С одной стороны, это неприятие современной европейской идеологии, ставящей права человека, несомненно, выше принципов суверенитета государственной власти, и своего рода «средневековое» равнение на Китай, для которого важнее использование сырьевого потенциала России, чем ее социальное и политическое развитие[547]. С другой стороны, это постоянное «оглядывание» на оставшегося участника «первого мира» — Соединенные Штаты, с которыми Кремль все еще пытается разговаривать на равных, несмотря на полное отсутствие для этого каких-либо предпосылок; учет «американского фактора» радикально деформирует сегодня российскую внешнеполитическую логику, отвлекая страну от постановки и эффективного достижения реалистических целей в пределах Евразии.
Как я отмечал еще в первой главе, Россия, опустившись до страны «второго мира», но живущая представлениями о самой себе как о сверхдержаве, оказывается сейчас не в состоянии выработать адекватную внешнеполитическую повестку прежде всего потому, что не может воспринять саму себя как потенциально естественную часть союза, ведущую роль в котором играе(ю)т более сильная(ые) страна(ы). Это определяет основную черту российской внешней политики — политики «обиженного», который стремится не столько максимизировать собственные выгоды от того или иного шага, сколько продемонстрировать с его помощью свою «независимость» от других. Этот принцип проявился уже в речи В. Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, когда он спросил: «Что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после роспуска Варшавского договора?»[548], и особенно четко отражен в его недавнем отчаянном призыве: «Нас никто [тогда не слушал], с нами никто по существу не хотел разговаривать — послушайте сейчас!»[549]В то же время сама по себе независимость России вряд ли может взволновать западный мир, в военно-политическом отношении выглядящий вполне самодостаточно, — и это объясняет другую особенность современной российской политики: ее нарастающую провокационность.
Сам по себе подобный прием я оценил бы как вполне естественный, но от того не менее аномальный. После того как потенциал попыток установить с Западом нормальные партнерские отношения был (по мнению Кремля), исчерпан, основной тактикой Москвы стали вызывающие шаги, явно подрывающие представления западных (и не только) держав о нормальном поведении на международной арене. С их помощью Россия стремится привлечь к себе внимание и заставить оппонентов возобновить с ней диалог на тех условиях, которые она считает единственно приемлемыми. И если, например, операция в Грузии в 2008 году могла рассматриваться как попытка использовать в разговоре с западными державами их собственные подходы (в том числе риторику гуманитарного вмешательства)[550], то аннексия Крыма стала первым прецедентом открытой ревизии послевоенного миропорядка и своего рода «приглашением» вернуться к временам, когда мир был поделен на зоны влияния, — причем, судя по многим признакам, российские руководители были искренне уверены в том, что подобное приглашение могло быть принято. Отказ Запада не только перевести диалог в такое русло, но и вообще продолжать нормальное общение с Россией спровоцировал вмешательство в гражданскую войну в Сирии, предпринятое исключительно для того, чтобы найти «точку сопркосновения» с США (и в меньшей степени — с Европой) и вывести Россию из изоляции[551]. Неудача в этом спровоцировала активное вмешательство Кремля во внутреннюю политику основных стран ЕС и США, которое, однако, обернулось продолжающимися скандалами в отношениях с большинством партнеров и практическим возвращением во времена холодной войны. Какими будут следующие шаги, пока остается только гадать. При этом очевидно, что Россию в этих попытках не поддерживают даже ближайшие «союзники»: ни Китай, ни страны ЕАЭС не признали ни независимости Абхазии и Южной Осетии, ни включения Крыма в состав Российской Федерации.
Сегодня в мире широко распространено мнение о России как государстве, которое стремится лишь расшатать современную глобальную конфигурацию[552]. Эта деструктивная повестка, на мой взгляд, крайне опасна, так как ведет к такой изоляции, которая по прошествии некоего времени станет необратимой. Пока мировые лидеры все еще заявляют, что «никакие глобальные проблемы не могут быть решены без участия России»[553], хотя очевидно, что таких проблем становится все меньше, а сами эти слова повторяются скорее по инерции. Трагедия современной российской внешней политики состоит в том, что страна пытается действовать как an indispensаble nation, хотя не имеет к тому никаких предпосылок; стремится вернуться в прежние времена, давно не отвечая требованиям, которые ранее предъявлялись к глобальным сверхдержавам. Провокационные действия Москвы порождены стремлением вынудить оппонентов к диалогу — но при этом из вида упускается отсутствие самого предмета обсуждения. В современной политике не принято, чтобы одни государства (например, США и Россия) обсуждали статус других (например, Украины). Поддержка диктаторов, тысячами убивающих своих граждан с применением химического оружия, не может сделать страну партнером цивилизованного мира даже при необходимости совместной борьбы с «терроризмом». Сегодня мало привлечь к себе внимание — нужно иметь повестку дня, обсуждать которую согласились бы остальные стороны. У Кремля ее нет, и именно поэтому кризис в российской внешней политике является не только чрезвычайно острым, но и практически непреодолимым.
Положение страны «второго мира» требует совершенно иной внешнеполитической парадигмы. Соответствующие страны должны обладать двумя основными чертами: с одной стороны, быть способными к объединению со странами «первого мира» в устойчивые и продолжительные союзы (и если мы посмотрим на списки союзников большинства великих держав, они почти не изменились за последние 30–40 лет); с другой стороны, уметь доказывать свою ценность и полезность для этих стран, способствуя решению тех или иных экономических и политических проблем. И с тем и с другим у нынешней России большие сложности — и потому ее внешняя политика не имеет шансов стать хотя бы относительно современной.
Флюгерная «многовекторность»
Российская доктрина внешней политики на протяжении многих лет подчеркивает, что страна привержена идеалам «многополярного» или «полицентричного» мира и даже исходит из того, что такой мир уже является реальностью нашего времени («складываются новые центры экономического и политического влияния, происходит рассредоточение мирового потенциала силы и развития, сокращаются возможности исторического Запада доминировать в мировой экономике и политике» — сказано в Концепции внешней политики Российской Федерации образца 2016 года[554]). Однако при этом в документе ничего не говорится о том, как намерена Россия взаимодействовать с новыми и приходящими в упадок центрами; кого она считает своими основными союзниками и на основании чего (за исключением неочевидного уважения к нормам международного права) она выстраивает свои с ними отношения. Отмечается лишь, что «приоритетными направлениями внешней политики Российской Федерации являются развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами — участниками Содружества независимых государств и дальнейшее укрепление действующих на пространстве СНГ интеграционных структур с российским участием»[555] — но все это, по сути, касается отношений России как страны «второго мира» со странами «третьего мира» и не более того.
Оценивая историю российской внешней политики — как на протяжении нескольких столетий, так и в последние годы, — можно легко убедиться в том, насколько непоследовательной она была. Мы уже говорили, что страна постоянно становилась то более, то менее открытой, то поворачивалась к Европе, то отворачивалась от нее, — но нельзя не видеть, что Россия в то же время постоянно «перебирала» союзников и часто сталкивалась в войнах и конфликтах с теми, кто еще недавно был партнером. Взаимоотношения с отдельными европейскими странами — важными центрами тогдашней политики — не могут не впечатлять. Войны с Францией на рубеже XVIII и XIX столетий, мир в Тильзите, Отечественная война 1812 года, дружба с Бурбонами, Крымская война, а потом участие в Антанте. Семилетняя война с Пруссией, затем неожиданная дружба, коалиция времен наполеоновских войн, потом Первая мировая, пакт Молотова — Риббентропа и Великая Отечественная война. Союз с Австрией против Бонапарта, помощь ей в подавлении венгерской революции 1848 года, неожиданный нейтралитет Вены в Крымской войне, а затем две мировые войны с ней как с союзником Германии. Примеры можно продолжать. За последние 200 лет не то чтобы одна из крупных европейских держав, но все они вместе не выбирали и не отметали союзников и врагов с такой калейдоскопической скоростью, с какой это делала Россия. Даже Великобритания, великий мастер коалиций, вряд ли могла помыслить о такой смене своих партнеров и сателлитов.
Однако прежние «развороты» меркнут перед тем, что происходило в российской внешней политике в постсоветский период. Начав с тесного взаимодействия с Соединенными Штатами и Европейским союзом, подписания Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС в 1994 году и Основополагающего акта Россия — НАТО в 1997-м, Россия, судя по всему, очень плохо понимала свои перспективные цели. Будучи по большинству параметров почти идеальным союзником западного мира (страна, отвергшая коммунизм и воспринявшая рыночную экономику; имеющая основным экономическим партнером ЕС; остро нуждающаяся в притоке инвестиций и технологий; не вполне уверенная в безопасности восточных границ и т. д.), она начала отворачиваться от него из-за событий в бывшей Югославии — несмотря на то, что демократическая Россия и авторитарная Сербия в то время были почти антиподами, а экономические отношения между странами никак не могли стать значимым фактором их тесной дружбы. Но, несмотря на это, в 1999 году Россия пошла на резкое снижение интенсивности диалога с Западом, одновременно обернувшись на Восток и придумав совершенно нежизнеспособный «треугольник» Москва — Пекин — Дели[556]. К этому времени относятся и первые попытки создать более плотный союз с Китаем, позднее воплотившийся в концепте ШОС. Казалось бы, Россия сделала важный геополитический выбор.
Этот выбор вернул Москву в «забытый круг друзей»: как в советские времена, начались визиты главы российского государства в бывшие социалистические и «близкие к ним» страны, которые не успели «переметнуться» в западный лагерь. За первый год своего президентства В. Путин успел отметиться в КНДР, на Кубе, в Ливии, Вьетнаме, Индии и Монголии, не говоря уже о Белоруссии, Киргизии, Туркменистане, Азербайджане и Армении. Россию посетил сам великий вождь Ким Чен Ир; казалось, началась новая попытка консолидировать своих прежних друзей. Но процесс этот продолжался недолго — а именно до того момента, пока российский и американский президенты не посмотрели друг другу в глаза и последний неожиданно увидел в них душу российского лидера[557]. Приоритеты стремительно поменялись: мы помним и звонок В. Путина Дж. Бушу 11 сентября 2001 года, и его выступление в бундестаге всего две недели спустя, 25 сентября, и государственные визиты в Лондон, Вашингтон, Париж и Брюссель, не говоря уже о встречах «восьмерки». В то время могло показаться, что это как раз период 1999–2001 годов был своего рода аномалией и прозападный курс России полностью восстановился. Но не тут-то было.
Сначала Кремль крайне болезненно отреагировал на вторжение Соединенных Штатов и их союзников из «коалиции решительных» в Ирак — и тут, несмотря на кардинальную смену действующих лиц в российской политике, мы снова увидели полное повторение случившегося за пять лет до этого: Россия вновь пошла на обострение отношений с Западом (а вряд ли можно было всерьез считать, что конфликт с США не приведет именно к этому, даже если некоторое время казалось, что России удастся выстроить коалицию противников вторжения вместе с Францией и Германией) из-за страны с авторитарным режимом, экономическое сотрудничество с которой было на тот момент минимальным. Вскоре непрочный союз с Парижем и Берлином разбился о несогласие европейцев примириться с назойливым вмешательством Москвы в демократические выборы на Украине в 2004–2005 годах. После этого европейские «друзья» России пошли на расширение ЕС и НАТО, к которым Москва к тому времени настолько охладела, что начала воспринимать как прямую угрозу.
Очередная волна антизападничества стала намного более радикальной, чем предыдущая. Россия начала решительно развивать сотрудничество с Китаем, согласилась с передачей ему некоторых спорных территорий, почти официально сделала приоритетом своей внешней политики «поворот на Восток», после краткосрочной военной операции в Грузии в 2008 году стала всемерно продвигать свой интеграционный проект Евразийского союза (с 2010 года в виде Таможенного союза, а с 2014 года — именно как ЕАЭС), пока наконец не «сорвалась» в прямое противостояние с Украиной, как только стало понятно, что крупнейшая из бывших советских республик не желает принимать участие в этом безумном региональном эксперименте. С момента введения санкций, которых Москва вряд ли ожидала, начался самый радикальный этап «равнения на Пекин»: считалось, что Китай вполне может заменить России Запад как источник кредитов, инвестиций и политического влияния. Пока, однако, этого не случилось: несмотря на то, что Китай по итогам 2015 года превратился в самого крупного торгового партнера России, а Россия с мая 2016 года стала самым крупным поставщиком нефти в КНР, кредитов и инвестиций Кремль так и не дождался: из всех зарубежных инвестиций КНР в 2016 году в общей сумме $1,39 трлн на Россию приходится около 1 % — $14 млрд[558]. Ничего похожего на отказ от доллара во взаимных расчетах и стремительного роста сотрудничества в финансовой сфере тоже незаметно — и Россия начала поиск очередных вариантов сотрудничества с Западом.
На этот раз стало понятно, что прежние лидеры западных стран не слишком расположены к восстановлению взаимопонимания (повторю, так быстро, как у Москвы, внешнеполитические ориентиры других столиц не меняются), и потому началась кампания расшатывания Европейского союза и попытки посодействовать избранию в Соединенных Штатах «правильного» президента. Однако новый виток российской внешней политики пока выглядит не слишком многообещающим. Во-первых, заигрывания Москвы с авторитарными режимами зашли, судя по всему, слишком далеко на фоне поступательного углубления и интернационализации кровопролитного конфликта в Сирии, который приобрел такую степень ожесточенности, которая может позволить западным странам вмешаться в него самым непосредственным образом (а скорее даже поставит их перед такой необходимостью); операция, которая призвана была «принудить Соединенные Штаты к сотрудничеству», оказалась причиной резкого обострения противоречий между Москвой и Вашингтоном. Во-вторых, уже понятно, что Кремль радикально просчитался — как персонально, так и по существу, — сделав ставку на Д. Трампа в США и радикальных политиков в Европе: определенные черты сходства в политическом стиле руководителей России и США оказались неспособны обеспечить серьезное политическое взаимодействие между двумя странами, тогда как надежды на смену политических элит не оправдались ни в Нидерландах, ни во Франции, ни в странах Центральной Европы[559]. По сути, стало ясно, что Москва в принципе не умеет успешно играть с демократическими режимами: провальными оказались как ставки на прежних лидеров или их команды (как, например, на Украине), так и попытки поспособствовать избранию новых (в США, Франции и, как теперь уже понятно, в Германии). В-третьих, что также немаловажно, Китай начал существенно корректировать свой курс: если раньше в его риторике можно было заметить нотки несогласия с глобализацией по американскому сценарию (что существенно сближало Пекин и Москву), то в последнее время на фоне укрепления авторитарных тенденций во внутренней политике слышатся заявления в поддержку глобализации и прослеживается готовность КНР возглавить этот процесс, если Соединенные Штаты попытаются уйти в экономический изоляционизм[560]; России же, судя по всему, не слишком нравятся глобализация и экономическая «десуверенизация» как таковые, вне зависимости от того, кто играет в этих процессах ведущую роль.
Таким образом, сегодня Россия находится в сложном положении, в которое она сама себя поставила: вернуть взаимопонимание с Западом возможно только на условиях Запада (как отметил Д. Трамп, «в нужное время все образумятся, и наступит прочный мир»[561]), которые Россия принимать очевидным образом не собирается, опасаясь по сути разрушения той внешнеполитической идентичности, которую создавала все последние годы. Извлечь же какие-либо внешнеполитические выгоды от сотрудничества со своими «союзниками» — от Сирии и Ирана до непризнанных никем больше республик — не представляется возможным. Какими будут следующие шаги Москвы, мы скоро увидим, однако, похоже, шансов на преодоление наших внешнеполитических «аномалий» остается все меньше. Не будет большим преувеличением говорить даже о конце внешней политики России[562] — она все более сводится к обсуждению маргинальных тем, а партнерами страны выступают либо изгои, либо наименее значимые в своих регионах государства, часто не имеющие серьезного влияния на политику соответствующих региональных объединений и союзов (а в последнее время и саму Россию начинают все чаще воспринимать как страну-изгой[563]).
И все-таки почему Российская Федерация — совсем еще недавно глобальная сверхдержава, а сегодня — одна из наиболее значимых стран «второго мира»; государство, обладающее крупнейшим в мире ядерным арсеналом и имеющее рычаги влияния на основные международные организации, ведет себя на мировой арене фактически как флюгер, меняющий свое отношение к наиболее значимым для себя союзникам в зависимости от ярких поворотов в жизни С. Милошевича, С. Хусейна, М. Каддафи или В. Януковича? Я думаю, что помимо некоторых особенностей характера президента В. Путина этому есть свои объяснения.
Во-первых, российская внешняя политика практически полностью свободна сегодня от любых ценностных ориентиров, которые становятся все более значимыми в современном мире. И Соединенные Штаты, и государства Европейского союза вне зависимости от того, боролись ли они с международным терроризмом и какими методами, были и остаются привержены соблюдению прав человека, расширению пространства демократии и неприятию тоталитарных режимов. Все это может проявляться в большей или меньшей степени, но сам подход не претерпевает изменений. Союзники выбираются сегодня на этой ценностной основе, и вряд ли можно надеяться на то, что Россия вернется в круг западных стран, пока ее лучшими друзьями будут Иран и Сирия, а выход на улицы Москвы или Санкт-Петербурга небольшими группами даже молча и без транспарантов будет заканчиваться в автозаках. Я ни в коем случае не утверждаю, что сами западные страны абсолютно последовательны в своей политике; они успешно выстраивают отношения с государствами, вполне диктаторскими и не разделяющими их ценности; но хочу подчеркнуть, что взаимовыгодные отношения — это одно, а стратегическое взаимодействие — совсем другое. И, собственно, сегодня Россия пришла именно к этому: покупать у нее нефть и газ готов практически каждый, но широкого круга «стратегических» друзей у нее нет и не предвидится.
Во-вторых, российская внешняя политика опирается на довольно шаткий фундамент понятий и принципов, трактуемых в давно устаревшей редакции. Так, например, Москва постоянно повторяет, что ее поддержка тех или иных режимов — даже в довольно сомнительных обстоятельствах — обусловливается приверженностью России соблюдению принципа государственного суверенитета и невмешательства в дела тех или иных стран извне. Между тем современное понимание суверенитета радикально отличается от тех трактовок, которые доминировали в период заключения Вестфальского мира. Носителем суверенитета практически везде называется народ — даже в тех странах, которые на деле не выглядят демократическими. И если не говорить о вторжении США в Ирак, то смены властей на Украине и в Египте, в Тунисе или (пока неудавшаяся) в Сирии совершенно не требуют внешней заботы о суверенитете этих стран, так как порождены требованиями того самого народа, который выступает его носителем согласно ст. 3 Конституции Туниса 1959 года, п. 2 ст. 2 Конституции Сирии 1973 года, ст. 5 Конституции Украины 1996 года, а также основных законов большинства стран мира. Россия отстаивает не современные принципы, а несовременные интересы отдельных обанкротившихся политиков — чего на постоянной основе не предпринимает сегодня ни одна крупная держава.
В-третьих, что крайне важно, в России внешняя политика занимает аномально значимое место в общественной жизни, какого она не имеет ни в одной из ведущих стран современного мира. В тех же США, на которые мы постоянно стремимся «равняться», внешнеполитические приоритеты кандидатов в президенты не выходили на первый план со времен завершения холодной войны: в последних пяти кампаниях основными темами были налоговые вопросы, организация здравоохранения, иммиграционная политика, проблемы меньшинств и их прав, контроль за оборотом оружия и борьба с терроризмом. В Европе тема внешней политики отошла на второй план еще раньше, практически полностью подменившись проблематикой отношения к ЕС и его институтам, — за пределами самой Европы у составляющих ее стран нет особых интересов (кроме так или иначе связанных с миграцией), и внешняя политика давно стала делом техническим. В России всё наоборот — вопросы позиционирования страны в мире, ее влияния и роли в международных процессах остаются исключительно важными для значительной части населения, и, судя по большинству опросов[564], эта ситуация не имеет шансов скоро измениться. Поэтому внешнеполитическая повестка обретает для власти совершенно особую ценность: заявления о реинтеграции постсоветского пространства, захват территории других государств или бряцание оружием на глобальной периферии непосредственно влияют на степень ее поддержки населением, которое ради геополитического «величия» готово смиряться со многими элементами жизненного неблагополучия.
Помимо всего сказанного, постоянная «смена вех» в российской внешней политике объясняется, на мой взгляд, и еще одним обстоятельством. Власть в России по целому ряду причин мыслит не в рамках парадигмы решения каждодневных рутинных задач, а разного рода «проектами» и «стратегиями». В основе ее действий (как в области экономики, так и внутренней и внешней политики) лежат некие умозрительные схемы, под которые она стремится «подгонять» действительность. Отчасти это обусловлено советской ментальностью многих представителей отечественной политической элиты, отчасти — стремлением убедить самих себя в своей способности реализовать грандиозные планы. Однако чем бы такой подход ни был вызван, он проявляется в постоянном сотворении неких grand projets, предполагающих, что существует палочка-выручалочка, которая может обеспечить России достижение на определенном этапе практически всех ее целей.
На протяжении последней четверти века можно выделить немалое число таких тем, которые довлели над принятием внешнеполитических решений. В 1990-е годы это было сначала представление о «единении» с Западом (1991–1998 годы), а позже — о необходимости сплотиться с нашими «старыми друзьями» и «воспользоваться прежними достижениями» (1999–2001 годы). В 2000-е к числу подобных тем можно отнести участие в «войне с терроризмом» как новую основу для укрепления отношений с союзниками (2001–2003 годы); концепцию «большой Европы», скрепленной энергетическими интересами и противостоящей Соединенным Штатам (2003–2005 годы); развитие Евразийского союза как новой имперской реинкарнации (с 2008 года и далее); знаменитый «поворот на Восток», в рамках которого Китай должен был заменить России весь остальной мир (начиная с 2012 года), и ряд других. Проблема этого «проектного» подхода заключается в том, что на каждом этапе власти рассматривали новую стратегию как способную дать ответ если не на все, то на большинство стоящих перед страной проблем. Ожидания были изначально завышенными, а факторы, которые могли помешать осуществлению вынашиваемых планов и которые были легко различимы еще до начала их реализации, не принимались в расчет. Именно эти завышенные ожидания и их последующий крах и вызывали «бешеные обороты» российского внешнеполитического «флюгера». Если бы цели изначально определялись как более скромные, а следование отдельным стратегиям не требовало отказа от реализации прочих программ, «шатаний» могло быть меньше, а результатов — больше. Проблема, однако, заключается также и в том, что на внешнюю политику переносились многие подходы, распространившиеся во внутренней, — а одним из важнейших из них уже в 2000-е годы стал переход к новым стратегиям до (и вне зависимости от) реализации предшествующих[565]. Идея удвоения ВВП в начале 2000-х, «национальные проекты» в середине десятилетия, амбициозная программа модернизации в 2008–2011 годах, стратегия развития Сибири и Дальнего Востока — ни одна из этих программ не была выполнена прежде, чем власти переключились на новые. Поэтому я бы сказал, что недоведение планов до логического завершения стало в Кремле стилем жизни, и в такой парадигме постоянная смена союзников и целей, задач и ориентиров представляется совершенно естественной — хотя от того не становится менее несовременной.
Российская внешнеполитическая «многовекторность», на деле выглядящая скорее неразборчивостью, должна была бы уступить место гораздо более структурированному подходу, основанному на адекватном понимании роли страны в современном мире. Вопрос о союзниках, который решается Кремлем всякий раз в очень драматичном ключе, следует разделить на два. С одной стороны, должен быть поставлен вопрос о том, союзником каких более сильных стран/союзов Россия намерена выступать. Это даст важный «якорь» для определения остальных приоритетов: по крайней мере станет понятно, что Москва будет «колебаться» вместе с выбранным союзником в отношении к другим державам «первого мира», и таким образом возникнет некий коридор возможностей, делающий внешнеполитический курс страны более предсказуемым. Четкая «связка» продемонстрирует политикам других стран, а также глобальным экономическим игрокам появление фактора, который будет удерживать Россию от неожиданных шагов, что после нескольких десятилетий крайней непоследовательности безусловно станет важным позитивным сигналом. С другой стороны, это обстоятельство сделает намного более простым и вопрос о том, кого Россия хочет и может считать своими союзниками (имеются в виду, разумеется, государства менее значимые и влиятельные на международной арене, в отношении которых Москва может выступать в роли старшего партнера). Если акцент будет сделан на демократические страны Запада, конфигурация будет одной, если на крупные авторитарные экономики — другой; однако в любом случае последовательность окажется выгоднее и рациональнее того мельтешения, в котором Россия провела практически все годы, прошедшие после распада Советского Союза.
Политика vs. экономика
Как страна «второго мира», Россия должна понимать, что ее возвышение (воспользуемся здесь общеизвестным китайским термином) зависит не от количества баллистических ракет в арсеналах, а от того, сколь устойчивым будет ее экономической рост и в силу этого сколь ценным будут считать союзничество с ней державы «первого мира», а также от того, сколь выгодно она сама сможет взаимодействовать с государствами «третьего». Именно парадигма хозяйственного роста и технологического развития должна находиться в центре российской внешнеполитической доктрины — но упоминалась она в этом ключе лишь на протяжении нескольких лет президентства Д. Медведева[566], а потом была снова забыта.
У России, на мой взгляд, на рубеже ХХ и XXI столетий существовали все предпосылки для того, чтобы стать незаменимым экономическим партнером Запада — и прежде всего Европейского союза. Огромные ресурсы, которые на внутреннем рынке были в разы дешевле, чем на мировом, и могли в этой ситуации сыграть такую же роль в развитии сборочного производства, какую в Китае играла дешевая рабочая сила; квалифицированный персонал, еще не испорченный современным российским «образованием» и не слишком требовательный к высоким доходам; относительно либеральная налоговая система, которая могла оставаться таковой еще долгие годы, если бы правительство умерило свои авторитарные и геополитические амбиции, — все это могло сделать Россию идеальным местом для европейских инвестиций. История показывает, что «догоняющие» страны не могут совершить первый рывок, опираясь лишь на собственные силы: инвестиции и технологии из развитых держав критически важны для «запуска» современного экономического роста[567]. При этом в наше время, когда около 60 % торгового оборота между развитыми странами представлено продукцией схожих товарных групп[568] (т. е. приходится на так называемый intrasector, или intra-industry, trade), не стоит надеяться на то, что Западу можно оставаться интересным, лишь поставляя ему сырье. Примитивное разделение труда времен А. Смита сегодня уже никого не возбуждает; даже самые крупные сырьевые рынки на деле являются довольно маргинальными. Вся международная торговля нефтью (22,3 млрд бар. в 2015 году) оценивается в $1,17 трлн; торговля газом (1,04 трлн куб. м) — в $298 млрд[569]. Суммарно эти цифры не превышают 70 % экспорта Китая и 25 % экспорта стран ЕС. Совокупная стоимость всей потребляемой в США нефти с 1981 по 2015 год снизилась с 6,73 до 2,1 ВВП страны[570], а в Европе процесс идет еще быстрее — поэтому «энергетический шантаж», подобный тому, который пытались применить к Западу ближневосточные страны в 1973–1974 годах, становится менее действенным. В современном мире нельзя быть «энергетической сверхдержавой» — но Россия этого не поняла: почти 80 % всех экономических переговоров В. Путина с иностранными политиками и бизнесменами в 2005–2013 годах были зациклены исключительно на газе и нефти. При этом накопленные прямые иностранные инвестиции в Россию (за исключением банковских кредитов) составили на 1 октября 2017 года лишь $349,7 млрд — приблизительно столько же, как в Австрии[571], и на их рост рассчитывать сейчас сложно.
Важнейшей задачей в отношениях со странами «первого мира» должна была бы стать всемерная хозяйственная интеграция России в этот экономически более «продвинутый» мир. Такая интеграция не является угрозой политическому суверенитету, даже понимаемому как гарантия возможности любого беспредела во внутренней политике: чтобы понять это, достаточно посмотреть на Турцию, экспорт которой с 2006 по 2016 год вырос на 2/3 (российский, для сравнения, сократился за этот период на 5,2 %) и которая за этот срок привлекла более $160 млрд прямых иностранных инвестиций[572], несмотря на явно авторитарные тенденции во внутренней политике. В современных условиях такой стране, как Россия, необходимы высокая инвестиционная привлекательность, свободно конвертируемая валюта (разговоры о ней, напомню, идут с послания В. Путина Федеральному собранию 2003 (!) года[573], но никакого прогресса в этом отношении так и нет), безвизовый режим въезда не для подданных новоявленных царьков из ее бывших колоний, а для граждан стран, существенно опережающих нас в экономическом отношении (я не говорю про то, что та же Турция в одностороннем порядке отменила визы для граждан большинства стран ЕС еще в начале 1990-х годов [сегодня они могут приезжать в страну даже по национальным удостоверениям личности и оставаться на неопределенный срок[574]]; Украина сделала это в 2005-м[575], и даже Белоруссия предприняла робкий шаг в январе 2017-го[576]). В инструментарии внешней политики России не должно в принципе иметься таких мер, как экономические санкции против развитых стран; если очень неймется, их можно применить к неудачливым мелким соседям, но уж точно не к тем государствам, от которых зависят перспективы собственного экономического роста. При этом следует отметить, что в обоих случаях (что с санкциями против ЕС и США в сфере торговли сельскохозяйственными товарами, что с санкциями в отношении Турции) Россия ввела ограничительные меры либо первой, либо на гораздо более широкий круг товаров, чем противоположная сторона. Опять-таки, пресловутое «импортозамещение», рекламируемое чуть ли не как главная экономическая задача, стоящая перед Россией, на деле выглядит самым ясным сигналом нежелания страны встраиваться в современную глобальную хозяйственную систему из всех возможных сигналов, которые могут быть посланы потенциальным партнерам. Если правительство так четко заявляет, что считает показателем собственной успешности отказ от торгового партнерства, кто поверит, что страна в будущем окажется открыта для торговли и инвестиций?
Иначе говоря, современная российская внешняя политика объективно сокращает, а не повышает привлекательность страны для крупных международных игроков — и, следовательно, создает в мире впечатление о том, что экономически без России вполне можно обойтись: свои нефть и газ страна продолжит продавать при любой внешнеполитической конъюнктуре, а в качестве инвестиционного партнера она уже практически списана со счетов. Конечно, такая политика предполагает ограничение участия иностранных игроков и, соответственно, делает управление национальной экономикой проще — но все же следует напомнить, что сегодня внешнеполитический вес страны все больше определяется ее экономической «мягкой силой» и технологическим развитием, а не военным потенциалом. Быть «большой Северной Кореей» ныне не просто неприлично, но и невыгодно.
В той же степени несовременно и позиционирование России в отношении своих «союзников» из «третьего мира». Прежде всего стоит заметить, что сама ориентация на страны бывшего постсоветского пространства с экономической точки зрения иррациональна по крайней мере по двум причинам. С одной стороны, важнейшей предпосылкой экономической модернизации для развивающихся стран является налаживание отношений со странами, уже успешно индустриализировавшимися, — но это никак не относится к бывшим советским республикам, которые остаются, как и Россия, экспортерами сырья (причем доля его в экспорте даже превышает российские показатели [например, в Казахстане она в 2016 году достигала 87 % против 71 % в России]). Даже если забыть об историческом и социокультурном контексте такого союзничества, чисто экономически оно не может принести никакого синергетического эффекта[577]. С другой стороны, и это уже отмечалось, стремящаяся к модернизации и развитию страна всегда выбирает своим партнером государство или регион, которые могут обеспечить намного бльший, чем она сама, спрос на производимую продукцию. Сегодня, когда все среднеазиатские и закавказские республики бывшего Советского Союза имеют совокупный ВВП, составляющий (по текущему обменному курсу) не более чем 22 % российского[578], прокламируемая ориентация на интеграцию с ними выглядит приблизительно так же, как выглядела бы ориентация Китая на рубеже 1980-х и 1990-х годов не на США, а на Вьетнам, Лаос и Камбоджу или ориентация Турции в начале 2000-х годов не на ЕС, а на Ливан, Иорданию и палестинские территории. Современная экономическая логика настоятельно требует делать приоритетом сотрудничество со странами, располагающими бльшими экономическими возможностями, чем твои собственные, — в иных случаях примеров успешной модернизации вообще нет. Россия же и в этом отношении приносит экономику в жертву своим геополитическим амбициям.
Кроме того, пора признать, что эти амбиции не просто обходятся России дорого — они стоят ей существенно дороже, чем утверждение своих позиций в мире обходится для любой современной развитой страны. Рассмотрим в связи с этим только три обстоятельства.
Во-первых, это политика в отношении бывших стран — сателлитов СССР. Как правопреемник Советского Союза, Россия получила права требования к ним по выданным этим государствам советским кредитам, общая сумма которых приближалась к $200 млрд. В 1990-е годы, когда до «укрепления позиций на мировой арене» российскому руководству особенно не было дела, ситуация с этим долгами оставалась подвешенной — однако с приходом к власти В. Путина и переключением внимания на бывших советских союзников началась вакханалия по списанию долгов, часто приурочивавшихся к визитам главы российского государства в соответствующие страны. Процесс продолжается и по сей день, хотя и с небольшим перерывом. Чемпионом «в общем зачете» стала Куба (в 2014 году было списано $31,7 млрд); на втором месте с небольшим разбросом оказались Ирак ($12,0 млрд в 2008 году), Монголия ($11,1 млрд в 2003-м) и КНДР ($11,0 млрд в 2012-м). «Бронзу» разыграли Сирия ($9,8 млрд в 2005-м) и Вьетнам ($9,5 млрд в 2000-м). Всего за годы пребывания В. Путина в Кремле мы простили должникам около $140 млрд — сумму, которая 3–4 раза покрыла бы дефицит федерального бюджета 2016 года и превышает все федеральные трансферты российским регионам с 2000 по 2015 год[579]. При этом стоит заметить, что далеко не все страны-должники являлись и являются потенциальными банкротами. Списание долгов Алжиру и Ливии в 2006 и 2008 годах на общую сумму $9,1 млрд произошло в условиях, когда эти страны добывали в совокупности 3,8 млн баррелей нефти в день, а цены на «черное золото» находились вблизи максимальных значений. Ангола, облагодетельствованная на $3,5 млрд, является второй нефтедобывающей страной Африки после Нигерии. Почему было бы не взять поставками нефти — пусть в рассрочку на 20 лет — и направить ее покупателям российского сырья? Никарагуа хочет строить канал между Атлантическим и Тихим океаном, который может стать конкурентом Панамскому, — отчего не конвертировать долг в часть капитала этого предприятия, вместо того чтобы удовольствоваться признанием ею Абхазии и Южной Осетии суверенными государствами? Монголия накануне очередного списания долга по показателям роста ВВП (например, на 17,26 % в 2011 году) и промышленного производства (на 37,4 %) выступала мировым рекордсменом[580] — но это в Москве никого не интересовало. Россия не только не пыталась конвертировать долги СССР в реальные активы, но даже не сочла возможным ни разу выставить эти обязательства на международный «голландский» аукцион. Еще одной особенностью «работы с долгами» была четкая связь наших геополитических амбиций с масштабами списания: в 2000–2007 и 2012–2015 годах, когда главный кремлевский кабинет занимал В. Путин, Россия списывала в среднем по $14 млрд (!) ежегодно — а за все четыре года президентства Д. Медведева прощено было… менее $1 млрд. Наш «национальный лидер» поставил тем самым абсолютный рекорд: ни один глава государства в мире за время своего правления не прощал такого количества долгов другим правительствам. Выводы, на мой взгляд, очевидны — как очевидно и полное отсутствие выгод, полученных Россией от поблажек бывшей клиентелле.
Во-вторых, не менее «экономически выгодная» внешняя политика проводится Россией в отношении стран, которые Кремль стремится сделать союзниками Москвы, сплачивая их вокруг Российской Федерации, — тут речь идет прежде всего о постсоветских государствах. Классическим примером является Белоруссия — страна, которая первой из европейских республик СССР пошла по пути установления авторитарной модели и шаги которой сам В. Путин уверенно повторяет в своей политике[581]. С середины 1990-х годов, когда для создания видимости постсоветской реинтеграции Б. Ельцин и А. Лукашенко образовали так называемое Союзное государство, Россия стала мощным финансовым донором Белоруссии, поставляя дружеской республике нефть и газ по внутрироссийским ценам (что позволяло перепродавать нефтепродукты в Европу и поддерживать белорусский «социализм»), обеспечивая рынок для белорусских товаров и выделяя Минску многочисленные кредиты. Сегодня невозможно определить, во сколько именно обошлась Москве эта «мужская дружба», сам Кремль озвучил недавно цифру российских трансфертов Белоруссии в $30,8 млрд за пять лет[582]; большинство экспертов говорит о более чем $100 млрд за последние 20 лет[583]; эти цифры в целом неплохо коррелируют друг с другом. Если исходить из данных оценок, то получится, что российская помощь Белоруссии составляла в среднем 0,65 % ежегодного ВВП нашей страны на протяжении двух десятилетий; для сравнения скажу, что финансовая и военная помощь США Израилю с 1946 по 2017 год составила $134,7 млрд, что соответствует в среднем 0,03 % американского ВВП ежегодно[584]. У меня нет сомнения в том, что случай Белоруссии является самым масштабным примером помощи, устойчиво предоставлявшейся одной страной другой в течение последнего столетия. Приблизительно таким же образом выстроено и «сотрудничество» России с большинством остальных государств постсоветского пространства: финансовые подачки рассматриваются не более как средство покупки лояльности (самым примечательным примером является, конечно, стремительное предоставление Украине кредита в $15 млрд после того, как В. Янукович перед своим свержением отчаянно отказался подписать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом в 2013 году[585]: $3 млрд, которые Россия физически успела выдать, она сегодня пытается востребовать в международных судах[586]). Но Украина — это особый случай; в большинстве других мы и не стремимся получить наши «кредиты» обратно: в 2013 году Россия простила $500 млн Киргизии, в 2014-м — $865 млн Узбекистану, и список наверняка не закрыт. Похоже, что опыт «геоэкономической экспансии» Советского Союза нас ничему не научил.
В-третьих, следует заметить, что Россия оказывается неспособной капитализировать свои политические «авансы» в подавляющем большинстве случаев, делая внешнюю политику своего рода destroyer of value не только для собственного внутреннего рынка, но и для зарубежных проектов. Примеров можно привести множество: достаточно вспомнить, например, активную помощь России Венесуэле (было выдано более $12,7 млрд кредитов и вложено в нефтяные проекты около $8 млрд[587]). На сегодняшний день месторождения, которые должны были выйти надобычу 600 тыс. бар. нефти в сутки, дают менее 100 тыс., а кредиты страна перестала обслуживать еще в ноябре 2017 года[588]. Россия продолжает оставаться чуть ли не единственным лояльным экономическим партнером страны, отношения с которой намерен разорвать даже Китай. Или Иран: Россия на протяжении многих лет выступала наиболее последовательным сторонником снятия с Тегерана международных санкций и неоднократно рисковала своей репутацией, защищая Иран на мировой арене. Сегодня наши страны выступают союзниками в Сирии, что серьезно подрывает международное реноме России. При этом после снятия санкций с Ирана российский экспорт в эту страну вырос — однако прирост в 2016 году составил всего $865 млн[589] (для сравнения — одна только сделка по покупке новых самолетов компанией Iran Air у корпорации Boeing оценивается в $16,6 млрд[590]); на долю России в прошлом году пришлось всего 3,0 % иранского импорта[591]). Неудачами окончились попытки России закрепиться на рынке Ливии, несмотря на то, что Москва в 2011 году не попыталась блокировать западную интервенцию в страну на фоне быстротекущей гражданской войны; ничем не может похвастать Россия и в Ираке, которому Кремль списал около $12 млрд в надежде на мифический «режим наибольшего благоприятствования» для российских нефтяных компаний. Примеры можно продолжать.
Фундаментальной причиной того, что российская внешняя политика «не дружит» с экономикой, я бы назвал главную ментальную особенность наших руководителей: в их сознании мир нарисован черно-белыми красками и вся глобальная политика якобы выстроена в win-lose парадигме: если кто-то выиграл, то другая сторона проиграла. Именно этот подход и лежит в основе «размена» реальных экономических ресурсов на иллюзорные политические преференции: Россия готова на определенные шаги, которые, по ее мнению, «оторвут» ту или иную страну от ориентации на США или Европу или помогут ей занимать «независимую» позицию по отношению к недружественным России странам. В Кремле, похоже, действительно считают, что сохранение режима Н. Мадуро сильно расстроит Вашингтон или что лишившийся российской подпитки А. Лукашенко завтра же приведет Белоруссию в ЕС и НАТО. Подобный подход катастрофически несовременен в условиях, когда большинство стран стремятся выстраивать отношения по принципу win-win: это хорошо видно даже на примере политики США, где Д. Трамп, в ходе избирательной кампании обещавший отгородиться стеной и пошлинами от Мексики и «поставить на место» Китай, довольно быстро осознал, что экономические выгоды нельзя приносить в жертву красивым политическим лозунгам и следует искать пути согласования интересов различных игроков. Россия экономически и политически выиграла бы, поддержав в свое время свержение С. Хусейна и договорившись с США и их союзниками о конвертации ее долга в качественные активы при новом правительстве; то же самое относится и к Венесуэле, где уже пора всматриваться в контуры нового постчавистского порядка; и даже к Украине, в которой еще в начале 2000-х можно было сыграть отличную «партию» с ЕС, сделав эту постсоветскую республику полем пробного взаимодействия России и Европейского союза. Однако все это пустые пожелания — Кремль не видит возможности более сложных экономических «игр» во внешней политике. Возможно, это обусловлено советской идеологической «закалкой»; возможно, в сырьевой стране сложно понять, что экономический результат может рождаться из интеллекта, а не из недр; возможно, есть и иные причины — но результат один, и он очевиден: российская внешняя политика не «производительна», а исключительно затратна.
Есть, вероятно, и иное обстоятельство: партнеры России всегда понимают, что Москва поддерживает их практически исключительно по политическим соображениям и в случае изменения конъюнктуры такая поддержка может неожиданно закончиться (как это бывало в случаях с Украиной, Турцией, рядом постсоветских республик и эпизодически даже с Белоруссией). В таких условиях экономическое взаимодействие, которое обычно выступает лучшим примером проявления «мягкой силы», рассматривается как «тихое закабаление» страны, и ее правительство постоянно стремится выстраивать альтернативы в своей экономической политике (как делают сегодня все без исключения постсоветские страны, серьезно опасающиеся российского политического и социокультурного влияния). Россия, как старый дрессировщик, пытается разговаривать со своими потенциальными партнерами как с волками, которых нужно превратить в домашних собак, — но волки пока не очень верят дрессировщику, постоянно срывающемуся с мяса на кнут, и по-прежнему «глядят в лес». «Мягкая сила», которую представляет современная экономика, очень плохо сочетается с истерическим и малопредсказуемым внешнеполитическим курсом — а так как внешняя политика в России выступает инструментом манипуляций с самыми низменными политическими инстинктами, средством повышения экономического благосостояния страны ей никогда не стать.
Элементы несовременности российской внешней политики можно обсуждать и дальше, однако результаты ее выглядят очевидными. На протяжении последних двух столетий Россия трижды ввязывалась в то, что можно назвать холодной войной (хотя специалисты, посвятившие жизнь изучению данного феномена в узком смысле слова, могут с этим не согласиться).
В первой половине и в середине XIX века Российская империя, обеспечив себе позиции лидера в континентальной Европе, довольно скоро превратилась в самую реакционную силу в этой части мира. Начиная с 1820-х годов Россия стремилась любыми силами поддерживать status quo, несмотря на постепенно разворачивавшиеся в Европе процессы перемен. Подавив польское восстание в 1830–1831 годах и революционные выступления в Венгрии в 1848–1849 годах, имперское правительство окончательно отвернулось от Европы, замыкаясь в себе и укрепляя консервативный тренд, и Европа ответила ей взаимностью. К началу 1850-х годов противостояние было в разгаре, и столкновение, пусть и локальное, выглядело неизбежным. Первая Крымская война, талантливо спровоцированная требованиями предоставить России статус «протектора» христианского населения Османской империи и последовавшим захватом Молдавии и Валахии, стала высшей точкой этого исторического периода, ознаменовавшей поражение России в первой холодной войне. В результате империи пришлось пойти на радикальные реформы, чтобы оказаться способной снова сблизиться с Европой в конце XIX века, когда европейские страны стали важнейшими партнерами России в ее экономической модернизации, а сама страна вернулась в большую европейскую политическую игру.
В середине ХХ века Советский Союз, оказавшись в статусе одной из двух самых мощных в военном и идеологическом отношении стран мира, вновь втянулся в масштабное противостояние — на этот раз с США и в очередной раз из-за неуемного желания сначала утвердить свою сферу влияния в Центральной Европе, затем доказать свою «независимость», отказавшись от «плана Маршалла» и запретив своим сателлитам воспользоваться открывавшимися им возможностями, и, наконец, ввязавшись в показательное противостояние с Западом на глобальной периферии, подчеркивая при этом свои противоречия с Америкой, ни одно из которых не было при ближайшем рассмотрении неразрешимым. На протяжении этого периода мы видели те же тренды, что и ранее: СССР оставался закрытой страной, стремился расширить свое политическое влияние — но при этом его экономика все больше отставала от американской, а возможности экспансионистской политики сокращались. Война в Афганистане стала аналогом Крымской войны прежнего столетия: СССР не смог одержать в ней победы, а катастрофическое экономические положение вынудило страну начать реформы, завершившиеся распадом союзного государства и очередным сближением новой России с западным миром.
Происходящее в последние годы я считаю третьей холодной войной[592], в которую Москва в очередной раз ввязывается по собственной воле и вопреки элементарной логике. Особость этому случаю придает, во-первых, то, что Россия впервые оказывается намного экономически слабее даже не основного соперника (если считать им Соединенные Штаты), но и ближайшего соседа, Европы; во-вторых, то, что у Кремля вообще нет союзников (в отличие от времен холодной войны ХХ века, когда таковые все же имелись, хотя и представляли собой типичные «клиентские государства»), а его сфера влияния выглядит самой узкой с момента начала серьезного противостояния с Западом; в-третьих, то, что Россия имеет сегодня открытые границы, позволяющие и гражданам, и капиталам свободно «перетекать к противнику», что практически полностью лишает Кремль шанса на успех. При этом, как и в первых двух случаях, Россия выступает явным инициатором очередного противостояния, что делает параллели еще более зримыми. Вряд ли есть основания полагать, что новая холодная война закончится иначе, чем прежние: скорее всего, мы снова увидим поражение Москвы, глубокий идеологический кризис и вынужденные реформы, которые будут продиктованы необходимостью выжить, а не потребностью развиваться.
Заканчивая книгу именно главой о российской внешней политике, я не могу не констатировать, что в данной сфере несовременность страны — как ее элиты, так и граждан — проявляется сегодня наиболее выпукло, а состояние, в котором мы все находимся, предполагает минимальные шансы на изменения к лучшему.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Россия — страна, безусловно, особенная, как это любят подчеркивать кремлевские идеологи, однако сложно заметить хотя бы одну сферу, в которой такая особость указывала бы на ее прогрессивный характер и выгодно отличала ее от остальных народов. Пройдя сложный исторический путь, Россия на всем его протяжении была — и по сей день остается — окраиной развитого мира. До поры до времени можно было говорить о том, что этот мир евроцентричен, но в последние десятилетия на фоне подъема Азии это перестает быть очевидным — и все равно Россия сохраняет свой статус окраины различных развитых или развивающихся регионов[593].
Эта периферийность издавна осознавалась в стране и по большей части не считалась чем-то негативным. Территориальная экспансия практически всегда оправдывалась необходимостью обороны от соседей — я бы даже сказал, что находиться на периферии было для России традиционно удобным. Ее масштабы выставлялись фактором, который помогал стране обеспечивать ее всемирно-историческую миссию; ее отчасти консервативная культурная и религиозная традиция представлялась средством стабилизации часто «сбивавшейся с пути» Европы; даже ее относительно несовременная экономика не рассматривалась как проблема. И, стоит признать, несколько веков такая стратегия приносила свои результаты.
Причиной успешности России на протяжении всей ее тысячелетней истории была способность страны — опять-таки как окраинной цивилизации — впитывать в себя достижения любых возникавших поблизости «центров» — будь то Византия, Монгольская империя или Европа Нового времени. В свою очередь, способность к впитыванию чужого опыта определялась характером социальных и хозяйственных технологий, той vie matrielle[594], которая позволяла миру развиваться относительно равномерно. На вызовы доиндустриальной эпохи Россия отвечала расширением территории, ростом населения и обретением дополнительных природных ресурсов; на угрозы индустриальной она реагировала массовым импортом технологий, населения и капитала из передовых промышленных держав. И, наверное, все могло продолжаться в том же духе и дальше, если бы драматический ХХ век не внес исключительно значимые коррективы в основные направления развития как мира, так и России.
Мы уже цитировали старца Филофея, утверждавшего, что в истории было «два Рима» и «третий стоит», «а четвертому не быти»[595]. Эта мифологема хорошо описывает реалии той страны, в истории которой заметны три рецепции, а четвертой, судя по всему, случиться не суждено — прежде всего потому, что в ХХ веке произошли два события, радикально изменившие исторический путь и перспективы развития нашей страны.
С одной стороны, впервые Россия попыталась преодолеть свое традиционное положение и превратиться из периферии в центр. Опыт Советского Союза показал, что это невозможно. На основе перенятых социальных, политических и хозяйственных технологий построить глобальный центр не удалось. Путь российского марксизма и эволюция моделей «Жигулей», выпускавшихся на построенном итальянцами заводе, поразительно похожи — в обоих случаях технологии деградировали, и только мир, в котором они изначально появились, демонстрировал способность к их творческому развитию — в направлении ли цивилизованной социал-демократии или современного автомобилестроения. Однако попытка, которая все же была предпринята, оказалась исключительно отчаянной — за идею перемещения с периферии в центр мировой экономики и политики власти готовы были положить в могилы бльшую часть собственного народа. Прямые демографические потери России в ХХ столетии оцениваются современными демографами не менее чем в 76 млн, а общие — в 113–137 млн человек[596] — и я не говорю о том невообразимом количестве труда и средств, которые были потрачены на достижение недостижимых целей. Именно эта радикальная попытка «впрыгнуть в современность» — не столько перенять нечто у соседей, сколько «обогнать» их — и сделала Россию окончательно несовременной страной («лучшие умы» которой до сих пор мечтают о «перескоке» сразу через несколько технологических укладов и о «закрывающих технологиях», которые откроют для нее невиданные перспективы[597]).
С другой стороны, сам развитый мир радикально изменился с формированием постиндустриального общества[598]. Создав новые технологии в материальном производстве и сфере услуг, коммуникациях, образовании и медицине, западный мир достиг новой ступени развития, на которой объектом экспорта могли быть уже не невозобновляемое сырье и не требующие постоянного приложения одних и тех же усилий промышленные товары, а технологии, использование которых не предполагает возможности их «перехвата» и развития. Продавая компьютерные программы, их производитель отчуждает лишь копии, в то время как только он, обладая опытом создания того или иного софта, способен разработать его следующую версию; продавая лекарства, производитель не раскрывает рецептуры их производства и сразу же начинает готовить новые и т. д. Иначе говоря, мир XXI века распадается на часть, в которой производятся образы будущего, и на часть, где они потребляются, — при этом первая получает в свое распоряжение источник своего рода неограниченного богатства[599], воссоздать которое на глобальной периферии исключительно сложно. В такой ситуации рецепции, в которых Россия была столь искусной, резко теряют в своей значимости, а для самостоятельного развития с учетом истории ХХ столетия не остается ни сил, ни средств, ни опыта.
В новом мире XXI века, в котором сейчас очутилась наша страна, отчетливо выделяется три общности, которые уже отметили многие авторы — хотя каждый с собственной спецификой. Наиболее удачной представляется мне категоризация, предложенная с акцентом на политические процессы Р. Купером на рубеже тысячелетий, когда этот британский автор предложил разделить все страны на современные, постсовременные и досовременные (modern, post-modern и pre-modern)[600]. Хотя его классификация предполагала, что Россия — наряду, например, с США и Китаем — относилась к числу современных стран[601], cегодня, как мне кажется, это уже не столь очевидно.
Особенной чертой начавшегося тысячелетия стало появление регионов и государств, в которых развитие как бы обенулось вспять. При этом причины такого положения вещей в большинстве случаев находятся внутри самих этих стран. Многие африканские государства — как, например, Кения — в момент обретения независимости были богаче тогдашней Южной Кореи, но сегодня по показателю подушевого ВВП отстают от нее в 15–20 раз[602]. Целый ряд стран Ближнего Востока, принявшие в 1960–1970-е годы вполне современные программы модернизации, позднее обратились либо к диктатурам, либо к религиозному фанатизму, став одними из самых бедных регионов мира. Венесуэла, наиболее экономически успешная страна Латинской Америки, в 1970 году лишь немного отстававшая по уровню подушевого ВВП от развитых стран Западной Европы[603], увлеклась безумными идеями «социализма XXI века» и сегодня вместе с некоторыми своими соседями уверенно идет к национальной катастрофе. Если говорить в целом, то, несмотря на впечатляющий технологический и социальный прогресс последних десятилетий, более 27 стран довольствуются ныне меньшим подушевым ВВП, чем они имели в 1985 году[604]. Все эти страны по-своему особенные, но их главная особенность состоит в неспособности развиваться, в устойчивой и уверенной экономической, социальной и интеллектуальной демодернизации. Собственно этот тренд и есть то направление, по которому сегодня уверенно идет и наша несовременная страна, силы которой подорваны бурным ХХ веком, а ориентиры «сбиты» скоростью и масштабами технологической революции последних десятилетий.
Формирующийся на наших глазах глобальный pre-modern world представляет собой уникальный феномен, характеризующийся тремя основными чертами.
Во-первых, все страны, которые могут быть к нему причислены, — а я бы отнес к таковым некоторые погрязшие в этнических и религиозных противостояниях страны Африки, большую часть государств Ближнего Востока и Центральной Азии, Северную Корею и (до недавнего времени) Мьянму, а также страны Латинской Америки, увлекавшиеся социалистическими экспериментами (от Кубы до Венесуэлы), и, с некоторыми оговорками, ЮАР — отличаются уверенной деградацией системы управления. Она становится более бюрократизированной и менее эффективной; государство тратит на самое себя все возрастающую долю бюджетных поступлений; нарастает милитаризация или политическая роль военного сословия; предлагаемые новые управленческие методы оказываются все более простыми и напоминающими волюнтаристское ручное управление; наконец, все больше ответов на волнующие общество вопросы находится на сугубо идеологическом, а не рациональном уровне. Практически во всех странах, отворачивающихся от современности, растет прямое государственное участие в экономике (я имею в виду не масштабы перераспределения национального достояния через бюджетные каналы, а прямой контроль правительства над отдельными секторами экономики или крупными компаниями). При этом процессу примитивизации управления придается настолько существенное идеологическое значение (можно видеть рассуждения об особой роли государства в России или отсылки к революции — не важно, исламской или боливарианской — в Иране или Венесуэле), что формирующийся тренд не может быть пересмотрен без фактического отказа от всей избранной политической и социальной модели. Политическая элита «захватывает» общество[605] и подчиняет его своим интересам — иногда идеологизированным, почти всегда клептократическим, но ни в одном случае не соответствующим глубинным чаяниям большей части населения. Выход из подобного тупика, как показывает история, чреват масштабными социальными катаклизмами и следующими за ними длительными периодами разочарования и апатии.
Во-вторых, большинство несовременных стран характеризуются не только упрощающейся системой управления, но и примитивизацией экономики. Чем большая роль отдается государству и меньшее значение придается частному конкурентному бизнесу, тем чаще центральное место в народном хозяйстве занимают аграрный или сырьевой сектора. Высокоорганизованные сырьевые экономики, выстраивающие на этой основе новые сегменты экономики, были и остаются редкими исключениями — в большинстве же случаев экономика стремится к максимальному упрощению, как только общество лишается здоровой политической конкуренции. Именно поэтому страны, попытавшиеся было пойти по пути «социалистической индустриализации» после обретения независимости и установления однопартийных или персоналистских диктатур, очень быстро продемонстрировали неспособность создания современной саморазвивающейся экономики и деградировали до уровня производителей сырья. Советскому Союзу, чтобы в конечном итоге повторить тот же путь, потребовались намного более продолжительный срок и политическая катастрофа, но в итоге деиндустриализация настигла и Россию, постепенно превратив страну в «энергетическую сверхдержавку»[606] и доведя ее зависимость от импорта почти до абсолюта даже в тех отраслях, которые давно уже освоили ранее отстававшие, а сейчас интегрировавшиеся в глобальную экономику страны Восточной Азии. Пока, насколько можно судить, ни одна страна, прошедшая за последние полвека путь от попыток индустриализации до сырьевого государства, не смогла развернуть этот тренд вспять: неразвивающийся мир постепенно начинает убеждать самого себя в благах не-развития — последствия чего можно наблюдать уже на разных континентах. Учитывая, что большинство модернизирующихся стран достигают все бльших успехов в промышленном развитии, а постиндустриальный мир стоит на пороге самой масштабной роботизации в истории, странам, утратившим свои позиции в глобальном разделении труда, практически ничего не остается, кроме как надеяться на относительно случайные колебания сырьевых цен и рост спроса на природные ресурсы в обществах «золотого миллиарда».
В-третьих, современная эпоха приносит еще одно новшество, практически неизвестное миру XIX и ХХ cтолетий, — массовую миграцию с мировой периферии в центр. Долгие десятилетия миграция была уделом народов, создававших наиболее совершенные средства передвижения и обретавших оригинальные технологии освоения пространства. Это дало европейской цивилизации (частью которой была и Россия) власть над миром через процессы вестернизации. Однако в последние полвека тренд изменился: развитый мир стал создавать такие богатства, что поиск его жителями иных мест приложения своих способностей стал контрпродуктивен. Эмиграция сократилась в десятки раз и стала процессом довольно экзотическим — в то время как в остальном, менее развитом мире она начала набирать небывалые темпы. Сегодня масштабный отток исторического населения не только указывает на существующие в стране проблемы, но и делает практически невозможным их преодоление, так как, с одной стороны, неудачливое общество покидают те, кто обладает наиболее высокой квалификацией и готов к риску и предпринимательству, и, с другой стороны, уезжают прежде всего те, кто недоволен политическим режимом и состоянием гражданских свобод и, следовательно, в иных условиях был бы заинтересован в реальной социальной модернизации. Наиболее масштабные потоки эмигрантов четко указывают на самые безнадежные с точки зрения развития регионы планеты; за последние десять лет самый большой отток граждан в пропорции к населению фиксируется в Ливии, Никарагуа, на Ямайке, Гаити и в Доминиканской Республике: потери во всех этих случаях составляют от 3,4 до 5,7 % первоначального числа жителей[607]. Россия на этом фоне выглядит вполне «достойно»: с момента краха авторитарной системы в конце 1980-х годов страну покинули более 2,6 млн человек, а число выходцев из России, постоянно проживающих в Европе и Северной Америке, превысило к середине 2010-х годов 5,2 млн[608]. Это тоже задает довольно понятный тренд, так как, постоянно подпитывая развитые страны своими талантами, периферийная страна не может адекватно развиваться. Несовременность России в данном случае подчеривается тем, что она является сейчас единственной постимперской страной, из которой происходит массовый отток населения в другие центры европейской цивилизации и даже в отдельные районы ее бывшей периферии.
Три отмеченных тренда, рассмотренные в совокупности, порождают явление, которое я называю воронкой демодернизации. Все они взаимосвязаны и подталкивают друг друга. Ужесточение политических порядков и нарастание волюнтаризма подрывают основы предпринимательства и усиливают желание современных граждан покинуть страну. Оба эти тренда замедляют развитие конкурентного сектора экономики и переводят государство в «рентный» режим функционирования, который еще больше отдаляет его от народа. Наконец, нарастающая эмиграция консолидирует «молчаливое большинство», сокращает социальный капитал, минимизирует межличностное доверие и подрывает основы для воспроизводства ответственных элит. Попав в такую воронку, общество не может самостоятельно из нее выйти, становясь все менее современным. Единственный шанс на спасение дает максимально полное принятие глобализации и интеграция как в мировое экономическое пространство, так и в региональные политические объединения — но для этого необходима готовность политической элиты по сути отказаться от собственных власти и привилегий, что может случиться лишь в условиях катастрофического кризиса.
На заре XXI века демодернизация становится не менее распространенным процессом, чем модернизация. Мир, который долгое время казался движущимся в направлении относительного равенства, сегодня разделяется на отдельные фракции, как какое-нибудь сыпучее вещество в непрекращающем свою работу гигантском сепараторе. Современные страны становятся все современнее (в том числе используя ресурсы и граждан остального мира), а несовременные — все более архаичными (отторгая при этом тех, кто не согласен с архаизацией, и подчиняя свою деградирующую экономику нуждам индустриальных и постиндустриальных держав). Мы присутствуем при рождении своего рода «расколотой цивилизации» с ее стремительно формирующимися полюсами богатства и бедности, успехов и неудач[609]. В таких условиях закрепление страны в числе откровенно несовременных, осуществляемое в интересах узкого круга вполне глобализированной элиты, представляет собой пример масштабного национального предательства.
В свое время Л. Толстой писал, что «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»[610]. Это, видимо, можно отнести также к странам и народам. За крайне редкими исключениями, современные страны объединены приверженностью правам и свободам человека; готовы принимать практически любые социальные новации; признают успешность каждого гражданина условием и основой успеха всего общества; стремятся быть толерантными и максимально эффективно участвовать в процессах глобализации. В отличие от них несовременные общества каждое на свой лад обосновывает доминирование интересов «государства» над интересами общества и граждан; по идеологическим или религиозным основаниям утверждают примат традиционного над новаторским; изобретают самые разнообразные методы регулирования элементов общественной жизни и усиления контроля и надзора за своими подданными; наконец, стремятся под тем или иным предлогом «закрыть» свои экономики и максимально снизить хозяйственную «зависимость» от остального мира. На этом пути власти изобретают все более изощренные аргументы в пользу сделанного ими выбора, парализуя у своих сограждан ту способность к критической рефлексии, которая становится в мире XXI века самым важным качеством человека.
Россия, судя по всему, замерла сегодня на самом краю этой «демодернизационной воронки» и постепенно сваливается в нее, последовательно не желая отказаться от приписываемой самой себе «особости». Что должно случиться для того, чтобы страна предпочла современность архаике, а реалистическое восприятие мира — примитивному мифотворчеству, я не возьмусь сказать. Это К. Маркс когда-то говорил, что «философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»[611]; я же полагаю, что сегодня важны не изменения и даже не объяснения, а создание систематической картины общества, в котором мы живем, и мира, в который это общество по необходимости встроено. И книга, к последним строкам которой мы вплотную приблизились, — это не программа действий, а всего лишь попытка оценить, с какого рубежа стране придется начинать, если она все же попытается вписаться в современный мир. И отчасти предупреждение о том, чего мы все можем лишиться, если этого не предпримем…
ПРИМЕЧАНИЯВведение
1. Цит. по: Романов, Александр Михайлович. , Париж: Иллюстрированная Россия, 1933, с. 49.
2. См.: Maddison, Angus. , Paris: OECD Publications Service, 2000, pp. 6–9.
3. См.: Huntington, Samuel. , New York: Simon & Schuster, 2004, р. 41.
4. См.: Etkind, Alexander. , Cambridge, Malden (Ma.): Polity, 2011, pp. 6–8.
5. См.: Ключевский, Василий. Курс русской истории в: Ключевский, Василий. , т. 1, Москва, 1987, с. 50.
6. См.: Fukuyama, Francis. ‘The End of History?’ in: , 1989, vol. 16, pp. 3–18, and Fukuyama, Francis. , London, New York: Penguin, 1992.
7. См.: Krauthammer, Charles. ‘The Unipolar moment’ in: , 1990, July 20 и Krauthammer, Charles. ‘The Unipolar moment’ in: , America and the World Special Issue, 1990/91, pp. 35–42.
8. См.: Закария, Фарид. [перевод с английского под редакцией и со вступительной статьей В. Иноземцева], Москва: Логос, 2004.
9. См.: Сурков, Владислав. ‘Национализация будущего: параграфы pro суверенную демократию’ в: , 2006, № 43, 20 ноября.
10. См.: Gutman, Amy and Thompson, Dennis. Princeton (NJ), Oxford: Princeton Univ. Press, 2004 и Wolin, Sheldon. . , Princeton (NJ), Oxford: Princeton Univ. Press, 2008.
11. Киссинджер, Генри. [перевод с английского под редакцией и со вступительной статьей В. Иноземцева], Москва: Ладомир, 2002, c. 325.
12. Фраза принадлежит Д. Беллу (см.: Bell, Daniel. ‘The Resumption of History in the New Century’ в книге: Bell, Daniel. The End of Ideology. , Cambridge (Ma.): Harvard Univ. Press, 2000 [русcк. пер. В. Иноземцева: Белл, Даниел. ‘Возобновление истории в новом столетии. Предисловие к новому изданию книги ‘Конец идеологии’’ в: , 2002, № 5, сс. 13–25]); позже этот тезис в несколько иной формулировке повторил Р. Кейган (см.: Kagan, Robert. , New York: Alfred A. Knopf, 2008).
13. См.: Shleifer, Andrei. . , Cambridge (Ma.), London: Harvard Univ. Press, 2005.
14. Shleifer, Andrei. , рр. 39, 182, 161, 4.
15. См.: Иноземцев, Владислав. [: Shleifer, Andrei. . , Cambridge (Ma.), London: Harvard Univ. Press, 2005] в: , № 4 (42), июль — август 2005, сс. 130–132.
16. См.: Rosefielde, Steven. ‘Russia: An Abnormal Country’ in: , 2005, Vol. 2, No. 1, pp. 3–16.
17. См.: Rosefielde, Steven. , pp. 4, 9, 14.
18. Тютчев, Федор. , Москва: Типография А. И. Мамонтова, 1868, с. 230.
19. Langworth, Richard (ed.) , London: Ebury Press, 2009, p. 145.
20. Этот момент хорошо отражен в заглавии моей статьи из Le Monde Diplomatique, которую дали ей издатели английской версии: Inozemtsev, Vladislav. ‘Russia should’t work but it does’ in: English edition, 2010, № 11 (November), pp. 12–13 (оригинал вышел как Inozemtsev, Vladislav.Russie, une socit libre sous contrle authoritaire’ in: , 2010, № 10 (Octobre), pp. 4–5).
Глава 1
1. Подробнее см.: Inglehart, Ronald and Welzel, Christian. , Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005, pp. 18–22.
2. См., напр.: Franklin, Simon and Shepard, Jonathan. , London: Longman, 1996, pp. xvii-xviii.
3. См.: Shepard, Jonathan. ‘The Origins of Rus’’ в: Perrie, Maureen (ed.) , Vol. I: From Early Rus’ to 1689, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006, pp. 49–52.
4. См.: Riasanovsky, Nicholas. , Oxford: Oxford Univ. Press, 2005, pp. 19–22.
5. См. подробнее: Koestler, Arthur. , New York: Random House, 1976, pp. 39–45.
6. Термин был введен в 1960-е гг. Д. Оболенским (см.: Obolensky, Dimitri. , New Haven (Ct.), 2000).
7. См.: Иноземцев, Владислав. ‘‘Диктатура закона’ упраздняет права россиян’ в: , 2011, 5 июля, с. 3.
8. См.: Pipes, Richard. ‘Was there Private Property in Muscovite Russia?’ в: , 1994, vol. 53, pp. 524–530.
9. См.: Юрганов, Андрей. , Москва: МИРОС, 1998, с. 152.
10. В византийской традиции принято было полагать, что «Церковь и государство, как тело и душа, составляют один организм, и что между ними должно быть постоянное взаимодействие во имя общего блага» (Павлов, Алексей. , Санкт-Петербург, Лань, 2002, с. 47).
11. См.: Crummey, Robert. , London, New York: Longman, 1987, рр. 129–131.
12. См.: Pirenne, Henry. , Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1969, p. 64 и Tilly, Charles. ‘Enlargement of European Cities and States’ в: Tilly, Charles and Blockmans, Wimp (ed.) , Oxford: Longman, 1994, p. 16–19.
13. В «Сказании о князьях Владимирских» (oк. 1527 г.) его автор утверждает: «Август, кесарь Римский… Пруса, родича своего, послал на берега Вислы-реки… и с тех пор до нынешних времён зовется это место Прусской землёй», позже же «мужи новгородские пошли в Прусскую землю и нашли там некоего князя по имени Рюрик, который был из римского рода Августа-царя…» (цит. по: www.portal-slovo.ru/history/39078.php, сайт посещен 12 апреля 2017 г.).
14. См.: Филофей. «Послание к великому князю Московскому Василию [III] (1524 г.)» (цит. по: www.lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5105, сайт посещен 15 апреля 2017 г.).
15. См.: Wieczynski, Joseph. , Charlottesville (Va.): University Press of Virginia, 1976.
16. По мнению Ч. Гальперина, «монгольское нашествие более, чем любое другое историческое событие, определило ход развития русской культуры, политической географии, истории и национальной идентичности» (см.: Halperin, Charles. , Bloomington (In.): Indiana Univ. Press, 1985, p. 19); также см.: Fennell, John. , New York: Longman, 1983 и Martin, Janet. , Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003.
17. Подробнее см.: Morgan, David. , New York: Blackwell, 1987, pp. 48–60.
18. См.: Cippola, Сarlo M. . , London, New York: Routledge, 1980, pp. 42–47.
19. См., напр.: Boyle, John Andrew. , London: Variourum, 1977, pp. 211–213.
20. См.: Poly, Jean-Pierre and Bournazel, Eric. , New York, London: Holmes & Meier, 1991, pp. 16–22.
21. См.: Halperin, Charles. , рр. 113–114.
22. См.: Aigle, Denise. , Leiden: Brill, 2014, pp. 140–145.
23. Подробнее см.: Нефедов, Сергей. ‘Петр I: блеск и нищета модернизации’ в: , 2011, № 1, сс. 47–73.
24. См.: Luttwak, Edward and Kuznetsova, Ekaterina. The Kremlin Paradox, Cambridge (Ma.): Harvard Univ. Press, 2019.
25. См.: Иноземцев, Владислав. ‘Почести мумии’ в: , 2011, 19 апреля, с. 6.
26. Проявления этого встречаются в большинстве выступлений президента, названии правящей партии «Единая Россия», в предложениях провести «Год единства российской нации» (см.: https://rg.ru/2016/10/31/putin-podderzhal-ideiu-goda-edinstva-rossijskoi-nacii.html), а также в постоянных отсылках к опасности «раскола» страны, даже несмотря на то, что такая угроза выглядит иллюзорной (см.: Иноземцев, Владислав. « [на сайте www.snob.ru/selected/entry/96635, сайт посещен 19 января 2017 г.]).
27. «Великий европейский торговый путь, известный по русским летописям как путь из Варяг в Греки, то есть из Скандинавии в Византию и обратно, был в Европе наиболее важным вплоть до XII в., когда европейская торговля между севером и югом переместилась на запад» (Лихачёв, Дмитрий. ‘Крещение Руси и государство Русь’ в: Лихачёв, Дмитрий. , Санкт-Петербург: Logos, 1999, с. 69).
28. См.: Revel, Jean-Franois. . , Paris: Plon, 2002, p. 80.
29. Huntington, Samuel. , New York: Simon & Schuster, 2004, рр. 41, 40.
30. См.: Иноземцев, Владислав, Пономарев, Илья и ыжков, Владимир. ‘Континент Сибирь’ в:, том 10, № 6, ноябрь — декабрь 2012, cс. 83–84.
31. Оригинальный расчет, подтверждающий данный факт, предложен в: Taagepera, Rein. ‘An Overview of the Growth of the Russian Empire’ in: Rywkin, Michael (ed.) , London: Mansell, 1988, pp. 1–8.
32. Цит. по: Мирзоев, Владимир. , Москва, 1970, с. 44.
33. Ядринцев, Николай. . 2-е изд., доп. и перераб. СПб.: Издание И. М. Сибирякова, 1892, с. 190.
34. Ключевский, Василий. ‘Курс русской истории’ в: Ключевский, Василий. , т. 1, Москва, 1987, с. 50.
35. См.: Вениаминов, Иннокентий. , Санкт-Петербург, 1840, с. 188–190.
36. См.: Curtin, Philipp. , Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1984, p. 208.
37. Pipes, Richard. , New York, Alfred A. Knopf, 1990, pp. 103–104.
38. См.: Ядринцев, Николай. , cc. 197–199.
39. См.: Maddison, Angus. , Paris: OECD Publications Service, 2000, pp. 6–9.
40. См.: Wesseling, Henry. , Paris: Gallimard, 2002, pp. 275–278.
41. Подробнее см.: Иноземцев, Владислав. ‘Колонии и зависимые территории: приглашение к дискуссии’ в: , 2013, № 4, cс. 6–19.
42. Подробнее см.: www.en.wikipedia.org/wiki/First_Indochina_War, сайт посещен 8 мая 2013 г.
43. Путин, Владимир. «Интервью руководителям трех всероссийских телеканалов, 17 октября 2011 г.» (цит. по: www.ria.ru/politics/20111017/462204254.html, сайт посещен 15 мая 2014 г.).
44. Рассчитано по: , Москва: Финансы и статистика, 1991 (на сайте www.demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=6e, сайт посещен 12 апреля 2013 г.).
45. См., напр.: Wakefield, Edward. , New York: A. M. Kelley, 1969, рр. 260–261.
46. См.: Inozemtsev, Vladislav. ‘El deseo colonial que no se esfum tras la cada de la URSS’ в: [Madrid], 2016, Agosto 21, p. 28.
47. Путин, Владимир. «Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 25 апреля 2005 г.» (цит. по: www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22931, сайт посещен 22 апреля 2017 г.).
48. См.:, Москва: Финансы и статистика, 1991.
49. См.: Kahler, Miles. , Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 2014, p. 314 и Wasserman, Gary. , Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1976, pp. 28–29.
50. Рассчитано по данным национальных статистических служб соответствующих стран за 2006–2009 гг.
51. Рассчитано по: (на сайте www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_etn_10.php, сайт посещен 12 апреля 2013 г.).
52. Подробнее см.: www.en.wikipedia.org/wiki/Pied-Noir, сайт посещен 8 мая 2013 г.
53. См.: Кнобель, Александр. ‘Свобода торговли: цена таможенного союза’ в: , 2014, 13 января, с. А4 и Агибалов, Сергей. ‘Парад скидок: сколько заплатила Россия за новый компромисс с Лукашенко’ в: , 2017, 18 апреля, с. 6.
54. «Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для всех, кто исповедует ислам и иудаизм» (Путин, Владимир. «Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 4 декабря 2014 г.» (цит. по: https://ria.ru/politics/20141204/1036533683.html, сайт посещен 22 апреля 2017 г.).
55. См.: Inosemzew, Wladislaw. ‘Ukrainischer Fluch, sibirischer Segen: Russlands Regionalismus und seine kolonialen Ursprunge’ in: , 2017, Bd. 67, № 5, SS. 101–114.
56. См.: Jowett, B. and Campbell, Lewis. , vol. I, Oxford: Clarendon Press, 1894.
57. См.: , Москва: Астрель, 2004, т. 1, сс. 446, 448.
58. См.: Macciavelli, Niccol. , Torino: Einaudi, 1961.
59. См.: Hobbes, Thomas. , London: Andrew Crooke, 1651.
60. Подробно про возникновение и развитие термина в Европе в Средние века и в Новое время см.: https://en.wikipedia.org/wiki/State_(polity) (сайт посещен 16 января 2017 г.).
61. Подробнее см.: Kollmann, Nancy. , Ithaca (NY), London: Cornell Univ. Press, 1999.
62. См., напр.: Wieczynski, Joseph. , pp. 18–21.
63. Подробнее cм.: Mises, Ludwig von. , New York: Liberty Fund, 2006, pp. 8–12 и Fukuyama, Francis. . , London: Profile Books, 2004, pp. 7–9.
64. Burke, Edward. , New York: P. F. Collier & Son, 1911, par. 130 (“to make us love our country, our country ought to be lovely”).
65. См.: Кузнецова, Нина (ред). , Москва: ИКД Зерцало, 2002, сс. 45–49; УК РСФСР 1926 г. — www.coollib.com/b/124310/read (сайт посещен 16 января 2017 г.).
66. См.: Зубов, Валерий и Иноземцев, Владислав. ‘‘Белые слоны’ российской экономики: на что государство тратит деньги’ в: , 2015, 1 сентября, с. 11 и Зубов, Валерий и Иноземцев, Владислав. ‘Почему государству надо перестать инвестировать’ в: , 2015, 14 сентября, с. 7.
67. См.: Mackinder, Halford. , Washington (DC): National Defence Univ. Press, 1942, р. 99.
68. См:. Дугин, Александр. , Москва: Издательство МГУ, 2012 (цит. по: www.4pt.su/hi/node/212, сайт посещен 9 июня 2014 г.).
69. См.: Иноземцев, Владислав. ‘Утраченные ориентиры’ в: , 2014, № 11 (ноябрь), с. 108.
70. См.: Mackinder, Halford J. , pp. 58, 60.
71. См. подробнее: Иноземцев, Владислав. Утраченные ориентиры, сс. 104–109.
72. См.: Иноземцев, Владислав. « (на сайте www.republic.ru/posts/56555, сайт посещен 19 января 2017 г.).
73. См.: Кокошин, Андрей. , Москва: Европа, 2006, сс. 54–55, 36.
74. См: Инозецев, Владислав и Кузнецова, Екатерина. Международного сообщества, увы, не существует… [Интервью с Ю. Ведрином] // , 2005, № 7, с. 3.
75. Путин, Владимир. Выступление на заседании Совета безопасности Российской Федерации 22 июля 2014 г. (цит. по: https://ria.ru/politics/20140722/1017069017.html, cайт посещен 16 января 2017 г.).
76. См. подробнее: Laue, Theodore H., von. . , Oxford, New York: Oxford Univ. Press, 1987 и Latouche, Serge. , Cambridge: Polity, 1996.
Глава 2
1. Эта формулировка принадлежала Ф. Фукуяме (см.: Fukuyama, Francis. “The End of History?” in: , 1989, Summer, № 16, pp. 3–18) и была развита им позднее в книге: Fukuyama, Francis. , London, New York: Penguin, 1992.
2. См., напр.: Held, David. . , Cambridge: Polity, 1995, рр. 18–22.
3. См.: Przeworski, Adam; Alvarez, Michael; Cheibub, Jos Antonio and Limonghi, Fernando. ‘What Makes Democracies Endure?’ in: , 1996, № 1, pp. 50–51.
4. См.: Zakaria, Fareed. ‘The Rise of Illiberal Democracy’ in: , Vol. 76, No. 6, November/December 1997, pp. 37–48.
5. О «фиктивных (faux)» демократиях см.: Etzioni, Amitai. New Haven (Ct.), London: Yale Univ. Press, 2007, p. 47.
6. Об «ограничивающих (restictive)» демократиях cм.: Waisman, Carlos. ‘Argentina: Autarkic Industrialization and Illegitimacy’ in: Diamond, Larry; Linz, Juan and Lipset, Seymour Мartin (eds.) , Boulder (Co.): Lynne Rienner Publishers, 1989, p. 69.
7. О «тоталитарных» демократиях cм.: Engdahl, William. Boxboro (Ma.): Third Millennium Press, 2009, p. VII.
8. См. основные определения в: Gutmann, Amy and Thompson, Dennis. . , Cambridge (Ma.), London: Harvard Univ. Press, 1996, pp. 1–5, 12–18; более подробно см.: Bohman, James and Rehg, William (eds.) . , Cambridge (Ma.), London, The MIT Press, 1997.
9. См.: Третьяков, Виталий. ‘Суверенная демократия. О политической философии Владимира Путина’ в: , 2005, 28 апреля, с. 8 и Сурков, Владислав. ‘Национализация будущего’ в: , 2006, № 43(537), 20 ноября, сс. 12–14.
10. Цит. по: Diаmond, Larry. “Lecture at Hilla University for Humanistic Studies” (на сайте http://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/WhatIsDemocracy012004.htm, сайт посещен 8 мая 2017 г.).
11. Парадоксально, но cамым последовательным образом данный тезис сформулирован и обоснован в экзаменационном эссе студента университета Дж. Мэддисона (см.: Ochoa, Zachary. “, [на сайте www.e-ir.info/2013/12/23/russia-the-democracy-that-never-was/, сайт посещен 8 мая 2017 г.]).
12. Словарь Ожегова отождествляет понятие «вор» в данном значении со словом «изменник», считая его устаревшим.
13. В эпоху И. Сталина этот термин использовался настолько широко, что был упомянут даже в Конституции СССР 1936 г. (ч. 2 ст. 131).
14. История возникновения понятия хорошо описана на сайте движения «Мемориал» (см.: https://old.memo.ru/history/DISS/, сайт посещен 8 мая 2017 г.).
15. См., напр.: Иноземцев, Владислав. «Почему Россия не будет демократией» (на сайте www.snob.ru/selected/entry/99514, сайт посещен 8 мая 2017 г.).
16. См.: по Германии: Vincent, David. , Cambridge: Polity, 2000, p. 9, по СССР: «Грамотность» (статья в Большой советской энциклопедии [https://bse/sci-lib.com/article013126.html, сайт посещен 8 мая 2017 г.]).
17. См. по доходам федерального бюджета России за 2013 г.: https://ria.ru/infografika/20130912/958932396.html, по доходам федерального бюджета Соединенных Штатов за 1942 г.: www.usgovernmentrevenue.com/breakdown_1942USmf_18ms1n (сайты посещены 8 мая 2017 г.).
18. В Британии до Great Reform Act 1832 г. правом голоса обладали чуть более 500 тыс. человек, в основном собственников недвижимости; эта цифра выросла до 2,2 млн человек после 1867 г.; всеобщее избирательное право было введено в 1928 г. (см.: , London: The House of Commons, 2013, pp. 4–5). В США все имущественные ограничения участия в выборах были отменены только в 1856 г., а требования быть налогоплательщиком — в 1964 г., с принятием 24-й поправки к Конституции Соединенных Штатов (подробнее см.: Engerman, Stanley and Sokoloff, Kenneth. , Cambridge (Ma.): National Bureau of Economic Analysis, February 2005).
19. Подробнее см.: Иноземцев, Владислав. ‘Превентивная демократия: задачи, принципы, императивы применения’ в: , 2012, № 6, cс. 101–111.
20. В одной Москве их насчитывалось от 90 до 155 тыс. (см.: Гендлин, Владимир. ‘Идет экспат по городу’ в: , 2014, 29 сентября — 5 октября, с. 42).
21. Миллер, Алексей. ‘От демократии XIX века к демократии XXI-го: каков следующий шаг?’ в: Иноземцев, Владислав (ред.), Москва: Европа, 2010, с. 101.
22. Это, конечно, остается мечтой — российские власти постоянно стремятся сдвинуть привычные границы общественного и частного; самые курьезные инициативы в этой сфере см.: ‘У власти под колпаком’ в: , 2013, 15 июля, с. 4.
23. Бауман, Зигмунт., Москва: Логос, 2002, с. 86.
24. Подробное определение этого «консенсуса» дано Г. Павловским в 2012 г. (см.: ‘Will Putinism See the End of Putin?’ in: , 2012, February 27, p. 36).
25. В октябре 2008 г. В. Путин утверждал, что финансовый кризис пришел из США и доверие к американской экономике навсегда подорвано (см.: www.interfax.ru/russia/38239, сайт посещен 5 мая 2017 г.).
26. В октябре 2014 г. В. Путин говорил о том, что игра на понижение котировок нефти не может тянуться долго, так как мировая экономика «рухнет», если цена на нефть уйдет ниже $80/баррель (см.: https://vz.ru/news/2014/10/17/711128.html, cайт посещен 5 мая 2017 г.).
27. См., напр.: Озерова, Марина. ‘Зарплата не слушается Путина’ в: , 2017, 5 мая, с. 2.
28. Вяземский, Пётр. , Москва: Издательство Академии Наук СССР, 1963, с. 24.
29. См.: Brioschi, Carlo. , Washington: Brookings Institution, 2017, pp. 81–92 и Ledeneva, Alena. , Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998.
30. Я использую этот термин для указания на степень податливости общества, следующую за знаменитой «текучей модернити (liquid modernity)» З. Бумана (см.: Bauman, Zygmunt. , Cambridge: Polity, 2000, p. 201).
31. См.: «Вся Дyма» (на сайте www.kommersant.ru/doc/3135042, cайт посещен 5 мая 2017 г.).
32. См.: https://tass.ru/info/4184936, cайт посещен 5 мая 2017 г.
33. См. профили депутатов на сайте www.bundestag.de/en/members, cайт посещен 5 мая 2017 г.
34. Это определение я дал еще в начале 2010-х гг., см.: Inozemtsev, Vladislav. ‘Neo-Feudalism Eхplained’ in: , 2011, Spring (March — April), Vol. VI, No. 4, pp. 73–80.
35. Ряд определений отечественной «технократии» см. в: Иноземцев, Владислав. «Не технократы мы, не плотники…» (на сайте www.gazeta.ru/column/vladislav_inozemcev/10227899.shtml, сайт посещен 7 мая 2017 г.).
36. “…must be willing to tell the president ‘no’ if he overreaches”; цит. по: , р. 1, (на сайте https://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/01–10–17%20Sessions%20Testimony.pdf, сайт посещен 7 мая 2017 г.).
37. Цит. по: www.newsru.com/russia/19dec2007/prezd.html, сайт посещен 28 января 2017 г.