Эротика Саломе Лу
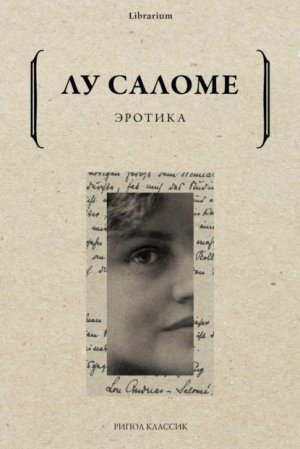
© Лариса Гармаш, перевод, 2012
© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2022
Человек в ипостаси женщины
К вящему возмущению всей женской эмансипации, или тех, кто так или иначе себя к ней причисляет, невозможно не согласиться с тем, как глубоко в корне всей жизни уже проявляется женский элемент как более низко развитый, как недифференцированный, – и именно поэтому, как ни парадоксально, выполняет свою выдающуюся миссию.
Маленькая мужская клеточка появляется, несмотря на свои крохотные размеры (как раз вследствие своей мизерности обязанная помочь себе пробиться), с самого начала как клеточка с врожденным инстинктом прогресса, как неудовлетворенный, ставящий себе новые цели, выполняющий новую работу, короче, как развивающийся в напоре и преодолении препятствий элемент. Он похож на неостановимо убегающую вперед линию, о которой неизвестно, куда она еще попадет, в то время как женская яйцеклетка замыкает вокруг себя кольцо, за пределы которого она не выступает. А зачем? Разве она не обладает в нем, в этом излучении себя самой, своей собственной прирожденной средой, как будто не сделав больше шагов, в определенной степени последних, из себя, в чужую среду, в пустоту, в тысячи вероятных возможностей бытия, она еще теснее связана со вседержащим бесконечным целым и оттого еще неразрывнее спаяна со своей исконной основой.
Но именно поэтому в основании женского начала лежит уже примитивно и элементарно обозначенная действительная гармония, надежная округл ость, таящееся в себе великое временное совершенство и заполненность. В нем имеется самодостаточность и собственное великолепие, и глубинные устремления сущности этого начала несовместимы с беспокойством и неутомимостью того, что вечно нацелено вперед, к последним внешним границам, и все сильнее и острее подтягивает и дробит свои силы на ограниченно-специализированные занятия. В этом смысле женское начало относится к мужскому со снисходительным величием знатного аристократа древнего рода, невозмутимо наблюдающего из окон собственного замка с вотчинными владениями за неутомимым выскочкой, который стяжает намного большие успехи, добиваясь богатства и славы, но который вновь и вновь видит, как ускользают от него идеалы последней красоты и совершенства, воплощенные в величественной позе аристократа, вроде того как линия горизонта, где, кажется, наконец сливаются небо и земля, все время отодвигается перед путешественником в неизмеримую даль, а он все шагает и шагает.
Это два способа жить, два способа привести жизнь к высочайшему развитию, которое без полового разделения должно было бы замереть на самых низких ступенях. Но бесполезно спорить о том, какой способ ценнее или требует больших усилий: тот ли, чьи силы специализируются на стремлении вперед, или другой, в котором они равномерно стянуты к собственному центру и обретают свою завершенность в самоограничении. Оба эти мира, сами чудесно усложняющиеся по мере развития, также нельзя рассматривать как две половинки одного целого, как это случается вследствие неверного понимания: например, в популярном изречении о женском начале как пассивно воспринимающем сосуде, а о мужском – как его активном творческом содержимом. Если подумать о том явлении, во время которого у людей соединяются мельчайшие мужские и женские тельца – о самом половом акте, – то расхожая фраза о производящем и воспринимающем становится особо прозрачной в своих превратно истолкованных истоках. И женщину, и мужчину отличают, как знак предельной зрелости – в определенной степени как избыток, который по мере роста больше не помещается в «старых мехах», – клетки, из слияния которых возникает человеческий зародыш, несущий в себе как отцовское, так и материнское содержание.
Но не говоря уже о равноценности этого творческого содействия в сотворении новой жизни, плюсом женской работы является то обстоятельство, что у высших животных ребенок созревает в материнском организме, – материнское тело подобно матери-Земле, где укрыто зерно – ребенок, – чтобы, вскормленное ею, прорасти к жизни.
То чисто локальное обстоятельство, что во время зачатия мужское семя проникает в женщину, а она его воспринимает, способствует укоренившейся путанице, с одной стороны, места, где происходит зарождение ребенка, а с другой стороны, женско-мужских составных частей, зачинающих ребенка. На самом деле тело женщины – лишь место встречи обеих частей. В действительности яйцеклетка не только равноценна сперматозоиду по силе оплодотворения, но именно она развилась изначально из того образования зародышевых клеток, которое было когда-то целостным носителем примитивного, еще дополового, зачатия. В определенной степени она – основной элемент процесса зачатия: в прежних примитивных созданиях его было достаточно для размножения за счет собственного омоложения и деления, пока позднее, на более сложном уровне развития, слияние воедино различных клеток не доказало свою необходимость, – и это усложнение всего процесса было привнесено мужскими половыми клетками.
Биологам известно, как трудно найти решающий критерий для отличия яйцеклетки от зародышевой: нелегко определить, имеем ли мы дело с зародышем и с размножающимся бесполым путем животным или с яичниками настоящей самки, чьи яйцеклетки обладают способностью спонтанного развития (см. д-р Карл Клаус, «Основы зоологии»).
Зрелая яйцеклетка, также и у позвоночных, перед началом процесса размножения именно без предварительного оплодотворения показывает такое обновление и иное распределение протоплазмы, при котором зародышевый пузырек растворяется в протоплазме. При «бесполом зачатии» этот процесс обновления может быть достаточным для образования нового организма. При «половом размножении» к омоложению яйцеклетки добавляется еще процесс конъюгации или копуляции различных протоплазменных частиц, причем способность яйцеклетки к развитию, вызванная омоложением, приобретает интенсивность, достаточную для создания нового организма. Слияние ядер гамет (в неоплодотворенном яйце) должно рассматриваться как своего рода конъюгация или копуляция разных протоплазменных тел, как вид оплодотворения, которое демонстрирует еще более тесную взаимосвязь между половым и бесполым зачатием. Неоплодотворенное яйцо проходит первые стадии развития (мейоз) планомерно, сообщая яйцеклетке высокую степень омоложения. При омоложении клеток материал остается тем же, но происходит новое его распределение, что является решающим моментом в каждом образовании клетки. Я сжато пересказываю аргументы из знаменитых физиологических штудий Иоганна Ранке, лишь чтобы подчеркнуть, в каком сильном противоречии находятся физиологически обоснованные представления к вышеприведенной фразе о женском элементе как пассивном придатке творческого мужского. С равным или большим правом могла идти речь о мужской составляющей как нуждающейся в присоединении, так сказать, об «отдающейся», которая используется женским удовлетворяющимся себялюбием как желанная добавка в ее развитии. И тогда при образном переносе в сферу психики становилась бы с большим правом заметной тайна мужской психики в ее самоотверженной отдаче цели, к которой она присоединяется, а женской психики – в ее самососредоточенном поглощении этой настойчивости.
Но что еще лежит в основе этой настойчивой самоотдачи, как не высшая избирательная сила мужского начала по сравнению с женским? Все дальше продвигающаяся дифференциация и изменение первичного во все более разнообразных функциях есть вся история мужского элемента, столь несовпадающая с той насыщенностью творческого самоповторения, собирания всех сил в собственном самопроизведении, характерном для всего женского. В одном месте своих записей, где Вирхов говорит о том, какие живые клетки в состоянии выступать как материнские (матрицы) для новых клеток, он делает примечание, что все клетки с явно выраженным предназначением очень мало способны к размножению, и, напротив, «более индифферентные клетки» обладают выраженной способностью к появлению новых клеток.
Органическая недифференцированность женского начала является одновременно его творческой силой, и это возможно доказать как на физическом, так и на психическом уровне. Это тот элемент, который должен быть направлен на себя, чтобы другой – мужской – отсюда мог бы вмешиваться в дальнейшее развитие; это то, к чему другой, более дифференцированный элемент должен все время возвращаться, во что он должен погружаться, чтобы оставаться в живых.
Искаженное понимание женского начала в основном допускает одну и ту же ошибку, все равно, подчеркивает ли оно «придаточность» по отношению к мужчине или налегает преимущественно на чисто материнское в женщине. Встреча полов со всеми своими результатами – это встреча двух самостоятельных для себя миров, из которых один более склонен к самоинтеграции, консолидации себя, а другой – к специализации себя самого. Это делает обоих способными в силу такого различия, дополняя и опираясь друг на друга, зачать третий высокосложный мир. Притом мужчина, хотя он и более агрессивная, более предприимчивая часть, участвует во всем процессе лишь частично и одномоментно, единственным поступком, ибо он живет в прогрессирующем выделении сил, стремящихся врозь к многочисленным отдельным действиям и отдельным занятиям. И помимо всего прочего, его миссия заключается в том, что он осуществляет и развивает таким образом женское существо, которое, оставшись более единым с собой, покоится и таится в том, что однажды вобрало в себя, идентифицировало с собой. Женское начало завершает свою деятельность не в изолированных и специальных занятиях, направленных на внешнюю цель, – оно органически срастается с тем, что делает, оно завершается тем, что вряд ли можно назвать делом, коль его суть в том, что из своей единой живой жизни оно снова излучает, испускает единую живую жизнь. Материнское начало бережет маленький двойной зародыш в себе и выпускает его лишь после того, как он становится не частью, не делом, неким произведением родительского бытия, а самостоятельным, совершенным человеческим бытием. Да, пока женщина платит жизни тем, что она есть, а не тем, что она делает!
В этом различии полов кроется та разновекторность их отношения друг к другу, которая одновременно делает женщину зависимее и независимее от мужчины, чем он от нее. Поскольку, как мы признали, в отличие от мужчины, рвущегося вперед и разрывающегося в этом стремлении, в женщине действие и бытие совпадают, все ее отдельные поступки являются не чем иным, как большим непроизвольным актом самого бытия. Из-за этого женщина – человек, более психически настроенный на унисон со своим собственным физическим началом. Она живет в намного более непосредственном, углубленном и вовлеченном отношении к своему телу, и потому через нее яснее, чем через мужчину, проступает тот факт, что интеллектуальная жизнь – это цветение, преобразование и тончайшее преображение великого сексуально определяемого корня всего сущего в абсолютно совершенную форму. Женщина не склонна отделять цветение от корня. Именно поэтому пол в женщине выступает не как изолированный отдельный инстинкт – он пронизывает и проникает ее насквозь, он идентичен с общим проявлением женщины, и потому ему не нужно протискиваться в сознание так локализованно и специализированно, как это происходит у мужчины. Так сталкиваются с кажущимся парадоксом, что женщина по своей половой предрасположенности менее «чувственный» пол в узком смысле этого слова. С точки зрения психологии, в этом глубоко не правы, когда ее в этой области пытаются мерить той же шкалой ценностей, что и мужчину.
В женщине должны произойти слишком глубокие изменения, чтобы научить ее, например, так свободно разобщать сексуальное удовлетворение и прочую свою человечность, как это часто бывает обычным у мужчины. Мужчина, способный к «сальному», мгновенному удовлетворению своей сексуальности, безо всякого вовлечения других чувств, без какого-либо стоящего сопереживания его прочим наклонностям, использует для этого или, если угодно, злоупотребляет высокой дифференцированностью своей физической конституции, дающую возможность изолировать действие так, что все остальное выступает как выключенное. Этот механический, почти автоматический характер удовлетворения придает процессу некое уродство. Впрочем, безобразность свойственна всем переходам и промежуточным фазам каждого развития как что-то непропорциональное, негармоническое.
Недифференцированная сущность женщины, не сломанное в ней еще тяготение к интимности, неотъемлемая устремленность к интенсивному взаимодействию всех склонностей одновременно, обеспечивает женскому эротизму глубинную красоту. Она иначе переживает эротику, ее физика и техника отражают это иначе, и поэтому ее надо иначе судить, если эта красота остается невредимой. Неслучайно, что женщина пробуждается только через опыт любви к половому влечению и что ей известно такое богатое изобилие возможностей переживания своей любви вне полового опыта. Парадоксально, но менее концентрированный, более рассеянный по всему существу эротизм объясняет большую свободу, которой наслаждается женщина по отношению ко всему, что лежит вне ее.
Далее, нам известно, наряду с уже рассмотренным внутренним физическим значением половых желез, и об их огромном значении для тонуса всего организма, который в здоровом состоянии превращает их в настоящие аккумуляторы нервной энергии. Да, больше нельзя исключать предположения, что, помимо своей общей ценности в качестве тоников, половые железы прямо влияют на мозг посредством периферической нервной системы. То, что выдает врачу, физиологу, заболевшая или выведенная из психического равновесия женщина изнутри своих исключительных состояний и благодаря им, в это могли бы внести определенную ясность и концентрированно высветить таинственные взаимосвязи здоровые представительницы пола, если бы среди них было бы столь же много поэтов и людей искусства, как среди мужчин.
Но как редко воспевали женщины себя, то ли непосредственно, то ли опосредованно через женское повествование о мужчине, или о мире, каким он им предстает. Имеющиеся попытки столь малочисленны, и в этом немногом опять-таки выпячено столько злободневного в защиту или опровержение мужских мнений и предначертаний, а значит, все это пребывает не на уровне искусства. Несмотря на то, что искусство мужчины на деле рассматривало женщину – даже в высоких шедеврах – то очень традиционно, то однобоко, с определенными известными у него предрассудками, нам придется и сегодня прислушиваться к произведениям его искусства, если мы хотим встретить самое глубокое и прелестное, самое простое и самое сильное, что живет в женщине. Разве не возмещают несколько лучших стихов в прозе Петера Альтенберга – пусть тоже однобоких и со слишком узкими взглядами – самые длинные женские исповеди и женские стихи? Разве не выставлено на нескольких страницах в них яснее в выгодном свете женское совершенство, самое суверенное и неприкасаемое в женщине, разве не эмансипирует это женщин действительнее и не стоит само по себе больше, чем все, что можно собрать о них при помощи большинства голосов их премудрых доказательств и горячих споров?
Я не хочу останавливаться здесь на поэзии Альтенберга, ибо своей тончайшей, интимнейшей оригинальностью она обязана не столько мужчине в нем, сколько пикантности, для определения которой пришлось бы слишком отклониться. Тем не менее остается верным то, что мужчина-мастер как таковой чрезвычайно близок женщине и поэтому очень хорошо понимает ее и именно как раз через свое творческое предназначение. Так как последнее отбирает у него многое из остро акцентированного у практичного и действующего представителя мужского рода, оно заставляет его пребывать в более едином, органическом состоянии, в слиянии с тем, что он создает, как это бывает у женщины, и погружает его в определенном смысле в счастье духовной беременности, глубоко вжившейся в себя и вынашивающей творение из глубины всей своей жизни. Не случайно у представителей искусства часто подмечают женские черты, и они вынуждены глотать упреки в немужественности.
Ибо подобно женщинам они тоже не являются хозяевами своих способностей и настроений, более чувствительны и подвержены влиянию того, что скрыто подгоняет их сущность за всеми мыслями и волевыми импульсами, подниматься, произрастать творениями из смутного ила их мечтаний: гениальный человек соприкасается в практике своего творчества с совершенно недифференцированным существом внутри себя и в такие часы становится подобным ему гораздо сильнее, чем самому себе в простые, бодрые, нетворческие часы. И хотя эта утрата типично мужской разорванности так тесно сближает художника и женщину, но лишь в художнике эта схожесть обнаруживает себя в действительной духовной производительной силе, подобно королевской короне, делающей все вещи своими подданными.
Напротив, в женщине основой ее существа, так напоминающей творца, остается все же ее способ жить, но не особая способность души создавать произведения об этой жизни. Исходя из единой точки, а именно из творчески еще живого, не разрушенного, синхронного взаимодействия всех наклонностей внутри себя, до и вне всякого разделения их, художник и женщина идут все же к различным целям.
В художнике, наверное, живет вся эта томная страсть к созиданию нового бытия внутри себя, но выражает себя в собственной форме и ясности в новую для себя вещь, которая была движущей потребностью всего процесса; с другой стороны, в женщине изживают себя примитивно художественные наклонности, но снова и снова и все глубже втянуты они в происходящее, чья движущая сила оживляет их своим теплом, не открывая им своих собственных решений.
В женщине все, кажется, должно разряжаться в жизнь, ничего из нее: так, словно жизнь описывает в ней концентрические круги, как будто она не может из нее выйти без раны и повреждения, как кровь сквозь кожу тела. Во всех высочайших достижениях она никогда не вырывается наружу, оторвавшись и отделившись, подобно тому как рядом с художником можно поставить его произведение как его высшее и лучшее бытие, а он, напротив, в практическом человеческом существовании оказывается его прислужником, его инструментом.
Возможно, женщине по извечным законам удалось уподобиться дереву – не тому, чьи плоды по отдельности срывают, отделяют, упаковывают, отправляют кораблем и используют в разнообразных целях, а тому, которое просто хочет быть – в священном буйстве своего цветения, созревания, красоты, дающей тень, потому что это значит, что из него возникнут новые побеги, новые деревья. Покачивает иногда ветер его вершину, или падает с нее под собственной тяжестью здесь и там плод – он хочет быть всегда спелым, а часто благородным и сладким, подкрепление страннику, но он лишь падалица, отброшенный без усилий, и, наверное, не хочет значить больше, чем она.
Другими словами, я считаю: как явление жизни, как совокупность жизни, женщина свою силу и свой сок тратит внутри собственного существа, и поэтому произведения ее духа нельзя сравнивать с творчеством мужчины, чьи лучшие творения возникают из того, что они все сконцентрированы в одну точку внимания, всю самую напряженную силу человека впитали в себя и истратили на себя.
Даже там, где женщина хотела бы таким образом проявиться в чем-то личном, это удалось бы ей только частично, причем в другой части она бы чувствовала себя в дисгармонии или в беспокойстве. Отсюда принципиальная духовная и практическая конкуренция с мужчиной, демонстрация равенства своего профессионального потенциала мужскому – настоящая адская работа, и внешнее тщеславие, пробуждающееся при этом, самое смертельное качество, которое женщина может в себе взрастить.
Ее естественное величие как раз в отсутствии этого тщеславия: в уверенности, что ей не требуется приведения подобных доказательств, чтобы чувствовать в себе как женщине высшее самоутверждение, что ей нужно только протягивать свои тенистые ветви, чтобы дать отдых уставшему, утоление – жаждущему, не заботясь о том, сколько ее плодов можно было бы сосчитать на рынке.
Если угодно, женщина в этом смысле – человек наслаждения, человек, которому присуще всякое жизнелюбие и самопостигающий поиск. Кого окружает мир женщины, тот начинает дышать им, как начинают вдыхать доброту весны, в которой нежатся. Но только мужчина обладает на деле той практической самоотверженностью, преследующей, вплоть до самопожертвования, одну цель, одно дело, одно занятие, которое его как человека в различных аспектах его сущности оставляет в убытке, однако позволяет за счет этого достичь высочайшего результата.
Находящийся в состоянии крайнего напряжения мужчина отказывается от гармоничной траты самого себя в таком взаимодействии всех сил, которое бы оставалось красивым, радостным и здоровым, если только он может достичь при сильной специализации своих сил манящей цели; дело, которое он высоко ценит, искажает его при определенных обстоятельствах, но именно тот факт, что он был в состоянии это сделать, делает его по-мужски великим. Такому выходу изнутри себя видна поэтому убегающая вдаль линия развития, и потому мужчине органически близка идея прогресса. Если захотеть образно представить оба пола в их существенных чертах, то это должны были бы быть Задыхающийся Бегун и Отдыхающая Купальщица.
Столь свойственная женщинам тенденция просто вести себя к более широкому и богатому самораскрытию, вместо того чтобы направить это собственное бытие на практическую отдачу отдельной цели, часто приводила их к обвинению в дилетантизме, непоследовательности и поверхностности. В действительности, женщине труднее придерживаться линии, которая просто ведет вперед, трудно не отклониться, не поддаться внезапному порыву, не получить удовольствия от разнообразия… Отсюда в женщине понимание вещей, которые пониманию как таковому не подлежат. Она способна «приютить» много противоречий, тогда как мужчина должен отвергнуть все, мешающее его представлению о ясности. Правда представляется мужчине наиболее убедительной, если к ней приходят путем логического заключения и если с ней будет согласно большинство нормально развитых мозгов. Убедительная правда для женщины – всегда только та, что оспаривается жизнью, та, по отношению к которой она может сказать «да» всей глубиной своего существа, даже несмотря на то, что в некоторых случаях одна только она и может сказать «да». Женщина хранит внутренний опыт того, что суть вещей в конце концов отнюдь не проста и логична, но многозначна и нелогична.
С такой правдой женщина находит особый отклик и непроизвольно мыслит индивидуально и конкретно, даже если ее логически обучить. И ее абстрактные мысли легко олицетворяются не только потому, что она соотносит их с определенными лицами, но и с собой: с мыслями, которые должны стать ценными для нее, она должна уединиться, она должна быть в состоянии их пережить, должна заключить их и себя в теплый мир, пока они больше не будут действовать как звенья логической цепи, а полностью завершатся в себе – маленькие картины вечности вместо ограниченных логических заключений.
В завороженности логикой есть то, что движет существо мужчины – и самого выдающегося мыслителя – до тех пор, пока он не выходит за свою личную оболочку, и во всех случаях, когда он не удовлетворяется формалистическим распределением мыслей, он не может не вливать в мышление горячую струю от своей жизненной силы, кровь от своей крови. Но то, что в нем действует лишь отчасти и замаскированно, до некоторой степени им контролируется и принимается в расчет, в женщине является доминирующей силой, провозглашающей совершенно независимо как высшее и главнейшее утверждение, то, что является для мужчины лишь досадной уступкой – что не соприкасается с нашим чувством, не занимает надолго наше мышление.
В этой своей духовной особенности женщина, как и в остальной сущности, намного сильнее обусловлена и повязана своим физическим естеством, чем мужчина. На этот пункт в большинстве закрывают глаза, и как раз женщины представляют дело таким образом, как будто вообще только болезненные женские существа что-то замечают в изменившихся планах своего телесного организма. И все же то, что присуще даже самой здоровой, цветущей женщине как определяющий закон всей ее физической стороны бытия в отличие от мужчины – это то, что жизнь женщины следует скрытому такту, ритмическому подъему и спуску, которые вовлекают ее саму в распускающийся и снова смыкающийся круговорот, в котором гармонически уравновешивается ее бытие со всеми ее манифестациями себя вовне.
Это свойство женщины – одним фактом своей жизни распускать «круги по воде»: и телесно, и духовно двигаться не линейно-наступательно, а равномерно-радиально наполнять собой пространства.
Странно замалчивать этот жизненный ритм либо представлять его как что-то совершенно безразличное к сути, в то время как он как раз у полностью здорового, уверенного в своем теле человека будит мысли о празднике и собраниях по воскресеньям, о часах глубокого радостного отдохновения, которые вытесняют и заставляют пересматривать будни и во время которых нужны цветы на столе и в душе: потому что в нем, этом ритме, еще раз психологически повторится то, что составляет внутреннюю сущность женщины в ее самых глубинных чертах.
Так, в силу мужской амнезии женщина становится для мужчины внешним символом его собственного забытого прошлого, и он нуждается в женщине, потому что она есть проекция того, чем он пока не является, чем он пожертвовал, чтобы стать мужчиной. И сама женственность – это то, что мужчина подавил в себе, позабыл и вывел наружу и как бы переложил на женщину. И потому она – то, к чему он иногда имеет доступ, никогда в долинах жизни, но всегда на верхушках гор… И тогда, когда мужчина потихоньку спускается с этих высот в обычную жизнь и видит женщину, тогда кажется ему, как будто он увидел внутренность своей души в форме молодого удивительного существа, в котором так и остается загадкой – становится ли оно на колени, чтобы быть ближе к земле или быть более открытой небесам. Она словно оживший библейский символ: «Все твое на этой земле, но сам ты принадлежишь Богу».
Мысли о проблемах любви
В рамках эмоциональных отношений человека с окружающим миром, со всеми его живыми существами и вещами все можно, на первый взгляд, расположить в определенном порядке, разделив на две большие группы: с одной стороны, все однородное, симпатичное, интимно-близкое, а с другой – все неоднородное, чужое, враждебное. Наш природный эгоизм непроизвольно чувствует себя либо побуждаемым разделить радость, так проникнуться сочувствием к сущности другого, как будто речь идет о собственном «я», либо, наоборот, что-то заставляет его замкнуться, съежиться, отвергая внешний мир, выступая агрессивно, угрожающе против него. Такой тип эгоизма в более узком значении слова есть своеволие, которое любит только себя и прислушивается только к себе, а все остальное подчиняет собственным целям; напротив, тип так называемого самопожертвования есть натура самаритянина с ее идеалом всеобщего братства; этот идеал признает в каждом, даже самом отчужденном существе, стремление к великому единению со Вселенной. Оба эти свойства беспрестанно и неумолимо заостряются в ходе развития человечества, и от того, как решится конфликт между ними, будет зависеть характер культуры каждой отдельной эпохи. Они никогда не смогут окончательно примириться друг с другом. И если одна из этих двух противоположностей резко поднимется до уровня единственного повеления, то произойдет это только в том случае и будет лишь тогда оправданно, если другая в силу своей утрированности будет нуждаться в особенно резкой коррекции.
В реальной жизни трудно в каждом отдельном случае верно провести границы между слабостью и добром, между суровостью и силой духа, и то, как люди должны объединять в себе добро и силу, – предложений и мнений на этот счет существует множество, словно песка в море. Между тем это обстоятельство психологически интересно тем, что человек не может вступить ни в одно из этих состояний, не вредя себе, и что они оба, несмотря на их видимое противоречие, все же, в конце концов, могут находиться во взаимодействии.
Эгоист, который, по возможности, многое для себя требует, так же как и альтруист, который многое отдает другим, на своем языке творят одну и ту же молитву одному и тому же Богу, и в этой молитве любовь к самому себе нераздельно смешивается с отреченностью от самого себя в одно целое: «я хочу иметь все» и «я хочу быть всем» – они достигают своего апогея в сходстве самой интенсивности страстного желания. И что же?
Оба ничего не добиваются, ибо в этом и кроется суть противоречия. Эгоист должен превзойти свой эгоизм, точно так же, как альтруист должен постичь и принять эгоизм. Это наши стены, в которые мы упираемся и на которых рисуем свою картину мира.
Именно в абсолютном противоречии кроется новое, необыкновенно эффектное и плодотворное в них, поскольку оно вызывает такое состояние, что человек фактически уходит сам в себя и одновременно выходит из своей скорлупы обратно в целое жизни. Это касается и эротических отношений. Часто, и не без основания, замечают, что любовь – это вечная борьба, вечная враждебность полов, и даже если в отдельных случаях это звучит несколько преувеличенно, все же мало кто станет отрицать тот факт, что в любви встречаются две противоположности, два мира, между которыми нет мостов и не может быть никогда.
Неслучайно в природе действует закон, наказывающий близкородственное размножение неплодовитостью, дегенерацией, гибелью.
В любви каждого из нас охватывает влечение к чему-то иному, непохожему; это новое может быть предугаданным нами и страстно желанным, но никогда не осуществимым. Поэтому постоянно опасаются конца любовного опьянения, того момента, когда два человека слишком хорошо узнают друг друга и исчезнет это последнее притяжение новизны. Начало же любовного опьянения связано с чем-то неизведанным, волнующим, притягательным; это озарение особенно волнующее, глубоко наполняющее все ваше существо, приводящее в волнение душу. Верно, что полюбившийся объект оказывает на нас такое воздействие, пока он еще не до конца знаком. Но как только рассеивается любовный пыл, он тут же становится символом чужих возможностей и жизненных сил.
После того как влюбленные столь опасным образом открываются друг другу, они еще долгое время испытывают искреннюю симпатию. Но эта симпатия, увы, по своей окраске уже не имеет ничего общего с прошедшим чувством и характеризуется часто, несмотря на честную дружбу, тем, что полна мелких обид, мелкой досады, которую, как правило, пытаются скрыть.
В любви эгоизм распространяется не добросердечно и мягко, он во много раз заостряется как сильное оружие захвата. Но этим оружием не пытаются как-то захватить облюбованный предмет для собственных целей, этим оружием он завоевывается лишь для того, чтобы оценить объект со всех сторон, переоценить его, вознести на трон, носить на руках. Эротическая любовь скрывает весь возросший эгоизм под доброжелательностью, возникшая страсть, беспечная к противоречиям, соединяет доброжелательность и эгоизм в едином чувстве.
Любящий человек чувствует себя сильным: он чувствует, будто завоевал весь мир в силу этого внутреннего союза собственного «я» с тем, что привлекало его как высшее проявление всех прекрасных возможностей и необычностей всего мира. Но это чувство – только оборотная психическая сторона того физиологического процесса, при котором человеку фактически удается возвыситься над самим собой, в котором он себя ощущает самым полным образом и добивается наибольшего успеха: в любовной страсти он соединяется с другим не для того, чтобы отречься от самого себя, а для того, чтобы еще раз превзойти самого себя, чтобы продолжиться в новом человеке.
Итак, эротические отношения – это промежуточная форма между отдельным существом, эгоистом, и социально чувствующим существом.
В действительности эротическое чувство само по себе является таким же своеобразным миром, как и все социально окрашенные чувства или чувства отдельного эгоистического человека; эротическое чувство проходит все ступени – от самых примитивных до сложнейших в своей собственной сфере.
Понятно, почему такое по сути противоречивое своеобразие, как своеобразие любовных ощущений, оценивается обыкновенно как зыбкое; почему это своеобразие лишь в незначительной степени считается эгоистичным и переоценивается скорее как альтруистское. Это второе противоречие, из которого оно совершенно очевидно и полностью состоит. Тут физические способы выражения смешиваются с духовными и, несмотря на противоречивость, все же уживаются. Мы привыкли отличать наши самые сильные физические потребности и инстинкты от наших духовных исканий, но мы также знаем и то, как тесно они связаны между собой и как непременно сопровождают друг друга; таким образом физические процессы не выступают с такой требовательностью, чтобы постоянно притягивать к себе наше внимание и чтобы через нас самих себя осознавать. Эротическое чувство наполняет нас как никакое другое, насыщая всю душу иллюзиями и идеализациями духовного рода, и толкает нас при этом жестоко, без малейших поблажек на жертву такого возбуждения – на тело. Мы не можем его больше игнорировать, мы не можем больше от него отворачиваться: при каждом откровенном взгляде на сущность эротики мы словно содействуем древнему изначальному спектаклю – процессу рождения психического в своем полном великолепии из огромной, всеохватывающей утробы-матери – физического.
Но здесь мы связываем понятия «физическое» и «духовное» как отдельные представления, точно так же, как невольно пытаемся это сделать и с понятиями «эгоистическое» и «альтруистическое», чтобы по возможности целостно понять феномен любви и выразить это единым представлением.
Отсюда странный дуализм во мнениях об эротическом, и отсюда – изображение эротического, исходящее из двух совершенно противоположных сторон.
Резкости этих контрастов способствует еще одно обстоятельство. Наша половая жизнь, точно так же как и все остальное, физически в нас локализована и отдельна от прочих функций. Половая жизнь воздействует централизованно и так же обширно, как деятельность головного мозга, но отличие ее в том, что при этом она выступает на передний план намного грубее и выразительнее.
Да, «темное» чувство этого феномена любви может само прийти к влюбленным, и, возможно, это явится одной из самых сильных причин того глубокого инстинктивного стыда, который будут испытывать юные непорочные люди по отношению к своей физической связи. Этот первоначальный стыд не всегда восходит только к недостаточному опыту, а возникает спонтанно: они считали и ощущали любовь как целостность всей их взволнованной сущности, и этот переход к специальному физическому процессу, к процессу, на который падает ударение, сбивает с толку: это походит на то, как ни парадоксально это звучит, как если бы между двоими присутствовал еще и третий. И это вызывает такое ощущение, будто они сблизились преждевременно, в безусловном расточительстве своей духовной общности.
Тем не менее это сближение пробуждает в человеке пьянящее, ликующее взаимодействие продуктивных сил его тела с наивысшим духовным подъемом. И хотя нашему сознанию наша же собственная телесность знакома довольно плохо, и еще меньше подлежит контролю тот мир, с которым мы должны вступить в соединение, став единой сущностью, неожиданно возникает такая остро ощущаемая иннервация между ними, что все желания вспыхивают в одночасье, разом и одновременно.
Справедливо утверждение: всякая любовь – счастье, даже несчастливая. Справедливость этого выражения можно признать полностью, без всякой сентиментальности, понимая это как счастье любви в самом себе, которая в присущем ей праздничном волнении будто бы зажигает сто тысяч ярких свечей в затаенных уголках нашего существования, чей блеск яркими лучами озаряет нас изнутри. Потому люди с истинной душевной силой и глубиной знают о любви еще до того, как полюбили, – подобно Эмилии Бронте.
В эротическом опыте реальной жизни любовь и обладание другим человеком прибавляют к этому глубинному опыту особый вид счастья, как бы удвоенного, подобно эффекту эха. Удивление и радость от того, что вещи изнутри откликаются на наш возглас ликования.
Поэтому любой вид духовно-творческой деятельности в эротическом состоянии с особой силой подвержен влиянию, порою он повышается, воодушевляется, и это случается даже в тех сферах, которые практически очень далеко лежат от всего личного.
Обращенный в эту творческую глубину, наш дух, находясь в таком бессознательно-эротическом состоянии, обнаруживает силы, которые до этого были неведомы нам, наряду с утратой других сил, которые были известны ранее.
Это звучит странно, но есть тем не менее чудесные стороны бытия, которые воистину в полной мере связывают влюбленного с хваленой детской непосредственностью гениально творящих натур.
Эта детская непосредственность, в которую, в силу эротического омоложения, может впасть самый благоразумный и закоренелый педант, отличает строжайшим и неподкупнейшим образом подлинно эротическое от любого рода похоти, ибо та всегда остается изолированной, локальной в своем телесном возбуждении и не вызывает того исключительного состояния опьянения, которое охватывает человека целиком.
Определенные вещи стилизуются, ощущаются как бы вне реальности в своем собственном мире, и, может, потому, что они поэтически наполнены, и могут только в такой форме вообще восприниматься.
Художник выбирает только те вещи, которые его настраивают продуктивно, вплоть до гениальности, он может выбирать к тому же только определенные их стороны, а также только определенные отношения их сущности к самому себе, не обращая внимания на прочие качества.
Что касается объекта нашей любви, то не мы открываем его, как и не мы выбираем его для себя – мы выбираем в нем только то, что как раз необходимо нам, чтобы это открылось в нас самих. Поэтому любовь и творчество в корне своем тождественны.
Вот почему чувство эротического в нас, без всякого сомнения, должно быть по сути своей точно таким, как гениальное творчество, которое воспринимают чаще как периодичность, которое приходит и прерывается, и чью интенсивность или полноту счастья совершенно определенно измерить в отдельном случае нельзя, как нельзя предположить и его продолжительность. И все же, при любых обстоятельствах, сильное любовное чувство неспособно поверить до конца в крах своих же иллюзий.
В любви, как и в творчестве, лучше отказаться, чем вяло существовать. Лучше верить, что периодичность высшего счастья в любви, как и в творчестве, естественна. И все же колебания чувств переносятся с трудом, в особенности когда их фазы не всегда у двух людей совпадают.
Преходящий характер любой любовной страсти, как в творчестве, мог бы приводить к менее опасным кризисам, если бы к этому не добавлялись некоторые недоразумения.
Жизнь и любовь не совпадают и делают затем друг другу печальные уступки, чтобы вообще продолжать существовать: любви предоставляется несколько праздничных мгновений, но она неохотно соглашается снять после бала свои праздничные одежды и в самом скромном, повседневном платье ютиться в углу. Но этот печальный конец, который искушенный человек обычно с грустной уверенностью предвидит для всякого влюбленного, оттого и случается, что сначала блеск любви воспринимается как очень важный, но затем ее право на собственный и праздничный наряд и вечное возрождение праздника недооценивается.
Это, конечно, должно звучать печально, как проповедь все более глубокого одиночества для каждого, кто хочет выйти за его пределы. Между тем фактически только это возвращает любви ее право властвовать вместо того, чтобы отнять его после кратковременного первого опьянения и вместо того, чтобы смешать его с узкообусловленными выгодами жизни. Все же любовь действует как непрямой повод в том случае, если она используется любимым человеком в качестве огнива, а не в качестве самого огня, у которого он согревается. Однако за это остается ей ограниченная власть так долго, как она хочет этого, и так далеко, как только она может достичь во всех областях жизни. Дальше и дальше может она действовать подобно тому, как она поступает в физическом слиянии: охваченный ею, человек зарождает настоящую полноту жизни в контакте с другим человеком, в нем высвобождается творческая сила. Так дело всей жизни, вся внутренняя плодотворность и красота могут брать свое начало только из этого контакта, ибо именно это для каждого человека означает «все», – момент связи с недостижимой подлинностью вещей. Она – средство, при помощи которого с ним говорит сама жизнь, которая неожиданно становится чудесной, яркой, как будто она говорит на языке ангела, милостью которого находит необходимые именно для него слова.
Любить означает знать о ком-то, чей «цвет мира» – способ видения вещей – вы должны принять так, чтобы эти вещи перестали быть чужими и ужасными, или холодными, или пустыми, словно, приближаясь к раю, вы приручили диких животных. Так в самых прекрасных песнях о любви живет соль самой эротики, тоскующей о возлюбленной так, как будто возлюбленная – не только она сама, а также весь мир, вся вселенная, как будто бы она еще листочек, дрожащий на ветке, как будто луч, сверкающий в воде, – преобразовательница всех вещей, одновременно способная преобразовываться во все вещи: так, дробясь и соединяясь, оживает образ предмета любви в сотнях тысяч отражений.
Наибольшая опасность кроется не в том безрассудном ослеплении любовной страсти, когда человек в другом хочет увидеть больше, чем есть на самом деле: опасней, если вместо этого он попытается, наоборот, представить свою собственную сущность «по образу и подобию» другого. Только тот, кто полностью остается самим собой, может рассчитывать на долгую любовь, потому что только во всей полноте своей жизни он может символизировать для другого жизнь, только он может восприниматься как ее сила. Ничего поэтому так не искажает любви, как боязливая приспособляемость и притирка друг к другу и та целая система бесконечных взаимных уступок, которые хорошо выносят только люди, вынужденные держаться вместе лишь по практическим соображениям неличностной природы и должны эту необходимость по возможности рационально признать. Но чем больше и глубже два человека раскрыты, тем худшие последствия эта притирка имеет: один любимый человек «прививается» к другому, это позволяет одному паразитировать за счет другого, вместо того чтобы каждый глубоко пустил широкие корни в собственный богатый мир, чтобы сделать его миром и для другого. В этом причина такого своеобразного и все же отнюдь не редкого явления, когда после продолжительной и счастливой жизни смерть разделяет пару, и оставшаяся в живых «половина» неожиданно начинает расцветать по-новому. Иногда женщины, которые были для своих спутников слишком преданными, полностью сокращенными до «половины», узнают, став печалящимися вдовами, к своему собственному удивлению, чудесный поздний расцвет подавленной, почти уже позабытой собственной сущности.
На деле быть «половинами» всегда плохо для обеих сторон, и всегда бывает тесно в их «жилище», если они к тому же еще «притерлись» друг к другу: хотя они говорят теперь «мы» вместо «я», но «мы» уже не имеет никакой ценности, когда захвачено «я». И это относится не только к духовно бедным личностям, но свойственно и для личностей с богатым внутренним миром, где один у другого наивно отнимает его содержание, присваивает и пытается жить сам, и для этого прячет внутрь свое собственное, до тех пор, пока они не разлучатся. Теперь они, может быть, были бы по-братски родными, если бы не любили друг друга – с воспоминаниями и страстными желаниями, – были бы, если бы только по ошибке, из привлекательной, плодотворной новизны, которой они были друг для друга, не стали бы смертельной банальностью друг для друга.
Люди говорят о любви с громким преувеличением. Зачем они преувеличивают? Они вынуждены это делать, потому что не могут объяснить это по-другому – а в объяснении они никогда не были сильны, – как же это все-таки происходит, что становятся все больше уверенными в себе, когда любят другого, и что двое только тогда становятся одним, если они остаются двумя.
Они потому так редко остаются «двумя», что единство, по большей части, означает искажение.
Отсюда постоянно растущее взаимное недовольство, столь сильно охватывающее любовную страсть. Опасаются стать ограниченными, опасаются отсутствия больших возможностей для развития и перемен и смотрят с растущим недоверием на «возможность вечной любви в дальнейшем».
В прежней их вере скрывалось много наивной нетребовательности относительно действительно оживляющего любовного чувства.
Современный человек уже лучше знает, что люди никогда друг другом не «владеют», что они получают или теряют друг друга в любой момент жизни, что любовь вообще существует только в их фактическом спонтанном воздействии. По этой причине сегодня трудней отделить легкомыслие или игру от подлинной любовной страсти, и все же они перемешаны не сильней, чем раньше. Но если раньше даже довольно незначительное и бедное в чувственном смысле, весьма малоплодотворное внутреннее отношение пытались представить божьей милостью, то теперь можно отказаться, при обстоятельствах, от относительно богатой и глубокой любовной связи спустя непродолжительный отрезок времени (как раньше от флирта), потому что приходит понимание того, что она все же не является абсолютно всем, что может дать любовь, и что лучше идти дальше порознь. Конечно, в таком понимании лежит определенная жестокость. Эта жестокость знает, что там, где любовь хочет быть большим, чем чувственное или мечтательное времяпрепровождение, она должна сотрудничать с той же самой великой задачей жизни, которой принадлежат наши самые высокие цели и самые святые надежды, и что она из своей области, из самой себя должна завладеть отрезком жизни после другого. Самая совершенная любовь останется всегда такой, пока ей удается самым совершенным образом в большинстве моментов и областей сделать так, что человек переживает все посредством другого человека, – да, до тех пор, пока они в состоянии вместе быть «всем»: влюбленными, супругами, братом и сестрой, друзьями, родителями, товарищами, играющими детьми, строгими судьями, милосердными ангелами.
Если мы заглянем в мир простейших существ, то обнаружим, что амебы совокупляются и размножаются, попарно вжимаясь одна в другую, абсолютно сливаясь с другим существом. Нам кажется естественным, что люди в области физической уже не способны на столь полное слияние; наше тело удовлетворяется тем, что лишь частичка его самого должна пойти для оплодотворения, лишь она должна принять участие в этом полном слиянии и только в узкоограниченной функции.
Странным образом, но в том, что касается души, а не тела, нам хочется, чтобы это взаимопроникновение распространялось еще дальше – так, как это происходит у амеб. Душой мы хотим того же самого, что и телом: не растворения в другом человеке, а, наоборот, благодаря своему контакту, плодотворного становления, усиления, удвоения, вплоть до плодотворного роста. В таких же отношениях состоят художник и его творчество. Потому что автор, даже не соприкасаясь с предметом, пребывает с ним в «амебообразном соитии», поскольку этот предмет оплодотворил его фантазию.
За этой полной аналогией физических и духовных способов выражения любовного восприятия стоит то, что речь идет только о двух сторонах одного процесса. Как творческое возбуждение коренится в процессах фантазии, так эротическое возбуждение, подобно процессу творчества, нельзя вычленить из фантазии, являющейся его порождающим центром. Несправедливо относятся к эротическому процессу, если его ограничивают лишь грубым физическим действием, а все дальнейшее больше не хотят признавать. Но с не меньшей несправедливостью относятся к нему те, которые его лишь морализируют и эстетизируют, искажая при этом половую жизнь. Эротическое – это все то, что относится к изначальной силе притяжения, преодолевая при этом существующую разделенность и несходство между телесными и духовными проявлениями его сути, подчеркивая физический момент в духовном, и наоборот.
С этой суверенной областью – ведь эротическое являет свой собственный целый мир во всех его физических проявлениях – пребывают в разнообразных конфликтах другие области человеческой жизни и различные мнения человека. Пример тому – как часто люди могут одновременно любить и презирать. Я при этом предвижу, в очень частых случаях, что наше «презрение» только привито и что именно любовь в действительности совпадает с нашей глубинной оценкой вещей.
Притягательность предмета остается источником сильного опьянения, но опьянение нашей целостной сущности существует лишь в пределах определенных моментов, в то время как в другие моменты наступает уныние, разочарование. Если эта симпатия возникает в очень чувствительных местах души, ей противостоят в нашей сознательной личностной направленности очень сильные пристрастия и оценки: таков исток борьбы между любовью и презрением, – и, странным образом, от каждого человека, без исключения, ожидается, что он преодолеет свою страсть, хотя никто, даже он сам, не может предугадать, какие боги в глубине глубин борются тут за его сердце и на какой стороне может быть самая тяжелая потеря, серьезное увечье.






