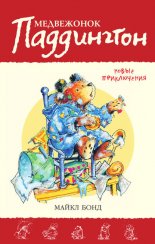Противостояние Семенов Юлиан
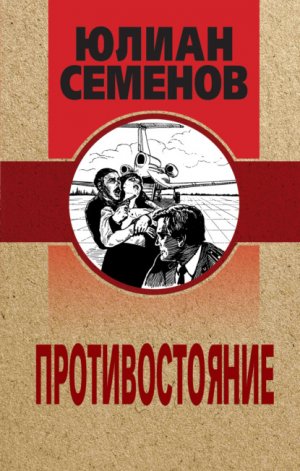
Жуков поднялся, хотел было доложить, но Костенко остановил его, спросив:
– Разрешите присутствовать?
– Конечно, товарищ полковник. Может, вы поведете беседу?
– Если позволите, я задам несколько вопросов…
– Пожалуйста.
– Впрочем, вполне вероятно, что вы уже обсуждали это… Меня интересует, как прошел остаток вечера, после того как уехал Минчаков?
– Это мы обсудили… Владимир Афанасьевич, – обратился Жуков к Григорьеву, – расскажите-ка еще раз.
Толстый, потный Григорьев страдающе посмотрел на жену – такую же толстую и потную, вздохнул:
– Чего ж дважды об одном и том же? Ну, вернулись, когда Миша уехал. Дорка ушла, у ней ребенок и свекровь сволота, не дает бабе жизни. Саков замерз, шофер в моторе плохо разбирался, он ему и помог машину завести, ну, я его после этого отпоил горячим чаем с коньячком, потом он ушел, а мы с Зиной начали мыть посуду, за день всю посуду напачкали, гуляли от души…
– А когда вы Диме коньяк отдали? – спросил Костенко.
– В тот же вечер, как Сакова проводил… Димка к нам потом зашел, сказал, что можно и крючки японские достать и лески.
– А Саков когда бутылки передал?
– Так это вы его спросите… Назавтра, верно, передал, потому что в субботу у него леска была, тоненькая, японская, а Димка без коньяка не отдаст, он на слово не верит…
– Второй вопрос, – сказал Костенко, испытывая отчего-то радость за Сакова – тот был растерянный, жалкий, но всячески пытался сохранить достоинство. – Дора помогала Минчакову упаковывать чемодан?
– Нет. Ты видала, Зин? – спросил Григорьев жену.
– Думаете, ей интересно на его грязные рубашки смотреть? – усмехнулась Григорьева. – Она ж любила его, жалела…
– А он? – спросил Костенко.
– Мужик и есть мужик, – вздохнула Григорьева. – Где плохо лежит, то и возьмет… Кому он был нужен-то, карлик? А Дорка к нему с сердцем, от всей своей одинокой бабьей души…
– Вы Журавлевых хорошо знаете? – спросил Костенко.
– «Здрасьте», «до свиданья», – ответил Григорьев, вопросительно посмотрев при этом на жену.
Та, заметив, как Костенко и Жуков переглянулись, одновременно зафиксировав этот быстрый, осторожный взгляд мужа, ответила:
– Вы только не подумайте чего… Он, – она кивнула на мужа, – знает, что я их не люблю, а мужики все на нее, на Динку, заглядываются… Мне и за Дору обидно было, когда она к Минчаку со всей душой, а он по Динке вздыхал.
– Саков от вас пешком ушел или вызвал такси? – спросил Костенко.
– Пешком.
– А кто может подтвердить, что он пошел домой? – жестко спросил Костенко, ярясь на этот свой вопрос – увы, необходимый.
– Я, – ответил Григорьев. – Он портфель свой забыл, я его отнес ему, еще Зина сказала: «Пойди пройдися, ты ж еще не протрезвел».
– Что делал Саков, когда вы к нему пришли?
– Спал. Он рано ложится.
– Долго вы у него пробыли?
– Да нет, отдал портфель и ушел…
– Ой, конечно, портфель он мне принес, – обрадовался Саков, сидевший в кабинете Костенко – гора окурков высилась в пепельнице, дым плавал слоистый, фиолетовый, тяжелый. – Я совсем об этом забыл!
Журавлева – Костенко приехал к ней около двенадцати – была в халатике уже, лицо намазано густым слоем питательного крема.
– Простите за поздний визит, – сказал Костенко, – но мне нужно уточнить еще одну деталь.
– До утра не ждет? – Женщина пожала плечами. – Проходите.
– Спасибо. Супруг уже спит?
– Супруг работает в вечернюю смену, – как-то усмешливо выделив слово «супруг», ответила Журавлева, – он вернется с минуты на минуту.
– А в тот вечер, когда к вам приезжал Минчаков, супруг, – Костенко специально повторил столь неприятное Журавлевой слово, – был дома?
– Мы ведь ответили на этот вопрос. Да, мы были вместе.
– Нет, я имею в виду тот вечер, когда Минчаков забрал у вас посылку…
Журавлева поднесла руку к виску, лоб ее сжался морщинами, которые стали особенно заметны из-за слоя крема:
– Да.
– А вы Минчакова проводили к машине?
– Нет. Я видела из окна, как он сел в машину…
– Шофер был за рулем?
– Я не видела.
– Меня интересует – к вам вместе с Минчаковым шофер не поднимался?
– Нет.
– Значит, лица шофера вы не видали?
– Нет.
– И номера такси не запомнили?
– Нет.
– Ну, извините, – сказал Костенко и поднялся.
Ранним утром следующего дня Костенко все же решил не вызывать Крабовского в УВД, потому что дважды прочитал его показание, как тот увидал мешок с трупом. С человеком, который столь пространно и увлеченно пишет, надо разговаривать, аккуратно направляя беседу в нужном для дела направлении, а в служебном кабинете такой разговор вряд ли получится.
– Крабовский? – удивленно переспросили Костенко в институте. – Так он в библиотеке, он там проводит все время!
– Почему именно в библиотеке? Разрабатывает новую тему?
Девушки – видимо, лаборантки – посмеялись:
– У него каждый день новые темы. Сейчас он хочет доказать, что и языкознание связано с проблемой бюрократии – то есть с потерей качества времени, похищенного общественно полезного труда.
– А что? – улыбнулся Костенко. – Интересная тема…
…Крабовский был обложен книгами. Несколько минут Костенко наблюдал за тем, как тот работал, подивился стремительной точности движений «кладоискателя», его прекрасным прикосновениям к словарям и тетрадям.
– Алексей Францевич, – окликнул его Костенко. – Я – по вашу душу.
– Верите в существование души? – мгновенно среагировал Крабовский, не поднимая головы от страницы. – Прекрасно, есть тема для беседы. Но только завтра, сегодня я занят.
– Завтра я занят. Увы. А поговорить надо…
– «Поговорить надо», – повторил Крабовский, чуть отодвинул книгу, снял очки. – Вы из уголовного розыска? Вполне типичная фраза вашей номенклатуры: «Надо поговорить».
– Потому-то я к вам и пришел, что вы – логик в абсолюте.
– Хотите завоевать меня такого рода заключением? – спросил Крабовский. – Я, кстати, – с точки зрения логики в абсолюте, – исследовал вопрос: каким образом стареющая эстрадная звезда может удержать аудиторию? И вывел закон: она должна окружить себя пятью обнаженными кордебалетчиками с налитыми мускулами. Таким образом старушка привлечет на красавцев молодых девушек – тем угодно обозрение сильного мужского тела. И пожилые дамы потащат мужей на спектакль: «Смотри, как она держится, несмотря на возраст!» А поскольку женщин больше, чем мужчин, – нас с вами периодически отстреливают на фронтах и доводят до инфарктов на совещаниях, – лишь они, прекрасный пол, определяют успех или провал любого зрелищного предприятия. Впрочем, к чему это я? Ах, да, логик в абсолюте! Присаживайтесь, что у вас? Я ведь уже описал то, что помнил.
– А мне бы хотелось вас еще раз послушать.
– Полагаете, что, как всякий интеллигент, я говорю лучше, чем пишу?
– Не надо приписывать мне те мысли, которые не приходили в голову. Это, кстати, типично для женщин…
– Мужчина не может мыслить категориями женщин – язык явление не только социальное, но и – в определенном роде – физиологическое.
– Плохое слово – в приложении к понятию «язык».
– Ха! – Крабовский ударил себя по ляжкам, засмеялся деревянно. – Ха! Чудо! Прелесть! Мир повторяем! Фамилия Шишков вам что-нибудь говорит?
– Нет.
– Спасибо. Ценю людей, которые не смущаются признать незнание. Адмирал Шишков, автор трактата «О старом и новом слоге», главный враг Карамзина. Он тоже какие-то слова считал плохими и невозможными в употреблении. Он, например, требовал изъять из русского языка такие слова, как «развитие», «религия», «оттенок», «эпоха». Вместо этих отвратительных заимствований из языка «похабной Европы» следовало вернуть в обиход «умоделие», «прозябание», вместо «аллея» надобно было говорить «просада», не «аудитория», а «слушалище», вместо «оратор» – «краснослов». Адмирал заключил, что, мол, надобно «новые мысли свои выражать старинных предков наших складом». Ладно бы печатал свои теории, так ведь возвел вопрос о слоге в предмет государственного интереса, языковые нововведения отождествлял с изменою вере, отечеству и обычаям… Он даже слово «раб» определил так, как это было угодно государю и дворцовой дряни. «Раб» – по Шишкову – происходило от «работаю», то есть «служу по долгу и усердию». Таким образом, нет в России никакого рабства, крепостное право – выдумка злодеев-французов, поскольку на Руси живут усердные и жизнерадостные слуги «отцов-патриархов»…
– Любопытно, – откликнулся Костенко.