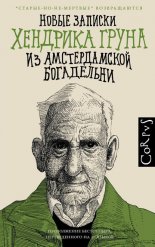Доктор Вишневская. Клинический случай Шляхов Андрей
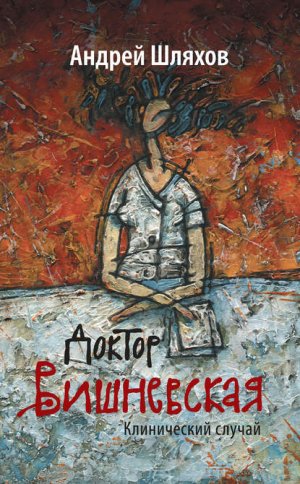
– Поблагодарить меня за то, что я не стал подавать на вас в суд за оскорбление чести и достоинства, а ограничился…
– Чести и достоинства?! – От возмущения Анна чуть не выронила трубку (разговаривала она из своего кабинета по городской линии). – Это у вас – честь и достоинство?! Да кто это вам так польстил?!
– Я могу и передумать, – негромко, но с угрозой сказал Дмитрий Григорьевич. – Если у вас есть, что сказать по делу, – говорите, если нет – до свидания.
Я, как вам известно, в отделении работаю, а не на кафедре баклуши бью, мне время дорого.
– Ах по делу?.. – Мысль о том, что разговор может записываться (а что – от такого типа всего можно ожидать) удержала Анну от кое-каких слов и выражений. – Ладно, давайте по делу. Вы думаете, что сумеете выйти сухим из воды? Ошибаетесь! Я постараюсь сделать так, что вас не только в Москве, но и в Мухосранске каком-нибудь на работу не возьмут!
– Давайте без угроз? – спокойно попросил Дмитрий Григорьевич. – И потом, нет такого города – Мухосранск. У вас все, Анна Андреевна, а то мне к больным надо?
Непрошибаемая какая сволочь! Небось ждал этого разговора, готовился, укреплялся духом, репетировал разные варианты. А может, он просто такой мерзавец, что ничему не удивляется и ни на что не обижается? Думает, что ничем его не возьмешь? Посмотрим…
– Нет не все! Я хочу вам сказать… – «А что, собственно, я хочу ему сказать», – подумала Анна, – …я хочу предупредить, что это вам просто так с рук не сойдет!
– Что именно?
Такое впечатление, что разговариваешь с автоответчиком. Ноль эмоций!
– Вся эта ваша затея! Она вам аукнется!
– Я ничего не затевал, Анна Андреевна. Я не оскорблял коллег при свидетелях, я не разглашал врачебных тайн при свидетелях, я не звоню никому с угрозами. Что мне должно аукнуться?
– Не делайте из меня дуру! Вы прекрасно понимаете…
«А зачем, я, вообще звоню? – вдруг подумала Анна. – Выплеснуть наболевшее? Что это даст?» Мотив для звонка был, разумеется, скорее эмоциональным, нежели практическим, но и доля практического тоже присутствовала. Хотелось не только высказать Дмитрию Григорьевичу все, что она о нем думает, но и предупредить, что, давая объяснения где угодно, хоть в министерстве, хоть в суде, замалчивать его грехи она ни в коем случае не будет. Наоборот, выложит все, как есть. Навряд ли Дмитрий Григорьевич заинтересован в привлечении внимания к своей особе со стороны департамента здравоохранения, министерства и, тем более, людей в погонах. Людям в погонах с таким «анамнезом» только на заметку попадись – очень скоро станешь фигурантом оперативной разработки, а от фигуранта до подсудимого рукой подать. Был шанс, что Дмитрий Григорьевич пойдет на попятный, небольшой, но был, а шансами, пусть и небольшими, пренебрегать не стоит. Интересно, с чего это Дмитрий Григорьевич такой спокойный? Тупой и не понимает? Или – крутой и не боится? Скорее всего, тупой, был бы крутым давно ушел бы в какое-нибудь место получше, а не сидел в не самой лучшей московской больнице. Хотя здесь мог крыться свой расчет, весьма прозаический – лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе. Какой смысл уходить оттуда, где у тебя все схвачено?
Однокурсник Анны Гена Просвирников (одно время он даже кандидатом в женихи числился, правда, недолго – месяца два, потом переключился на более доступный объект) по окончании клинической ординатуры удивил всех. Не остался в Институте хирургии, а уехал «на периферию», правда, не очень-то далеко – в одну из больниц ближнего Подмосковья. В «рядовых» врачах Просвирников проходил недолго – не прошло и двух лет, как его назначили заведующим отделением…
В тридцать лет Просвирников стал главным врачом ЦРБ, районным, так сказать, министром здравоохранения. В институте он так быстро бы не «взлетел», что да, то да. Глядишь, лет через десять при таких темпах областным здравоохранением рулить станет. Да нет, какие там десять? Лет через пять-шесть.
– Я прекрасно понимаю, что вы на меня сердитесь, – мягко перебил Дмитрий Григорьевич. – Но не я же виноват в случившемся. Я никого не оскорблял и ничего не разглашал.
Анна представила, как сидит он сейчас весь такой из себя самодовольный в ординаторской, лыбится, перемигивается с коллегами и наслаждается моментом, как кот, забавляющийся с мышкой. Обольщайся, противный, пока тебе обольщается, только смотри, как бы твоя мышка не оказалась бы скорпионом. Зодиакальный знак, как-никак, ведь родилась Анна шестнадцатого ноября.
Что ж – разговор не получился. Бывает, ничего страшного. Последнее слово за собой можно и не оставлять, это по большому счету ничего не значит, но так хотелось сказать Дмитрию Григорьевичу что-нибудь нехорошее…
– Вы – штопаная душа! – неожиданно вырвалось у Анны.
Так нехорошего человека вряд ли кто-то обзывал. Анна и сама не слышала никогда такого выражения. Оно родилось случайно, путем извлечения из длинной вертевшейся в уме нецензурной фразы двух цензурных слов. С переводом прилагательного из мужского рода в женский и изменением падежа существительного с винительного на именительный, чтобы слова сочетались гармонично.
Дмитрий Григорьевич помолчал несколько секунд, осмысливая услышанное (давать отбой Анна не стала, чтобы он ненароком не подумал, что сумел довести ее до истерики) и сказал:
– Это еще Довлатов писал, что в разговоре с женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы, взываешь к логике и здравому смыслу, но неожиданно для себя обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса.
– Мне противен не только звук вашего голоса, но и ваш вид, – подхватила Анна. – Мне противно сознавать, что кто-то может назвать нас словом «коллеги». Мне вообще противно. Очень надеюсь, что это наш последний разговор.
– Вряд ли, Анна Андреевна. Скорее всего, нам еще предстоит встречаться и не раз…
«В министерстве или в суде» Дмитрий Григорьевич уточнять не стал, и так ясно, что не в ночном клубе.
– Я постараюсь сделать так, чтобы вам запомнились эти встречи! – Анна сначала пообещала и только потом поняла, что обещание звучит несколько двусмысленно, но сказанного не воротить. – У меня все.
Вот теперь можно дать отбой. «У меня все» и отбой – это, конечно, выглядит высокомерно, но в данной ситуации вполне уместно.
– Не сладился разговор, – пожаловалась Анна Однофамильцу.
Однофамилец по своему обыкновению ничего не ответил. Не Хогвартс, какой-нибудь, чтобы портреты разговаривали, а Российский государственный медицинский университет последипломного образования, сокращенно – РГМУПО. «Эргэмупо – Лимпопо», как иногда шутят сотрудники. Зато Однофамилец был прекрасным слушателем. Смотрел строго, но в то же время приветливо, словно хотел сказать: «Отвлекаешь ты меня, Анька – от важных дел». Дела были важными по определению, у основоположников и корифеев неважных дел, наверное, не бывает. «Дедушка?» – узнавали или догадывались коллеги, впервые оказавшись в кабинете доцента Вишневской. «Однофамилец», – коротко отвечала Анна. Некоторые не верили, думали, что скромничает, а что тут скромничать. Был бы дедушка, так бы и говорила. Мало ли на белом свете Вишневских? В Польше эта фамилия вообще третья по распространенности.
Портрет Однофамильца Анне подарили на двадцатилетие однокурсники. Не исключено, что сперли с одной из хирургических кафедр, где еще в наше время найдешь такой раритет. Слегка потрескавшуюся деревянную раму Анна трогать не стала, хотя была мысль пройтись по ней морилкой, так и повесила. Сначала Однофамилец висел дома, над «художественным» рабочим столом, а когда Анна дослужилась до кабинета, переехал сюда, на кафедру клинической иммунологии и аллергологии.
Однажды случилось прикольное. Занесло Анну на консультацию в шестьдесят пятую больницу. Вообще – то ее туда частенько заносило, раза четыре в год как минимум, но в тот день все сложилось как-то непредсказуемо, неудобно и несуразно, в результате чего Анна явилась в отделение кардиологии около семи часов вечера. Лечащий врач уже ушел, заведующий отделением тоже ушел, а из-за каких-то сбоев в графике (кто-то на дежурство не вышел, что ли, – такой уж выдался день), отделение оставили под наблюдение врачу-терапевту приемного отделения. Прибежал улыбчивый ясноглазый доктор, по лицу видно, что добряк из безотказных, из таких, на которых все ездят, по возрасту – примерно Аннин ровесник. Представился Алексеем Ивановичем, а услышав «Очень приятно, доцент Вишневская, Анна Андреевна», просиял и выдал: «А я – Боткин». Шуточек насчет фамилии Анна не любила, а шапочно знакомым вообще не позволяла себя вышучивать, поэтому иронично приподняла левую бровь и уже совсем собралась сказать: «Хорошо, что не Склифософский!» (хотя, если вдуматься, то разницы никакой), но успела прочесть на бейджике коллеги его фамилию. Действительно – оказался Боткин. «Только Склифосовского нам не хватает», – пошутила Анна, довольная, что не успела сказать колкость.
– Но если он думает…
Однофамилец молчал, но молчал как требовалось – понимающе и сочувственно. С понимающим собеседником разговаривать очень удобно, потому что можно обходиться без долгих объяснений. Можно не договаривать до конца, можно пропускать середину, как, например, сейчас.
– …то обломается! Я его…
Больше всего хотелось залепить Дмитрию Григорьевичу увесистую оплеуху. От всей, как говорится, души, так, чтобы рука потом долго болела. Но это неинтеллигентно, к тому же чревато последствиями. Сколько там обещает Уголовный кодекс за оплеухи? Это легкое телесное повреждение или моральная травма средней тяжести? Нет, она не будет давать в руки негодяя лишний козырь, она его морально уничтожит. Ишь ты, еще Довлатова цитирует. Да Довлатов с таким мерзавцем в одном поле… Ладно, не надо отвлекаться, не на Довлатова этот хорек полоскучий клевещет, а на доцента Вишневскую. Ну так доцент Вишневская ему покажет! Так покажет, что мало не покажется!
Не откладывая в долгий ящик, Анна решила заняться поисками адвоката. Когда принесут повестку (или как там вызывают в суд?) искать адвоката будет уже поздно. Анна посмотрела на часы. Срочных дел нет, уходить домой рановато. Всякий раз с началом учебного года Аркадий Вениаминович переживал очередной приступ ХДБ, то есть хронической дисциплинарной болезни и две-три недели отслеживал приходы и уходы подчиненных, требуя «отбывать» на кафедре положенное время до минуты. Потом приступ проходил, до следующего учебного года шеф успокаивался, а сотрудники возвращались в прежний режим «сделал дело – вали домой смело».
В очередной раз отругав себя за то, что до сих пор не удосужилась на всякий пожарный случай обзавестись своим адвокатом, Анна шевельнула мышкой, выводя компьютер из ждущего режима. Собирать информацию по знакомым не хотелось. Толка будет мало, каждый станет взахлеб нахваливать того, кто ему симпатичен или того, кто с ним делится. Сарафанное радио работает или на симпатии, или на выгоде, а Анне нужен настоящий профессионал, настоящий волк от юриспруденции, съевший сотни собак, то есть – выигравший сотни процессов. Короче говоря – что-то вроде Мистера Вульфа из «Криминального чтива», человека, который решает любые проблемы. По нынешней жизни практикующему врачу без личного адвоката никак нельзя. Пациент нынче пошел грамотный, прекрасно знающий свои права и чужие обязанности. Это правильно, а как же иначе? Попадешь в руки такого афериста, как уролог Дмитрий Григорьевич, или такой дуры, как кардиолог Нателла Петровна, поневоле вспомнишь про права и обязанности. Вспомнив Нателлу Петровну, Анна едва не застонала…
Кардиолог Нателла Петровна Хотькова была уникумом, своего рода достопримечательностью двадцать пятой больницы, незаслуженным наказанием заведующего кардиологическим отделением, вечной головной болью заместителя главного врача по медицинской части и камнем на шее главного врача. Подобно сказочному дурачку Хотькова отличалась завидным усердием при совершенно незавидном отсутствии ума. Только вот дурачкам к концу сказки положено умнеть, а в реальности они, оправдывая народную мудрость «горбатого только могила исправит», так дураками и помирают. Нателла Петровна недавно вошла в «ягодный» женский сорокапятилетний возраст и даже самые отчаянные оптимисты, такие, например, как заведующий лабораторией Чечин, не надеялись на то, что доктор Хотькова поумнеет.
С медициной Нателла Петровна («Я – На-тел-ла, а не Наталья, прошу запомнить! И тем более не Наталия!») связала свою жизнь сразу же по окончании десятого класса (тогда еще учились десять лет, а не одиннадцать). Подала документы в медицинское училище (на институт сразу замахнуться не решилась), не поступила, получив двойку на первом же экзамене по биологии, отсанитарила год в приемном отделении, подала снова, только уже не на сестринское, а на фельдшерское отделение, чудом поступила (как «своей» – санитарка все-таки – пошли навстречу), окончила, устроилась на скорую помощь и почти сразу же ушла в декретный отпуск. Рожала Нателла Петровна продуманно – через два года на третий, поэтому просидела дома пять лет с сохранением стажа. Забыла, конечно, все, чему ее учили, но, одновременно, осознала, что вожделенное некогда фельдшерство ее уже не устраивает. Надо становиться врачом и только врачом!
Попытка поступить на лечебный факультет «с наскока» («Я уже десять лет в медицине!») не увенчалась успехом. Для поступления надо иметь соответствующие знания или, как утверждают злые языки, явно из числа не поступивших, соответствующие суммы денег. Ни того, ни другого у Нателлы Петровны не было. Совсем. Пьяница-муж ушел к другой женщине, «понятливой», с которой, по его выражению, «можно было выпить без головной боли», и Нателла Петровна тянула двоих детей на одну фельдшерскую зарплату. Ну – почти на две, потому что работала чуть ли не сутки через сутки, благо с детьми сидела ее мать, но все равно на жизнь хватало с трудом. Потратишься на одно, к примеру – на зимнюю одежду и обувь детям, так приходится экономить на другом – в который уже раз чинить свои зимние сапоги вместо того, чтобы купить новые. Такое житье можно сравнить с коротким одеялом. Ноги укрыты – так спине холодно, а, если натянуть на спину – ноги мерзнут.
Поступить в институт хотелось, даже очень. Другая бы на месте Нателлы Петровны сдалась, смирилась, осталась бы на всю жизнь в фельдшерах, но то другая… Энергии у Нателлы Петровны было хоть отбавляй, и настойчивости тоже. Да и ум имелся, точнее не ум, а природная крестьянская смекалка. Нателла Петровна написала письмо министру здравоохранения. Мать-одиночка, двое детей, фельдшер со стажем, с младых, можно сказать, ногтей в медицине, очень хочу быть врачом, помогите, пожалуйста! Терпеливо выждала месяц, но ответа так и не получила. Другая бы… впрочем, это уже было сказано. Нателла Петровна изменила жизненный режим. Теперь после дежурства она спешила не домой, чтобы отоспаться, а на Неглинную улицу, в министерство здравоохранения. Подобно воде, просачивающейся в любую щелочку, она проникала в высокие кабинеты, а то и перехватывала их обитателей в коридорах (можно сказать – в коридорах власти перехватывала) и хорошо поставленным голосом заводила свою скорбную песнь. Мать-одиночка, двое детей, фельдшер со стажем… и т. д. Дважды ее выводил из министерского здания наряд милиции. Оба раза заканчивались одинаково – тронутые слезами и горем, милиционеры довозили Нателлу Петровну до станции метро «Кузнецкий мост», где отпускали без составления протокола. Странно, но суровые, огрубевшие сердцами, милиционеры, оказывались более чуткими, нежели высокопоставленные министерские чиновники.
Но пробил час – и настал тот день благословенный, когда один из не самых главных заместителей министра дрогнул и сдался. То ли Нателла Петровна начала являться ему в страшных снах, то ли у него просто было настолько хорошее настроение, что хотелось делать добрые дела, то ли в министерстве ждали каких-нибудь важных гостей и буйно-слезоточивая просительница была совсем некстати… Да в и мотивах ли дело? Главное, как известно, – результат. Большой человек записал данные Нателлы Петровны («Не секретутке своей поручил, а сам, лично, записал!»), дал ей глянцевогербовую визитную карточку и велел позвонить через неделю. Нателла Петровна, обезумев от радости, запечатлела на щеке замминистра мокрый поцелуй (вот уж, небось, было радости-то!) и ушла настолько окрыленная в своей радости, что, забыв о метро, пошла в родное Выхино (тогда еще район назывался Волгоградским, а станция метро – «Ждановской») пешком. К Таганской площади пришла в себя (дождик помог) и спустилась в метро. Дело было в апреле, а первого сентября сияющая Нателла Петровна, поступившая на вечернее отделение лечебного факультета, держала в руке свой студенческий билет, открывала, закрывала, даже нюхала его и млела, млела, млела от счастья. Кто долго шел к звездам, продираясь через тернии, тот поймет.
Учиться было легко, ибо опыт уже наработался. Институтские преподы оказались куда более податливыми, нежели министерские чины, к тому же Нателлу Петровну (не красавицу, но вполне симпатичную женщину) молва зачислила в любовницы того самого заместителя министра, поэтому ей охотно шли навстречу. Опять же – мать-одиночка, двое детей, параллельно с учебой дежурит на «Скорой помощи»… Да и вообще к «вечерникам» относятся более либерально. До слез и мольб на зачетах дело никогда не доходило, довольно было завести песнь про жизненные трудности, как в ответ звучало: «Ну ладно, давайте зачетку». Когда со вздохом, когда – без.
Окончив институт, Нателла Петровна по инерции недолго поработала на «Скорой», но вскоре возжелала стать Настоящим Клиницистом и устроилась на работу в приемное отделение сто сороковой городской больницы (в другие, так сказать, «клинические» отделения ее не взяли). Через три месяца заведующий отделением предложил ей «уйти по-хорошему» и был послан по самому известному адресу. На следующий день то же самое предложила Нателле Петровне заместитель главного врача по медицинской части. Ее Нателла Петровна посылать не стала, просто выбежала из кабинета и ворвалась в другой кабинет, к главному врачу, где потребовала защиты и справедливости. Главный врач был понятлив (непонятливые люди главврачами не становятся), поэтому в ходе пятнадцатиминутных переговоров обе стороны пришли к взаимоприятному соглашению. Больница отправляла Нателлу Петровну переучиваться на кардиолога, а взамен Нателла Петровна обязалась уволиться по собственному желанию сразу же по окончании учебы. Залогом послужило написанное ею заявление без даты с просьбой об увольнении, которое главный врач спрятал в свой сейф на случай. Так в мире стало одним кардиологом больше. Кто-то из Рокфеллеров утверждал, что главное для успеха – это настойчивость, и, конечно же, был прав.
Во второе кардиологическое отделение двадцать пятой больницы Нателла Петровна перешла из такого же кардиологического отделения восемьдесят восьмой больницы, где несколько лет происходило ее становление клиницистом-кардиологом. Процесс шел не очень гладко, коллеги и администрация считали, что Нателле Петровне не хватает знаний в частности и ума вообще, а сама Нателла Петровна была уверена, что со знаниями и прочим у нее все в порядке, надо только клинического опыта поднабраться. Поднабравшись, она решила, что клиницисту не следует работать там, где происходило его становление, дабы былые огрехи не накладывались на нынешний авторитет, и устроилась в двадцать пятую больницу. Главврач восемьдесят восьмой, не чаявший избавиться от такого «чуда», дал Нателле Петровне столь лестную характеристику, что в двадцать пятой ее поначалу (в течение двух первых рабочих дней) прочили в заведующие отделением, вместо скоро уходящей на пенсию. Потом поняли, заценили все качества, в том числе и вздорно-скандальный характер вкупе с привычкой чуть что бить во все колокола и обращаться во все инстанции, да уже было поздно. Так и терпели – днем Хотькову бдительно контролировал заведующий отделением, а по дежурству – кто-то из других дежурных врачей. Анна испытывала к Нателле Петровне стойкую неприязнь, потому что вообще не любила дураков, а особенно тех, кто имел гипертрофированное самомнение, Нателла Петровна платила Анне той же монетой, поскольку не любила вообще всех кафедральных сотрудников, выскочек и воображал. «Классовые» противоречия подчас обострялись во время совместных обходов (или сразу же после них), вызывая бурные дискуссии, из которых Анна неизменно выходила победительницей.
Примечательно, но на Нателлу Петровну никогда не жаловались ни пациенты, ни их родственники, не говоря уже о том, чтобы с ней судиться. Коллеги пожимали плечами, презрительно кривили губы и говорили: «Какой спрос может быть с дурака?».
Двадцать минут блужданий по сайтам юридических контор и отдельных юристов, обернулись двумя столбиками имен в блокноте. В первом, под буквой «О», то есть «опытные» стояло пять фамилий с адресами, во втором, под «Н», «начинающие» – две. Анна не раз видела, как во время клинических разборов или на обходах молодые, «свежеиспеченные», толковые врачи «утирали носы» своим опытным, излишне самонадеянным коллегам. Если такое имеет место быть среди врачей, то почему ему не быть среди юристов?
Мораторий
После посещения третьего по счету офиса начала вырисовываться система.
Маститые адвокаты имели офисы в центре Москвы, неподалеку от станций метро. Сдохнешь, пока доедешь, и хрен припаркуешься. На Пятницкой так пришлось в каком-то дворе машину оставить под недовольное жужжание местных старух.
Маститые адвокаты имели роскошные офисы и вышколенный персонал, но на кофе экономили не по детски. Дрянной кофе – это ужасно, но дрянной кофе в стильной фарфоровой чашке ужасен вдвойне.
Маститые адвокаты вели себя точно так же, как маститые профессора-врачи. Достоинство, бьющее из всех пор организма, ни слова в простоте, демонстрация своей великой занятости. И «грузили» клиента не хуже, разворачивая перед ним пугающие картины.
– Мне часто приходится сталкиваться с подобными обвинениями, и я понимаю, что обвинение в разглашении врачебной тайны может обернуться крахом карьеры…
– Мало что грозит врачу такими неприятными последствиями…
– Два свидетеля? Это очень плохо. Готовьтесь к худшему, но помните, что последствия могут быть разными. Может быть очень плохо, а может – и не очень. Я, со своей стороны, приложу все усилия…
Маститые адвокаты оценивали (причем оценивали предварительно, с оговоркой, что окончательная сумма будет больше) свои услуги столь дорого, словно брались вытащить сухим из юридических вод серийного убийцу. И при этом добавляли, что сами они ужасно заняты, работают по двести часов в неделю (Анна умножала семь на двадцать четыре, но с уточнениями не лезла), поэтому делом Анны будет заниматься кто-то другой – ассистент или младший партнер. Разумеется – под неусыпным и неустанным контролем босса.
Честно говоря, чего-то вроде этого Анна и ожидала, поэтому и записала координаты парочки молодых адвокатов. «Юридического» опыта у нее пока еще не было, Бог миловал, но не первый день, все же, жила на свете, понимала что к чему.
В пробке на Волгоградке Анна подумала о том, что, будучи палатным врачом, она, как и многие ее коллеги, никогда не интересовалась документами, подтверждающими родство, при общении с людьми, представлявшимися родственниками пациентов. Всегда уточняла у больных, кому можно давать информацию об их состоянии, но этим дело и ограничивалось. А могла бы и налететь. Но вот парадокс – пока вела палаты, будучи ординатором, аспирантом и ассистентом кафедры, ничего подобного не случалось. Случилось сейчас, когда с родственниками пациентов практически перестала общаться. Жизнь бьет неожиданно и совсем не с той стороны, откуда можно было бы ждать удара.
На втором году клинической ординатуры Анна Вишневская считала себя состоявшимся врачом и, честно говоря, считала не без оснований. Во время обходов в ее палатах заведующий отделением, тот еще придира и буквоед, кивал головой и со всем соглашался. Если говорил: «а не сделать ли нам…», то слышал в ответ: «Уже сделано, Александр Станиславович…». Профессор Гишпурин, человек буйного нрава и необузданных страстей, любивший в гневе рвать истории болезней в мелкие клочья, Анне благоволил и ставил в пример не только ординаторам, но и тем, кто ординатуру окончил давно. Насчет рвать истории в клочья, это не преувеличение, Гишпурину, человеку со связями, и не такое с рук сходило. Однажды в прямом смысле слова вышиб из палаты студента-пятикурсника, дерзнувшего переговорить с соседом во время профессорской речи. Подошел, взял за шкирку, отволок к двери, распахнул ее свободной рукой и дал коленом под зад. Потом закрыл дверь и продолжил обход в абсолютной тишине, которую принято называть звенящей. Обиженный студент ходил жаловаться в ректорат, но Гишпурину все было нипочем, как с гуся вода.
Так вот, считала себя Анна состоявшимся врачом и состоявшиеся врачи с ней считались, но подобная гармония противоречила всем известным и еще не открытым законам подлости. Подлость обернулась строгим выговором с занесением в личное дело, да, вдобавок, выговор был не «местный», а «городской» – за подписью самого руководителя департамента здравоохранения Целышевского. Неплохо так огрести на втором году клинической ординатуры, да еще ни за что.
Все наказанные обычно считают, что их, таких хороших и красивых, наказали без достаточных оснований или вообще без оснований. У Анны был как раз тот случай, когда «вообще».
Привезла «Скорая» бабушку, тихую, маленькую, седую. Про таких еще говорят – божий одуванчик. Из дома привезла, в домашнем халате и тапочках. Родственники, то есть единственный сын-алкаш, бабушку не навещали. Анна покупала ей со своей небольшой ординаторской стипендии питьевую воду, чтобы не приходилось пить отдававшую ржавчиной водопроводную, соседки по палате делились передачами. В положенные сроки – на третий день после поступления, определились с бабушкиным диагнозом, который оказался онкологическим и собрались переводить «по профилю» – в городской онкодиспансер. Собрались да обломались – в суете сборов бабушка прихватила из дома предметы первой необходимости, а вот паспорт и полис обязательного медицинского страхования забыла. Ну по «Скорой»-то можно без полиса и без паспорта, а вот для перевода они нужны. Больная теребила звонками сына, тот обещал принести, да все не нес. Анна попыталась уговорить заведующего отделением из онкодиспансера принять больную без документов, но тот отказался. Анна позвонила бабкиному сыну, высказала ему все, что о нем думает, и потребовала немедленно привезти документы матери в больницу. Сын поклялся, что завтра с утра «все будет», но так ничего и не привез. После работы Анна отправилась за документами сама. Караулила «объект» в подъезде у дверей квартиры до половины двенадцатого, перезнакомилась со всеми соседями (информации про бабушкины дела, кстати говоря, не разглашала, просто говорила, что прислали из больницы за документами), дождалась, высказала еще раз, пожестче прежнего, забрала документы и уехала довольная собой, ну, то есть своим героическим подвигом.
На утро выслушала похвалу от заведующего отделением, получила «добро» на перевод, вызвала перевозку, написала переводной эпикриз, пожелала больной всего хорошего (шансы определенные там были) и на этом сочла дело законченным. Но сказано же – «не обольщайтесь!». Спустя две недели Анну срочно вызвала к себе заместитель главного врача по медицинской части Тамара Семеновна, женщина, существовавшая отдельно от своего почти шестидесятилетнего возраста. Тамара Семеновна любила кислотные цвета, обильную яркую косметику (в тех объемах, когда ее уже называют не косметикой, а «штукатуркой») и обувь на высоченнейших каблуках. В медицине она разбиралась неплохо, характер имела спокойный, почти нордический.
На сей раз никакого нордического спокойствия не было и в помине. На Анну сразу же обрушился поток эмоциональных, не слишком-то связанных между собой восклицаний, весь смысл которых сводился к тому, что произошло нечто ужасное. В понимании руководителей всех рангов «ужасное» начинается с перспективы лишения своего руководящего поста. Минут через пять Анна поняла, в чем дело, – кто-то в онкодиспансере, главный врач или его заместитель, возмутился «задержкой» с переводом бездокументной бабушки и накляузничал в департамент здравоохранения. Из чистой незамутненной вредности или, может, были какие-то свои счеты с администрацией сто седьмой городской больницы, в которой Анна проходила ординатуру. Если уж начистоту – то совсем не тот был случай, чтобы прямо сразу и в департамент.
Анна за собой вины не чувствовала. На сына больной надеялась недолго, несколько дней, в истории болезни оставляла записи: «сыну пациентки передана просьба срочно привезти документы матери», в итоге съездила за паспортом и полисом сама, хоть и не было такого в ее должностных обязанностях. А если онкодиспансер так за больных радеет, то могли бы в порядке исключения и без документов принять. Так и Тамаре Семеновне объяснила, и главному врачу и какой-то шишке в департаменте здравоохранения. Итог ударил как обухом – строгий выговор с занесением. Кто из клинических ординаторов мог бы похвастаться чем-то подобным? Практически никто. Во-первых, большинство клинических ординаторов подчиняются не департаменту, а министерству (это у Анны была целевая городская ординатура, от департамента), а, во-вторых, как-то не принято делать виновными тех, кто пока еще учится. Клиническая ординатура есть не что иное, как высшая форма профессиональной подготовки врачей-специалистов, основанная на принципе индивидуального обучения, вот как.
Сказать, что Анна расстроилась, это не сказать ничего. Главное – грызла обида. «Ни за что ни про что, полна жопа огурцов» так говорила в подобных случаях кузина Вероника, непутевая, но удачливая дочь родной сестры Анниной матери, тети Оли. Заведующий отделением утешал: «Ничего страшного – через месяц все про это забудут, через год – снимут выговор, и будешь ты чиста и невинна, Андреевна. А еще знай, что жизнь она такая, сбалансированная, сейчас ни за что получила по полной программе, а в другой раз за что-то ничего тебе не будет». Заведующему тоже дали выговор, как непосредственно отвечающему за все происходящее в отделении, но он уже был к этим подаркам судьбы привычный и, в отличие от Анны, не расстраивался.
Первый из двух молодых юристов, экономя на офисе, забился в какую-то запредельную дыру примерно посередине между Волгоградским и Рязанским проспектами. Завод, автосервис, гаражи, склады, автосервис, снова гаражи, три автосервиса подряд, и вот он – четырехэтажный офисный центр «Караганове Плаза». Плазе вообще-то полагается быть торговой, но здесь кроме офисов ничего не было. Зато была огромная, с самым, что ни на есть оптимистичным прицелом на будущее, парковка и – совершенно пустая, если не считать двух автомобилей в дальнем углу.
И охранник в просторном псевдомраморном холле оказался не занудливым. Вместо обычного «вы к кому… Позвольте ваш паспорт… Возьмите пропуск и не забудьте отметить его на выходе», сказал, едва Анна успела войти:
– Адвокат Ушаков на втором этаже. Первая дверь.
– А как вы догадались, что мне нужен именно он? – удивилась Анна. – Или он у вас тут единственный арендатор?
– К нам все больше прорабы ездят, – ответил местный Шерлок. – У нас же одни стройматериалы. Если приезжает кто-то не похожий на прораба, значит – к Саше. Без вариантов.
Анне не очень понравилось, что адвоката запросто называет Сашей охранник. Что ни говори, а адвокатам не следует панибратствовать с окружающими. Надо держать марку, знамя своей профессии. «Будь проще – и к тебе потянутся люди» – это не про адвокатов. И не про врачей, и не про педагогов, и уж, тем более, не про тех, кто только начинает. Это корифеям можно иногда «быть проще», в эти моменты получаются очень трогательные, поистине незабываемые, фотографии.
Лестница поражала воображение расставленными по углам огромными пластиковыми вазами с пластиковыми же цветами.
– Ле жарден де Люксембург![5] – вслух «одобрила» Анна.
Сразу же вспомнилась одноименная песня Джо Дассена, не пропитанная лирической грустью, а прямо-таки вымоченная в ней. Прошел еще один день без любви, ля-ля, дождливый день ля-ля, жизнь без тебя мне не мила, успех это еще не самое главное… Сплошной декаданс, сопли-опли.
Анна тряхнула головой, прогоняя грустные мысли. Вот она, зашпонированная под дуб дверь со скромной табличкой «Адвокат Александр Оскарович Ушаков». Табличка была скромна не только по содержанию, но и по исполнению – лист формата A4, приклеенный четырьмя полосочками тонкого скотча, одна из которых уже успела отклеиться и некрасиво топорщилась.
Анна открыла дверь только благодаря привычке доводить начатое до конца. Ясное дело – молодой, на старте, но уж пятьсот рублей на табличку наскрести по-любому можно. Театр начинается с вешалки, а контора – с вывески. Если провести аналогию с врачами, то можно сказать, что молодой врач может приезжать на работу на метро или на велосипеде, одеваться «с рынка», но вот халат у него просто обязан быть не только опрятным, но и не заношенным и руки ухоженными, без траурной каймы под ногтями. Хоть бы бумажку поаккуратнее на дверь наклеил, Александр Оскарович! Интересно, какая у него мебель?
Мебель была обычной, икеевской. Стол, кресло, два шкафа, пять стульев. Больше ничего в маленькой комнатке и не поместилось бы. Щуплый, лопоухий, очкастый и местами прыщавый Александр Оскарович («мужчинка минус третьей категории», по классификации кузины Вероники) оказался явным неврастеником, потому что во время разговора постоянно вертел что-нибудь в руках. Если не вертел, то теребил, а то начинал разминать свои длинные, уставшие от постоянной работы, пальцы и делал это очень усердно, до хруста в суставах. Хрустели суставы звучно, казалось, что сейчас Александр Оскарович переломает себе все пальцы. Анну все это почти не напрягало, потому что ей было важно не то, что делал руками адвокат, а что он при этом говорил. А говорил Александр Оскарович дельно и совершенно не «грузил», то есть – не пугал. Даже наоборот – успокаивал.
– Давайте подумаем, какую выгоду могла извлечь для себя бывшая жена вашего пациента даже при условии получения исчерпывающей на тот момент информации… А какой ущерб пациенту могла она нанести, используя эту информацию… Диагноз еще не был установлен, я вас правильно понял, Анна Андреевна?
– Диагноз уточнялся. Предварительный уже был. Нельзя лежать в стационаре без диагноза.
– Да, конечно, – кивнул Александр Оскарович. – Без диагноза непонятно, в какое отделение класть и надо ли класть вообще. То есть – толком вы ничего разгласить не могли?
– Дело не в том, что я могла или не могла, а в том, что я ничего не разглашала! – немного раздраженно ответила Анна, утомленная долгой поездкой по юристам.
На часах было без двадцати семь, а начала она свой «вояж» в два часа, бессовестно удрав с работы много раньше положенного.
– Врачебную тайну составляют… – Александр Оскарович сдернул с хрящеватого носа очки, завертел их, закрутил, а сам уставился в потолок, словно вспоминая. – Информация о факте обращения за медицинской помощью… Это вы уже не могли разгласить, опоздали. Информация о диагнозе заболевания… Эту информацию разглашать было рано, раз не было диагноза…
– Диагноз был, – поправила Анна. – я же уже говорила…
– Да-да, – спохватился невнимательный адвокат, не отводя взора от потолка. – Далее идет информация о состоянии здоровья гражданина, но это должна быть информация, а не короткие отговорки. Тем более что фразы типа: «все о’кей» или «все будет хорошо», трактовать как разглашение врачебной тайны… Нет, это абсурд. Ну и последнее – это прочие сведения, полученные при обследовании и лечении гражданина. Сюда на первый взгляд можно отнести все… Скажите, Анна Андреевна, а эта ваша собеседница была адекватна, вменяема? Вот вы, как врач, не могли заподозрить?
– Я не психиатр! Я – иммунолог, – свою специальность Анна тоже уже называла. – Но даже психиатр не смог бы поставить диагноз, даже предварительный, на основании минутной беседы.
– Так, так, так… – Адвокат обернулся к Анне, нацепил очки, вытащил из стоявшего на столе органайзера ручку и начал забавляться с ней. – Знаете, я пытаюсь уловить смысл и суть и никак не могу это сделать. Вы уверены, что вас действительно хотят привлечь в качестве ответчика?
– Конечно же, нет! Но мне озвучили такую возможность!
– Раньше бандитами пугали, сейчас – судом. Ваше дело, если его можно назвать «делом», не стоит и выеденного яйца! Скорее всего, вас просто запугивают, действуют вам на нервы. Не исключено, что ваши противники могут оказывать давление на потенциального истца, он же их пациент. Но одного желания судиться мало, судья должен принять исковое заявление… А все то, что вы мне рассказали, это, извините, не повод, далеко не повод, совсем не повод. Для того чтобы потрепать нервы угрозами, эта история вполне годится, для суда – нет. Если, конечно… Вы меня простите великодушно, Анна Андреевна, но я должен это сказать. Если, конечно, все было именно так, как вы мне рассказали.
– Ну, может, какое-то словцо я забыла, но суть передала точно.
– Хорошо, это хорошо. Угроза подачи иска – это очень распространенный способ выбить из человека энную сумму денег. И довольно безопасный. Люди платят, чтобы их оставили в покое. Вы не исключаете, что вас хотят запугать, чтобы вы раскошелились?
– Навряд ли, – подобного варианта Анна и в мыслях не допускала. – Нервы потрепать, подавить, это – да, но вряд ли кто-то мог допустить, что я раскошелюсь.
– Жаль, – неожиданно огорчился Александр Оскарович. – Очень жаль.
– Почему?
– Потому что тогда бы мы могли бы обратиться в ОБЭП. Вымогательство доказывается элементарно.
Аудиозапись, видеозапись, изъятие в присутствии понятых… Там любят такие дела. Но если вам намекнут насчет денег…
– То я сразу же дам знать вам, – Анна достала из сумки кошелек. – Сколько я должна вам за консультацию, Александр Оскарович?
Александр Оскарович заслуживал платы. Он вникал, рассуждал, делал выводы, а не просто декларировал, что готов взяться за дело и называл стоимость своих услуг, как другие. О деньгах он вообще не заикнулся. Удивительный альтруизм.
– За такие консультации я денег не беру, – Александр Оскарович улыбнулся, демонстрируя щербатые зубы. – Вы же не берете денег за диагностику?
– Я как раз за диагностику и беру, – улыбнулась в ответ Анна. – Так сколько же?
– Нисколько. Я привел неудачный пример, у вас принципиально иная диагностика. Вот если дело дойдет до суда или хотя бы до переговоров, тогда мы обсудим денежный вопрос. Могу сразу сказать, что мои услуги обойдутся вам недорого. По самому крупному счету не больше пятнадцати тысяч…
«Табличкой нормальной не обзавелся, а запрашивает больше других!» – подумала Анна, мысленно вычеркивая жадного адвоката из списка людей, с которыми можно иметь дело. Но, чисто из природной дотошности, уточнила:
– В евро или в долларах?
– Исключительно в рублях. Можно наличными, можно перевести на счет. Как вам удобнее. Постойте… Анна Андреевна, вы что решили, что я вам сумму в баксах или евро назвал? То-то я смотрю у вас выражение лица изменилось. В рублях. За первое судебное заседание я беру пятнадцать тысяч рублей, сюда же входит и знакомство с делом, а за последующие – по семь. Но ваше дело, если оно, конечно, станет делом, «отсудится» за один раз, я уверен. Переговоры стоят дешевле. У меня в офисе – пять тысяч за встречу, с выездом – семь. Тут тоже долго рассусоливать не придется. Как только я упомяну о привлечении к ответственности за клевету, претензии сразу же сдуются… Можно узнать, почему вы улыбаетесь?
– Вы какой-то странный адвокат, Александр Оскарович, – сказала Анна, убирая кошелек обратно. – Вам, наоборот, надо внушать мне, что дело архисложное, дорогое…
– Так вы же в это не поверите, сразу же поймете, что вас пытаются раскрутить.
– Знаете, до вас я посетила троих ваших коллег, и все они пытались внушить мне, насколько сильно я влипла.
– И в итоге вы приехали ко мне, Анна Андреевна, – не без удовлетворения констатировал адвокат. – Надеюсь, я сделал все для того, чтобы вы сейчас не поехали к пятому по счету…
– Я бы в любом случае не поехала бы, – Анна посмотрела в окно, а потом – на часы. – Уже поздно. Но вы единственный, кому удалось произвести на меня хорошее впечатление, что правда, то правда. Хотя ваша вывеска поначалу меня чуть не оттолкнула…
– Я понимаю, – закивал адвокат. – Вы ожидали увидеть нечто медное, тяжелое…
– Хотя бы пластиковое, – улыбнулась Анна, – но не бумажку…
– Эх, – Александр Оскарович вздохнул, словно собираясь с духом. – Так уж и быть, Анна Андреевна, открою вам тайну. Я нарочно не заказываю вывеску и не слишком обживаю свой офис, чтобы арендодатель не поднял мне плату. Здешний хозяин такой жучила – любит набавлять чуть ли не ежемесячно. Вот я и декларирую, что я здесь временно и могу съехать в любой момент. Снести в машину комп, принтер и папки – минутное дело.
– Помогает?
– Седьмой месяц здесь сижу, а плата пока ни разу не повышалась. Могу представить, как арендодатель меня ненавидит…
– Вам знакомо выражение: «Oderint dummetuant»?
Анна не была уверена в том, что в юридических вузах изучают латынь, но не исключала такой возможности.
– Пусть ненавидят, лишь бы боялись, – тут же перевел Александр Оскарович. – Любимое изречение императора Калигулы, между прочим. Возьмите мою визитку и, как только получите повестку или вам позвонят, короче говоря – как только будут новости, сразу же сообщайте мне. А звонящих можете просто перенаправлять. «Свяжитесь с моим адвокатом!» – любимая фраза в Голливуде.
При чем тут Голливуд, Анна не поняла, но с удовольствием посмеялась вместе с Александром Оскаровичем, представив, как кто-нибудь из ее противников будет ожидать встречи с каким-нибудь важным Адвокатом с большой буквы, а нарвется на Оскарыча.
Почти всех симпатичных ей людей Анна про себя называла только по отчеству, да и то не по полному, а фамильярно сокращенному. Выходило по свойски, по-родственному.
Виноградово-Южное
Карточная игра под названием ломбер канула в Лету, оставив свое имя небольшому столу для игры в карты. Классический ломберный стол должен быть складным и прямоугольным. Анне достался овальный, колченогий и не складывающийся. Уму непостижимо, но такую драгоценность выкинули на помойку. Что называется – и ума не хватило, и рука поднялась. Хорошо еще, что не зашвырнули далеко в бункер, где его сразу же засыпало бы мусором, а оставили сбоку – берите, люди добрые, пользуйтесь, нам не жалко. Все четыре гнутые ножки, хоть и шатались, хоть и имели разную длину (две как будто обкусили снизу), хоть и были ободраны, но были, были, имелись в наличии! Это ли не счастье? Самое настоящее.
В машину столик не влезал, ни боком, ни таком. Припарковаться возле подъезда и вернуться к помойке за находкой было рискованно – а ну кто уведет прямо из-под носа? Анна оставила машину у бункера (машину-то увести немного труднее) и потащила столик домой. Дома не утерпела – рассмотрела попристальнее и обрадовалась тому, что ножки легко и без ущерба можно было отделить от столешницы. Руки сладко зачесались в предвкушении работы.
Значит, не придется просить кого-то из знакомых обладателей вместительных автомобилей отвезти ценную находку на дачу и долго ждать оказии. Значит, уже в эти выходные можно будет заняться столиком вплотную. Знакомые, кроме того, что их надо просить, плохи своими шуточками. Пока везут какой-нибудь комодик до Виноградова, сто раз пошутят насчет того, что такой рухляди место только на свалке. Ага, на свалке… Это они просто не поднимались на второй этаж и не видели, что можно сделать из этой самой «рухляди». Но второй этаж был своим, интимным, не для всех. Сейчас, например, туда допускалась только двоюродная сестра Виктория. Виктории красота отреставрированной и расписанной мебели была недоступна. Все красивое и восхитительное в ее понимании должно было быть выставлено в респектабельных антикварных магазинах, желательно – лондонских («Только в Англии можно найти настоящую старину!») и иметь ценник с умопомрачительным количеством нолей. Тогда можно ходить вокруг, цокать языком, охать, ахать, восхищенно заламывать руки, а потом капризно топнуть ножкой и сказать своему мужу: «Гарусинский, если не можешь купить, то хотя бы сфотографируй нас вместе! Хоть какая-то память останется…». Реставрация – это хобби, давнее, душевное, в смысле – для души, но иногда так хочется, чтобы кто-то понимающий восхитился, оценил, похвалил. Можно было, конечно, завести себе блог и выкладывать туда фотографии, но такой вариант Анне не нравился – слишком уж он публичный. Похвастаться коллегам? Анна однажды принесла из дома маленькую шкатулочку, которую собрала буквально из щепок и очень долго расписывала в стиле шинуазри, европейской стилизации под Китай. Шинуазри привлекало Анну своей вольностью, можно было экспериментировать, отступать от классических и очень строгих китайских канонов, идти на поводу у своего вдохновения, то есть, образно говоря, творить не в узких, а в широких рамках.
– Какая прелесть! – восхитилась Долгуновская, увидев шкатулку. – Обожаю такой жопанистический китч! С Измайловского вернисажа штучка?
– Жопанистический? – машинально переспросила Анна.
– Ну да, под Японию. – Долгуновская удивленно посмотрела на Анну: «Доцент, а таких простых вещей не знаешь!».
Следующим, кто заметил шкатулку, был Виньков.
– И почем такие в Коптево? – спросил он.
– Почему в Коптево?
Этот район Москвы у Анны ассоциировался только со стадионом «Наука». Но оказалось, что там еще есть вьетнамский рынок.
Анна вполуха выслушала сравнительный анализ выгод и преимуществ различных московских рынков и, как только Виньков ушел, спрятала шкатулку в ящик стола, а вечером унесла домой. Ничего особенного, подумаешь – спросили не в тему несведущие люди, но неприятный осадок остался надолго. Как тут не вспомнить общеизвестное: «Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими»[6].
Но когда-нибудь (ах, сколько хорошего тонет в этом стремном водовороте под названием «когда-нибудь»!) можно будет устроить выставку. Во всяком случае, Анна лелеяла эту мысль где-то в потаенных глубинах своей души. Для узкого круга. Не в какой-то там галерее, а прямо здесь, на даче. Совместить с шашлыками или барбекю, сделать такой веселый междусобойчик, гибрид пикника с вернисажем…
В Московской области есть два Виноградова, на севере и на юге. Недалеко от Долгопрудного и в Воскресенском районе. Виноград что там, что здесь растет, если посадить, но до нужной спелости не вызревает, остается мелким и зеленым. В Вологодской области, кстати, тоже есть свое Виноградово и тоже без винограда.
«Свое» Виноградово Анна, верная привычке к ясности и точности, называла Виноградовом-Южным. Дача у нее была наследственная, доставшаяся от деда-профессора, очень авторитетного специалиста в области термической обработки металлов. Дед работал в каком-то «почтовом ящике», то есть – засекреченном учреждении, у которого вместо адреса указывался только номер почтового ящика. Мать Анны выросла, встречаясь со своим отцом лишь изредка, по большим праздникам, потому что дед не неделями, а целыми месяцами пропадал на работе. Авралы, испытания, заседания… Дед жил послезавтрашним днем, оттого и умер рано – в шестьдесят два года.
Дача по нынешним меркам скромная до убогости – деревянный двухэтажный дом на двенадцати сотках, когда-то, если верить рассказам матери, считалась о-го-го какой. Тогда большинству давали участки в шесть соток и не разрешали строить капитальных домов – только летние дощатые домики. Приходилось изворачиваться – ставили деревянный сруб, а поверху обшивали его досками. А тут – бревенчатый дом в два полноценных этажа, чердак, по которому можно разгуливать пригнувшись, и все радости жизни прямо в доме – водопровод, канализация, магистральный газ. Про электричество и упоминать нечего, электричество на всех дачных участках есть по определению…
- Yuppa tuppa ta ta
- Yuppa tuppa chic ta
- Do thang, do thang
- Do tuppa thang cho…[7]
Песня под названием «Делай это» как нельзя лучше подходила для монотонной кропотливой работы. Самое неинтересное – это очищать, удалять пыль, грязь, остатки лака и краски. Нет, не «самое», а единственно неинтересное. Все остальное так захватывает, что можно забыть не только про неприятности, но и про еду и сон.
- Rikki te tatar
- Те teen tar
- De dow dow
- Ha, ha, ha, ha
- Ha, ha, ha, ha…
Лучше всего, конечно, орудовать кисточкой, но не всякая грязь кисточке «по зубам», то есть – по щетине. В резных канавках на ножках и по краям столешницы засохла вековая, без преувеличения, грязь. Навскидку, не углубляясь в тему, скорее интуитивно, Анна отнесла столик к началу девятнадцатого века, но не исключено, что она ошиблась. Но, во всяком случае, уж сотню лет столик разменял – здесь не было никаких сомнений, и быть не могло.
Несмотря на холодную, промозглую погоду, Анна уселась работать на террасе, на свежем воздухе, рассудив, что лучше одеться потеплее и, время от времени согреваться горячим чаем, чем сидеть в мастерской в «наморднике», то есть – с респиратором. Жидкости-то приходится использовать одна душистей другой – ацетон, щавелевая кислота, нашатырный спирт. Вот крыть лаком – это только в помещении, чтобы пыль не садилась, тогда уж без респиратора не обойтись, а очищать все равно где.
Термос с чаем, в который по случаю «особых условий труда» был добавлен коньяк, стоял под рукой. По навесу мерно барабанил дождик, впереди было два свободных дня, соседи, любившие устраивать у себя на даче шумные сборища, в этот раз не приехали… Красота!
Анна работала, слушала «Доорз» и попутно развлекалась тем, что составляла в уме свою анкету. Составляла и комментировала.
«Анна Андреевна Вишневская, 32 года…»
Боже мой! Скоро – тридцать три, возраст Христа. Лермонтов прожил неполных двадцать семь лет, а успел стать классиком отечественной литературы… Наполеон в тридцать лет совершил государственный переворот и стал первым консулом Франции… Правда, кончили они оба плохо, что Наполеон, что Лермонтов. Лермонтову повезло больше – жил без особых забот и умер быстро. А Наполеон интриговал, правил, воевал, падал, взлетал, снова падал… И умирал долго, мучительно. Нет, если выбирать, то лучше уж как Лермонтов… Он, кстати, и по характеру близок Анне. Его считали вредным ехидным насмешником – и об Анне сложилось примерно такое же мнение, которое полностью укладывается в емкое слово «стерва». Да, доцент Вишневская – стерва. «Та еще стерва», – как говорят некоторые, с придыханием. Доцент Вишневская не комплексует по этому поводу, не стыдится. Более того – она этим гордится. Только аморфные бесхребетные создания нравятся всем или почти всем. Яркие успешные личности в первую очередь будят в окружающих зависть… Если мир несовершенен, то как может быть совершенством доцент Вишневская? Впрочем, у шефа слово «стерва» однажды прозвучало как комплимент. «Ты стерва, но не сука, – сказал он после случая с Цегенько. – За то и терплю». В этом он весь, Аркадий Вениаминович, вроде обос. т, а в то же время похвалит. Дипломат Дипломатович, мастер кнута и пряника…
«Образование – самое, что ни на есть высшее…». «Я настолько умна, что учу других за деньги», – иногда шутила Анна. То, что она шутит, понимали далеко не все.
«Семейное положение – одинокая, незамужняя…» Можно сразу продолжить: «независимая, не страдаю». Был у Анны «в анамнезе», как выражаются врачи, мимолетный неудачный брак. Впрочем, слово «неудачный» можно выбросить, если вспомнить второе значение слово «брак». Недаром умные люди утверждают, что хорошую вещь «браком» не назовут.
Получилось по древней студенческой поговорке: «Сдал сопромат – можешь жениться». Только вот Анна уже не была студенткой и не сопромат она сдала (да и что представляет собой тот сопромат по сравнению с нормальной анатомией?), а защитила кандидатскую диссертацию. Тут-то ей в голову и ударило. Захотелось любви, обожания, понимания… Длинный, в общем-то, список, незачем оглашать его целиком. И подвернулся под руку (под руку всегда подворачивается не то, что нужно) Сеньор Офицер, перспективный банковский деятель, руководитель офиса «Вельтштайзенбанка» на Якиманке. Прозвище он получил от английского названия своей должности – «Senior officer». Очень импозантно, хочешь – как «руководитель офиса» понимай, хочешь – как «старший офицер». Мон женераль, ха-ха…
Сеньор Офицер был неплохим человеком и, кажется, любил Анну. «Брак двух круглых сирот просто обречен на счастье, – говорила двоюродная сестра Вероника. – У тебя нет свекрови, у твоего мужа – тещи. Некому разрушать ваше счастье и пить вашу кровь». У самой Вероники тоже не было свекрови, но ее муж, если верить рассказам, пил Вероникину кровь в три горла – за себя и за покойных родителей.
Анне тоже казалось, что она любит, но через полгода она поняла, что ошибалась. Не стала рубить сплеча, три месяца прислушивалась к себе, а вдруг как шелохнется в душе что-то, вдруг отзовется, но не шелохнулось и не отозвалось. Пришлось объявить мужу о том, что она считает их брак ошибкой и что им лучше расстаться. К объяснению готовилась неделю, предвкушала очень тяжелый разговор, даже запаслась седативными препаратами, но вышло как в плохой итальянской комедии. Услышав горестную весть, Сеньор Офицер и глазом не моргнул и вопроса не задал. Допил свой чай и пошел собирать вещи (жили они у Анны, а его трешку на Кропоткинской очень выгодно сдавали). Анна очень удивилась, но решила подождать. Дождалась – минут через сорок Сеньор Офицер появился на кухне, сообщил, что сборы закончены и предложил «трахнуться напоследок». Вот тут-то Анна поняла, что зря выжидала три месяца, да и вообще зря выходила замуж. Сеньор Офицер уже уехал, а она все сидела и смеялась. Отдышится – и давай по новой. Если уж истерить, то – смеясь, а не плача.