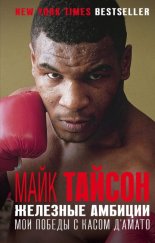Большой Джорж Оруэлл: 1984. Скотный двор. Памяти Каталонии Оруэлл Джордж

– Просто потому, что положительное я предпочитаю отрицательному. В игре, которую мы с тобой затеяли, мы не можем выиграть. Одно ведет к проигрышу скорее, чем другое – только и всего.
Он почувствовал, как она протестующе повела плечом. Она протестовала всякий раз, когда он говорил что-нибудь в этом роде. Она не соглашалась признавать законом жизни то, что личность всегда терпит поражение. До некоторой степени она понимала, что обречена на гибель, и что рано или поздно Полиция Мысли схватит ее и убьет, но в то же время верила, что можно построить свой тайный мирок и жить в нем так, как хочется. Нужны только смелость, ловкость и удача. Она не понимала, что таких вещей как счастье и удача в природе не существует, что победа – дело далекого будущего, когда их обоих уже не будет в живых, и что, объявляя войну Партии, вы подписываете себе смертный приговор.
– Мы мертвецы, – сказал он.
– Нет, мы еще не мертвецы, – прозаически отозвалась Юлия.
– Не физически, нет. Еще полгода, год, ну, – может быть, даже пять лет. Я боюсь смерти. Ты молода и должна бояться еще больше. Поэтому надо оттянуть ее насколько это в наших силах. Но, в общем, разница будет небольшая. Пока человек остается человеком, – жизнь и смерть будут идти рядом.
– Ах, чепуха! С кем ты хочешь спать – со мной или со скелетом? Разве ты не радуешься жизни? Разве тебя не радует сознание своего я? Разве это не счастье, что ты можешь сказать: вот это – я, это – моя рука, моя нога. Я существую, я – плоть, я – живу. Разве тебе не нравится вот это?
Она повернулась и прижалась к нему. Даже сквозь комбинезон он чувствовал ее спелую, упругую грудь. Словно часть ее силы и молодости переливалась в него.
– Конечно, нравится.
– Тогда перестань толковать о смерти!.. А теперь слушай, дорогой. Нам нужно решить, когда мы встретимся опять. Можно было бы опять поехать в лес, – времени прошло уже достаточно. Только ты должен поехать по другой дороге. Я все уже обдумала. Ты сядешь на поезд… Нет, подожди, лучше я тебе все это нарисую.
И, со своей обычной практичностью, она сгребла пыль в небольшой квадрат и веточкой из голубиного гнезда принялась рисовать карту на полу.
IV
Уинстон обвел взглядом маленькую убогую комнатушку, расположенную на втором этаже, над лавкой господина Чаррингтона. У окна стояла громадная постель с рваным одеялом и с непокрытым валиком для подушек. Старомодные часы с двенадцатичасовым циферблатом тикали на камине. В углу, на столике с откидной крышкой, тускло поблескивало из полумрака стеклянное пресс-папье, которое он купил, когда заходил последний раз в лавку старьевщика.
В камине стояли помятая жестяная керосинка, кастрюлька и две чашки, которыми их снабдил хозяин комнаты. Уинстон зажег керосинку и поставил кипятиться воду в кастрюле. Он принес с собой целый пакет кофе Победа и несколько таблеток сахарин^. Часы показывали семь двадцать или девятнадцать двадцать по-настоящему.
Глупость! Глупость! – неустанно твердило сердце. Сознательная, ничем не оправданная, самоубийственная глупость. Из всех преступлений, которые может совершить член Партии, именно это труднее всего утаить. Мысль о найме комнаты зародилась у него при виде стеклянного пресс-папье, отраженного поверхностью столика. Как он и предвидел, никаких препятствий со стороны господина Чаррингтона не встретилось. Он явно был рад тем нескольким долларом, которые это могло принести ему. Он не был шокирован и не позволил себе никаких нескромных намеков даже и тогда, когда узнал, что комната нужна Уинстону для встреч с возлюбленной. Напротив, он устремил взор куда-то в пространство и заговорил на общие темы с такой деликатностью, словно обратился вдруг в бесплотного духа.
– Уединение, – сказал он, – очень ценная вещь. Каждому хочется обзавестись своим уголком, где он мог бы иногда остаться наедине с тем, кто ему по душе. И если двое отыскали такой уголок, то для всякого, кому это известно, молчание – долг простой вежливости. И уже совсем с отсутствующим видом господин Чаррингтон добавил, что в доме две наружных двери и что одна из них ведет через двор в переулок.
Под окном кто-то пел. Хоронясь за муслиновыми занавесками, Уинстон осторожно выглянул. Июньское солнце стояло еще высоко, и во дворе, залитом его лучами, он увидел устрашающего вида женщину, массивную, как нормандская колонна, с багровыми сильными руками и в фартуке, свисавшем у нее с талии, как мешок. Тяжело ступая, она ходила от лохани к веревке, протянутой по двору, и развешивала какие-то квадратные белые тряпки, в которых Уинстон узнал детские пеленки. Когда рот у нее не был занят прищепками для белья, она пела сильным контральто:
- То была лишь мечта безнадежная,
- Промелькнувшая ранней весной,
- Но те речи и взгляд, разбудивши мир грез,
- Унесли мое сердце с собой.
Песня появилась в Лондоне всего несколько недель тому назад. Отдел Музыки выпускал множество подобных песен, рассчитанных на пролов. Текст их сочинялся без всякого участия человека, с помощью особого прибора – версификатора. Но женщина пела так хорошо, что, несмотря на глупые слова, песня звучала почти приятно. Странно: он слышал и голос женщины, и шарканье ее ботинок по плитам двора, и крик детей на улице, и отдаленный шум движения – и все-таки ему казалось, что в комнате царит тишина. Происходило это потому, что в ней не было телескрина.
– Глупость, глупость, глупость! – подумал он опять. Можно ли сомневаться в том, что их схватят в этой комнате не дальше как через несколько недель? Но. возможность получить в свое распоряжение укромный уголок под кровлей и недалеко от тех мест, где они жили, – была таким соблазном, с которым они не могли бороться. Вскоре после их свидания на колокольне дальнейшие встречи стали невозможны. Рабочий день в связи с приближением Недели Ненависти сильно увеличился. До нее оставалось еще больше месяца, но громадные сложнейшие приготовления уже заставляли всех работать сверхурочно. В конце концов Уинстону и Юлии как-то удалось выкроить один общий свободный день. Они уговорились поехать на поляну. Вечером накануне они встретились на несколько минут на улице. Как всегда, Уинстон почти не смотрел на девушку, когда толпа несла их навстречу друг другу, но даже одного быстрого взгляда было достаточно, чтобы заметить, что она выглядит хуже, чем обычно.
– Ничего не выйдет, – прошептала она, как только убедилась, что можно начать разговор. – Я завтра не могу…
– Что?
– Не могу ехать завтра днем.
– Почему?
– Ну, по обычной причине В этот раз начались почему-то раньше.
В первую минуту он очень рассердился. За месяц их знакомства его отношение к Юлии изменилось. Вначале он почти не испытывал физического влечения к ней. В их сближении был элемент сознательного усилия воли. Но после второго раза все пошло иначе. Запах ее волос, вкус ее губ, нежность ее кожи стали словно частью его существа или окружающего его мира. Она превратилась в физическую потребность, во что-то такое, чего он не только желал, но, как ему подсказывало сердце, и имел право желать. Когда она сказала, что не может ехать, он подумал, что она его обманывает. Но как раз в эту минуту толпа стиснула их, и они оказались рядом. Их руки случайно встретились. Он почувствовал, как она быстро пожала кончики его пальцев, как бы давая понять, что сейчас ей нужна любовь, а не желание. Он подумал, что когда живешь с женщиной, это специфическое разочарование неизбежно должно повторяться время от времени, и глубокая нежность к ней, которой он никогда прежде не испытывал, внезапно охватила его. Ему вдруг захотелось, чтобы они были мужем и женой, живущими в браке уже лет десять. Ему захотелось, чтобы они могли вот так же, как сейчас, – только открыто, ничего не опасаясь, – идти рука об руку по улице, болтая о пустяках и заходя то в один магазин, то в другой, чтобы купить кое-что по хозяйству. А больше всего ему хотелось в этот миг, чтобы у них было свое пристанище, свой угол, где они могли бы иногда оставаться вдвоем, не чувствуя себя обязанными предаваться любовным наслаждениям при каждой встрече. Однако мысль о найме комнаты у господина Чаррингтона пришла ему на ум не в этот миг, а позже – на следующий день. И когда он поделился этой мыслью с Юлией, она, против ожидания, сразу согласилась. Оба понимали, что это безумие. Оба понимали, что умышленно делают шаг к могиле. И сейчас, сидя в этой комнате на кровати и ожидая Юлию, он опять подумал о подвалах Министерства Любви. Как странно, что человек то вдруг вспоминает о том ужасе, на который он обречен, то совсем забывает о нем. Вот он, этот ужас, ожидающий вас в будущем в назначенный час и предшествующий смерти так же верно, как 99 предшествует 100. Его нельзя избежать, но, вероятно, как-то можно оттянуть. И однако люди часто добровольно и сознательно ускоряют наступление рокового часа.
На лестнице раздались быстрые шаги. Юлия ворвалась в комнату. В руках она держала полотняную коричневую сумку/ с которой он порой видел ее в Министерстве. Уинстон поднялся навстречу девушке, чтобы обнять ее, но она поспешила освободиться, потому что все еще держала сумку.
– Подожди минутку, – сказала она. – Дай сначала показать тебе, что я принесла. Сознайся, ты уже запасся этим их паршивым Кофе Победа? Я так и знала. Можешь выбросить его, оно нам не понадобится. Смотри, сюда!
Она присела на корточки, открыла сумку и вывалила ключи и отвертки, лежавшие сверху. Под инструментами оказалось несколько аккуратно завернутых бумажных пакетов. Первый из них, который она протянула Уинстону, имел какой-то необычный и вместе с тем смутно знакомый вид. Он был доверху наполнен тяжелым, похожим на речной песок веществом, которое легко подавалось под руками.
– Это не сахар? – спросил Уинстон.
– Ну, конечно, сахар! Настоящий сахар, а не сахарин. А здесь буханка хлеба – белого хлеба, а не той гадости, которой нас кормят… Банка повидла и банка молока. А вот тут… Вот этим я действительно горжусь. Мне даже пришлось завернуть пакет в тряпочку, потому что…
Но излишне было объяснять, почему пришлось заворачивать пакет. В комнате уже распространялся густой пряный аромат. На Уинстона словно пахнуло днями раннего детства. Впрочем, и сейчас этот аромат порою можно было уловить где-нибудь возле подъезда, пока не захлопывалась дверь, а иногда он вдруг таинственно растекался по улице, запруженной толпами народа, и мгновенно снова пропадал.
– Кофе! – прошептал Уинстон. – Натуральный кофе!
– Кофе членов Внутренней Партии, – подтвердила Юлия. – Целый килограмм.
– Где ты ухитрилась раздобыть все это?
– Это все продукты, предназначенные для Внутренней Партии. Свиньи! У них ни в чем нет недостатка. Но, конечно, слуги и официанты тоже не зевают… Смотри, я достала еще небольшой пакетик чая.
Уинстон сел на корточки с Юлией. Он надорвал угол пакета.
– Да, – сказал он, – это не смородинные листья. Настоящий чай.
– Почему-то сейчас появилось много чаю, – заметила Юлия и туманно добавила: – Что они, прибрали к рукам Индию или что?.. Ну, ладно, дорогой. Теперь я хочу, чтобы ты отвернулся ненадолго. Поди сядь на постели с той стороны. Только не подходи слишком близко к окну. И не поворачивайся, пока я не скажу.
Уинстон рассеянно смотрел сквозь муслиновые занавески. Женщина с багровыми руками все еще ходила от лохани к веревке. Она вынула изо рта прищепки и запела с глубоким чувством:
- Говорят, время все исцеляет,
- Что легко все забыть навсегда,
- Но тот смех и рыданья былые
- В моем сердце звучат, как тогда.
Она, должно быть, помнила всю эту пошлятину от начала до конца. В свежем летнем воздухе ее голос звучал очень приятно, и в нем слышалась какая-то счастливая меланхолия. Певице как будто хотелось, чтобы июньский вечер длился без конца, а запасы, белья были неистощимы, и чтобы она могла оставаться тут тысячелетия, развешивая пеленки и напевая свою чепуху. Уинстон с некоторым удивлением и интересом отметил про себя, что он никогда не слышал, чтобы какой-нибудь партиец пел ради собственного удовольствия и по собственному желанию. В этом, вероятно, могли бы усмотреть такой же намек на политическую неблагонадежность, как в привычке разговаривать с самим собой. Возможно, что только у людей, живущих в очень тяжелой нужде, появляется желание петь.
– Можешь повернуться теперь, – объявила Юлия.
Он повернулся и в первую Минуту почти не узнал ее. Он ждал, что увидит ее обнаженной. Но она по-прежнему была одета. Превращение, которое произошло с ней, было куда более удивительным. Юлия накрасилась.
Ей, очевидно, удалось проскользнуть в какую-то лавчонку в пролетарской части города и запастись там полным косметическим набором. Губы у нее были ярко накрашены, щеки нарумянены, нос напудрен; даже под глазами был положен какой-то штришок, придававший им живость и блеск. Все это было сделано не очень умело, но и сам Уинстон был не слишком искушен в таких вещах. Никогда прежде он не видел и не мог себе представить партийки с накрашенным лицом. Перемена была поразительная. Несколько прикосновений карандаша в нужных местах сделали ее не только несравненно интереснее, но, – главное, – женственнее. Короткие волосы и мальчишеский комбинезон только подчеркивало ли эффект. Обняв ее, он почувствовал запах искусственной фиалки. Вспомнился полумрак кухни в подвале и беззубый, пещерообразный рот старухи. Духи были те же самые, но сейчас они казались иными.
– Даже и духи? – удивился он.
– Да, милый, и духи. Знаешь, что я сделаю в другой раз? Я раздобуду где-нибудь настоящее женское платье и надену его вместо этого противного комбинезона. Надену шелковые чулки и туфли на высоких каблуках. В этой комнате я буду женщиной, а не партийным товарищем.
Они сбросили одежду и взобрались на громадную кровать красного дерева. Первый раз Уинстон раздевался в присутствии Юлии. До сих пор он стыдился своего худого, бледного тела с выступающими на икрах варикозными венами и с грязным пластырем над лодыжкой. На постели не было простыней, но ветхое одеяло, на котором они лежали, было потерто до того, что стало совершенно гладким. Размеры и упругость кровати изумили их обоих. «Она наверняка кишит клопами, – сказала Юлия, – но это неважно, правда?» Двуспальные кровати можно было видеть теперь только в домах пролов. Уинстону приходилось в детстве спать на такой постели, Юлии, насколько она помнила, – никогда.
Вскоре они задремали. Когда Уинстон открыл глаза, стрелки на часах приближались к девяти. Он не шевелился, потому что Юлия спала у него на руке. Большая часть краски с ее лица перешла на лицо Уинстона и на валик для подушек, но легкие пятна румян все еще оттеняли красоту ее скул. Желтые лучи заходящего солнца тянулись поперек постели в ногах, освещая камин, где на керосинке бурно кипела в кастрюле вода. Во дворе не слышно было более женского пения, но с улицы все еще доносился крик детей. Неужели в прошлом, – раздумывал Уинстон, – в уничтоженном Партией прошлом, мужчины и женщины считали естественным лежать вот так в прохладный летний вечер обнаженными в постели, – просто лежать и слушать мирный шум улицы, не думая о том, что надо вставать? Неужели они любили, когда хотели, говорили, о чем хотели? Нет, определенно, такого времени не могло существовать! Юлия проснулась, протерла глаза и, приподнявшись на локте, посмотрела на керосинку.
– Половина воды выкипела, – сказала она. – Я встану и через минуту приготовлю кофе. В нашем распоряжении еще целый час. Когда у вас в Особняках Победы гасят свет?
– В двадцать три тридцать.
– У нас в общежитии в двадцать три. Но тебе надо прийти домой пораньше… Эй, ты! Марш отсюда, погань!
Она вдруг перегнулась через край постели, схватила с пола туфлю и тем же самым мальчишеским движением, которым на глазах у Уинстона швыряла словарем в Гольдштейна на Двухминутке Ненависти, запустила ею в угол.
– Что там такое? – спросил Уинстон с удивлением.
– Крыса. Я видела, как она высовывала свой поганый нос из-за панели. Там дыра. Во всяком случае я задала ей страху.
– Крыса? – прошептал Уинстон. – В этой комнате?
– Их везде полно, – заметила Юлия равнодушно, опять ложась на свое место. – Даже у нас в общежитии на кухне – и то водятся. Некоторые кварталы Лондона прямо кишат ими. Ты разве не слышал, что они нападают на детей? Да, да! На некоторых улицах женщины боятся оставлять ребят одних даже на две минуты. Есть такая порода громадных бурых крыс – это они нападают. Но самое отвратительное то, что эти бестии…
– Замолчи! – воскликнул Уинстон, плотно сжимая веки.
– Милый! Что с тобою? Ты так побледнел. Тебе нехорошо?
Она прижалась к нему, обвила руками, как будто для того, чтобы согреть и успокоить теплом своего тела. Он открыл глаза не сразу. Несколько минут он находился во власти кошмара, терзавшего его всю жизнь. Он повторялся по ночам, почти не изменяясь. Уинстон стоял перед стеною мрака, за которой таилось что-то нестерпимое, что-то такое жуткое, что с ним невозможно было встретиться лицом к лицу. Но самым сильным впечатлением сна было чувство самообмана – он, в сущности, знал, что скрыто за стеною мрака. С невероятным напряжением, точно извлекая частицу собственного мозга, он мог извлечь на свет и это. Он просыпался всегда раньше, чем успевал узнать все до конца, но каким-то образом это было связано с тем, что говорила Юлия, когда он оборвал ее.
– Прости, – сказал он. – Все это пустяки. Я не люблю крыс, – только и всего.
– Не волнуйся, дорогой. Мы больше не увидим этой погани здесь. До того как мы уйдем, я заткну дырку мешковиной. А в следующий раз принесу гипс и заштукатурю ее.
Потрясение, пережитое им, было уже наполовину забыто. Слегка сконфуженный, он сел в постели и прислонился к спинке. Юлия встала, натянула комбинезон и приготовила кофе. Из кастрюли поднимался такой сильный и волнующий аромат, что им пришлось закрыть окно, чтобы не привлечь чьего-нибудь внимания на улице. Уинстона поразил вкус кофе. Но еще более он удивился той своеобразной, шелковистой мягкости, которую придавал напитку сахар. За годы сахарина все это было забыто. Сунув одну руку в кар-ман, а в другой держа ломоть хлеба с повидлом, Юлия расхаживала по комнате, равнодушно поглядывала на книжный шкаф, давала советы насчет того, как лучше починить раздвижной столик, бросалась в кресло, чтобы попробовать насколько оно удобно, и с благожелательным удивлением рассматривала нелепые часы с двенадцатичасовым циферблатом. Она переложила пресс-папье со стола на постель, чтобы рассмотреть его при лучшем освещении. Плененный, как всегда, мягким, напоминающим цвет дождевой воды, внутренним светом вещи, Уинстон взял ее из рук девушки.
– Что это такое, как ты думаешь? – спросила Юлия.
– Не знаю. По-моему, эта вещь вряд ли имела какое-нибудь практическое применение. Потому-то она мне и нравится. Это – осколок прошлого, который еще не успели искалечить. Это – послание эпохи, отдаленной от нас, может быть, целым столетием. Надо только уметь прочитать его.
– А вот той картине, – кивнула она на гравюру, висевшую напротив – тоже сто лет?
– Больше. Я полагаю, целых двести. Точно нельзя сказать. В наше время невозможно определить возраст вещей.
Она подошла взглянуть на гравюру.
– Вот откуда эта бестия высовывала нос, – ткнула она пальцем в стену под гравюрой. – А что это за здание? По- моему, я его где-то видела.
– Это церковь или, во всяком случае, когда-то было церковью. Ее называли Св. Климентием Датчанином. – Он вспомнил отрывок стихотворения, которому его учил господин Чаррингтон, и с оттенком грусти продекламировал: – «Кольца-ленты, кольца-ленты», – зазвенели у Климента.
К его удивлению Юлия подхватила куплет:
- «Фартинг больше, чем полтина», – загудели у Мартина.
- «Ты мне должен», – зазвенели с колокольни Старой Бейли…
– Дальше я не помню, – сказала Юлия, – но самый конец знаю: «Свечка осветит постель, куда лечь. Сечка ссечет тебе голову с плеч».
Это походило на две фразы пароля. Однако после Старой Бейли должна была следовать еще строка. Нельзя ли как-нибудь заставить господина Чаррингтона вспомнить и ее, если что-то подсказать?
– Кто тебя этому научил? – спросил Уинстон.
– Дедушка. Он часто напевал мне это в детстве. Его распылили, когда мне было восемь лет, – т. е. он, во всяком случае, пропал без вести… Слушай, – вдруг добавила она без всякой связи, – ты не знаешь, что такое лимон? Я виде-
ла апельсины. Это круглые желтые фрукты с толстой коркой.
– А я помню и лимоны, – сказал Уинстон. – В пятидесятых годах их было довольно много. Они были такие кислые, что от одного их вида ломило зубы.
– Ручаюсь, что за этой картиной водятся клопы, – сказала Юлия. – Я когда-нибудь сниму ее и хорошенько почищу. Мне кажется, что нам уже пора идти. Я еще должна смыть краску с лица. Какая жалость! Подожди, потом я сотру помаду и у тебя с лица.
Уинстон оставался в постели еще несколько минут. Комната постепенно погружалась в мрак. Он повернулся к свету и лежал, пристально глядя на пресс-папье. Бесконечно интересен был не коралл, а внутренняя структура вещи. В ней чувствовалась такая глубина, и вместе с тем она была прозрачна почти, как воздух. Словно поверхность стекла была небесным сводом, укрывавшим крохотный мир со своей особой атмосферой. Ему казалось, что он может проникнуть в этот мир, да он уже и был там вместе с кроватью красного дерева, с раздвижным столиком, с часами, с гравюрой на стали, и с самим пресс-папье. Пресс-папье – это комната, в которой он находится, а коралл – его жизнь и жизнь Юлии, закрепленная навеки в сердце кристалла.
V
Сайми исчез. Однажды утром он не явился на работу. Нашлись наивные люди, не сумевшие скрыть, что заметили его отсутствие. На другой день о нем уже никто больше не вспоминал. На третий день Уинстон отправился в вестибюль Отдела Документации взглянуть на доску объявлений. Там висел список членов Шахматного Комитета, в который входил Сайми. Список выглядел почти так же, как прежде: ни одно имя не было вычеркнуто, но одним было меньше. Этого было достаточно. Сайми перестал существовать. Он никогда не существовал.
Стояла необыкновенно жаркая погода. В лабиринте Министерства, в комнатах, снабженных кондиционирующими приборами, температура была нормальной, но на улицах раскаленные тротуары обжигали ноги, а в метро, в часы самого оживленного движения, можно было задохнуться от вони. Подготовка к Неделе Ненависти была в самом разгаре, и во всех Министерствах служащие работали сверхурочно. Готовились демонстрации и митинги, лекции и военные парады, фильмы, выставки восковых фигур и программы передач по телескрину. Строились трибуны, делались чучела врагов, писались лозунги и песни, распространялись слухи, фальсифицировались фотографии. В отделе Беллетристики бригада Юлии прекратила выпуск романов и лихорадочно печатала брошюры с описанием зверств врага. Уинстон, помимо обычной работы, каждый день просиживал подолгу над старыми номерами Таймса, изменяя и приукрашивая те газетные сообщения, которые должны были цитироваться в речах ораторов. По ночам, когда шумные толпы пролов бродили по улицам, в городе царила странная лихорадочная атмосфера. Реактивные снаряды падали чаще, чем обычно, и откуда- то издалека доносились раскаты чудовищных взрывов, которых никто не мог толком объяснить. Они порождали самые невероятные слухи.
Телескрин без конца передавал недавно появившуюся песню, посвященную Неделе Ненависти. Она так и называлась – «Песня Ненависти». Дикий, лающий ритм делал ее похожей скорее на грохот барабана, чем на песню. Волосы становились дыбом, когда сотни глоток выкрикивали ее под аккомпанимент тяжелой поступи марширующих колонн. Она пришлась по вкусу пролам и по ночам соперничала на улицах с «То была лишь мечта безнадежная», которая все еще оставалась популярной. Дети Парсонса день и ночь неистово наигрывали новую песню на гребенке, обернутой в туалетную бумагу. По вечерам Уинстон был занят больше, чем когда-либо. Бригады добровольцев, организованные Парсонсом, готовили свою улицу к Неделе Ненависти – расшивали флаги, раскрашивали плакаты, устанавливали на крышах флагштоки. Не без риска для жизни члены бригады протягивали над улицей тросы для полотнищ. Парсонс хвастался тем, что на одних только особняках Победы будет красоваться четыреста метров флагов. Он был в родной стихии и счастлив, как жаворонок. Ссылаясь на жару и на физическую работу, он опять стал обряжаться по вечерам в трусики и в рубашку с открытым воротом. Он поспевал везде: что-то толкал, тащил, пилил, приколачивал, что-то импровизировал: дружескими шутками и балагурством он подбадривал и подгонял людей, и из каждой поры его тела шел резкий запах пота, запасы которого казались неистощимыми.
Внезапно по всему Лондону был расклеен новый плакат. Никакой надписи на нем не было, – он просто изображал идущего вперед звероподобного евразийского солдата, ростом в три или четыре метра, с бесстрастным монгольским лицом, в громадных сапорах и с прижатым к бедру автоматом. Под каким бы углом вы ни смотрели на него, непомерно увеличенное передним планом дуло автомата было устремлено прямо на вас. Плакат был наклеен на каждой стене, всюду, где еще имелось свободное место, и в таком количестве, что оно даже превышало количество портретов Старшего Брата. Пролов, обычно равнодушных к войне, всячески подхлестывали, чтобы разбудить очередной приступ их бешеного патриотизма. Словно для того, чтобы подогреть общее настроение, реактивные снаряды уносили все большее и большее число жертв. Один из них разорвался в переполненном людьми кинотеатре на Степни, похоронив под обломками несколько сот человек. Все население окрестных районов вышло на похороны. Длинная похоронная процессия, двигавшаяся часами, вылилась в настоящую демонстрацию. Вслед за тем другой снаряд упал на пустыре, служившем детской площадкой, разорвав на куски несколько десятков детей. И снова состоялись гневные демонстрации протеста. Толпа жгла чучела Гольдштейна, а заодно сорвала и бросила в огонь сотни плакатов с изображением евразийского солдата. В суматохе пролы разграбили несколько магазинов. Потом поползли слухи, что снаряды направляются шпионами по радио, и двое стариков-супругов, будто бы иностранного происхождения, сами подожгли свой дом и задохнулись в дыму.
Расплывчатый старик
Когда Уинстону и Юлии удавалось добраться до комнаты в доме господина Чаррингтона, они, спасаясь от жары, снимали с себя все и голые ложились на непокрытую постель у распахнутого настежь окна. Крыса больше не появлялась, но клопы за время жаркой погоды расплодились невероятно. Однако, Уинстона и Юлию это не беспокоило. Грязная ли, чистая ли, комната была раем. Приходя в нее, они обсыпали все вокруг себя перцем, купленным на черном рынке, сбрасывали одежду, потные отдавались ласкам и засыпали, а, проснувшись, обнаруживали, что клопы очухались от поражения и готовят массовую контратаку.
Уже шестой, а, может быть, даже седьмой раз они встречались в июне. Уинстон отучился пить джин в любое время дня и, по-видимому, не испытывал потребности в этом. Он пополнел, его варикозная язва стала подживать, оставив только темное пятно на коже повыше лодыжки; приступы кашля по утрам прекратились, и его уже не подмывало, как прежде, скорчить гримасу телескрину или прокричать во все горло проклятие. Теперь, когда у них было свое надежное убежище, почти дом, не тяготило и то, что они могут встречаться там лишь время от времени и каждый раз только на два-три часа. Важно было то, что комната над лавчонкой господина Чаррингтона существует. Сознавать, что она есть и держится нерушимо, точно крепость, – было почти то же самое, что находиться в ней. Комната была их миром – заповедным миром прошлого, где свободно разгуливали допотопные существа. Господин Чаррингтон был в глазах Уинстона одним из таких существ. Направляясь к себе наверх, Уинстон обычно ненадолго останавливался побеседовать с хозяином. Старик почти не показывался на улицу, возможно даже и совсем не выходил из дому, а, с другой стороны, и покупатели заглядывали к нему чрезвычайно редко. Он жил жизнью призрака, проводя время то в темной и тесной лавчонке, то в еще более крохотной кухоньке, где он сам готовил себе пищу и где, среди других вещей, стоял неправдоподобно старый граммофон с громадной трубой. Он был рад каждой возможности поговорить. Этот длинноносый человек в очках с толстыми стеклами и в вельветовой куртке на согнутых плечах, блуждавший по нищей лавчонке, напоминал Уинстону скорее коллекционера, чем торговца. С каким- то тихим энтузиазмом он касался то одной безделицы, то другой, – фарфоровой пробки для бутылок, поломанной табакерки с раскрашенной крышкой, латунного медальона с прядью волос давно умершего ребенка, – никогда ничего не навязывая, а просто предлагая Уинстону полюбоваться ими. Разговаривать с ним – было то же самое, что слушать звон старинного музыкального ящика. Из каких-то закоулков своей памяти он извлек еще несколько отрывков забытых стихов. В одном из них рассказывалось о двадцати четырех черных дроздах, в другом – о корове со сломанным рогом, а еще в одном – о смерти бедного Кок Робина. «Я просто подумал, что, быть может, вам это покажется интересным», – говорил он с коротким, как бы извиняющимся смешком, читая стихи. Но ему никогда не удавалось вспомнить больше двух-трех строчек из одного и того же стихотворения.
– И Уинстон и Юлия знали – и это почти никогда не выходило из головы, – что такое положение не может долго продолжаться. По временам близость смерти была так же осязаема, как постель, на которой они лежали, и они кидались друг другу в объятия со страстью отчаяния, как душа грешника устремляется к последнему наслаждению, когда стрелки часов показывают пять минут до положенного срока. Но иногда они не только убаюкивали себя иллюзией безопасности, но верили даже тому, что застрахованы навек. Во всяком случае, они знали, что пока находятся в своей комнате, наверху, ничего плохого с ними не произойдет. Пробираться в комнату было и трудно, и опасно, но сама она была чем-то вроде заповедника. То же самое чувствовал Уинстон, когда, глядя на пресс-папье, думал, что можно проникнуть в его внутренний мир, и что там, в этом стеклянном мире, время остановится. Нередко они утешали себя мечтами о том, что в конце концов найдут выход из положения. Возможно, что счастье не изменит им, и связь будет тайно продолжаться тем же путем, как сейчас, до их естественной смерти. А, быть может, Катерина умрет, и они, с помощью разных тонких уловок, добьются разрешения на брак. Или вместе покончат с собою. Или, наконец, вместе бегут, потеряются из вида, научатся говорить по-пролетарски, поступят на фабрику и доживут до конца, дней где-нибудь на окраине. Оба понимали, что все это чепуха и что в действительности выхода нет. А для осуществления единственно реального плана – самоубийства – им недоставало мужества. Как легкие не могут не дышать, пока есть воздух, так какой-то непобедимый инстинкт заставляет человека цепляться за каждый день и каждую неделю жизни, повседневно участвуя в созидании настоящего, у которого нет будущего.
Иногда они говорили также о своем участии в активной борьбе против Партии, не имея никакого представления о том, с чего надо начинать. Даже если мифическое Братство существует, – как найти дорогу к нему? Уинстон рассказал Юлии о странной тайной близости, которая – не то на самом деле, не то лишь в его воображении – существует между ним и О’Брайеном. Он рассказал, как его подмывает иногда подойти к О’Брайену, прямо объявить, что он – враг Партии и попросить помощи. Любопытно, что Юлия не видела в этом ничего невозможного. Привыкнув судить о людях по их внешнему виду, она считала естественным, что Уинстон мог поверить в О’Брайена с одного мимолетного взгляда. Больше того: она считала непреложной истиной, что все или почти все в душе ненавидят Партию и готовы нарушить любое ее постановление, если это не грозит опасностью. Но она не верила, что существует или может существовать организованная и широко разветвленная оппозиция.
– Все рассказы о Гольдштейне и его подпольной армии, – говорила она, – чепуха, придуманная Партией в собственных интересах, хотя людям и приходится притворяться, будто они верят этой чепухе. Бесконечное множество раз на партийных митингах и на «добровольных» демонстрациях она надрывалась от крика, требуя смерти людей, имена которых ничего не говорили ей и в предполагаемые преступления которых она ничуть не верила. В дни показательных процессов она с отрядами Союза Молодежи с утра до ночи дежурила у здания суда, выкрикивая время от времени – «Смерть предателям!». На Двухминутке Ненависти она превосходила всех в брани по адресу Гольдштейна. И при всем этом она имела самое смутное понятие о том, кто такой Гольдштейн и какое течение в Партии он представляет. Она выросла после Революции и была слишком молода, чтобы помнить идеологические битвы пятидесятых и шестидесятых годов. Такой вещи, как независимое политическое движение, она не могла себе представить, и Партия казалась ей неуязвимой. Она всегда будет существовать и всегда останется такой, как есть. С нею можно бороться только тайным неповиновением или, самое большее, с помощью отдельных актов саботажа и террора.
Однако, в некоторых отношениях, Юлия оказалась более проницательной и менее восприимчивой к партийной пропаганде, чем Уинстон. Однажды, когда они заговорили о войне, Юлия немало удивила его, вскользь заметив, что, по ее мнению, никакой войны вообще нет. Реактивные снаряды, ежедневно падающие на Лондон, по всей вероятности, пускаются правительством самой Океании, просто для того, «чтобы держать народ в страхе». Эта мысль буквально никогда не приходила ему в голову. В другой раз он почувствовал даже что-то похожее на зависть к Юлии, услышав от нее, что на Двухминутке Ненависти ей приходится употреблять невероятные усилия, чтобы не расхохотаться. И, тем не менее, она переставала верить в учение Партии только тогда, когда оно затрагивало ее непосредственно. Нередко она принимала официальное мифотворчество просто потому, что и ложь и правда казались ей одинаково несущественными. Заучив, например, в школе, что Партия изобрела самолеты, она продолжала верить этому и до сих пор. (Уинстон вспоминал, что в конце пятидесятых годов, когда он сам учился в школе, Партия претендовала только на изобретение геликоптеров; лет десять-двенадцать спустя, в школьные годы Юлии, претензии Партии распространились и на самолеты; еще одно поколение – и честь изобретения парового двигателя также будет приписана Партии). Но когда он рассказал, что самолеты существовали еще до его появления на свет и задолго до Революции, Юлия отнеслась к этому совершенно равнодушно. А не все ли, в конце концов, равно, кто их изобрел? Он был еще более смущен, когда по отдельным ее замечаниям догадался, что она, не помнит, что четыре года тому назад Океания воевала с Истазией и была в мире с Евразией. Правда, с кем бы Океания ни воевала, война казалась Юлии простым спектаклем, но все-таки, как можно бы-ло не заметить, что имя врага изменилось? «А я думала, мы всегда воевали с Евразией», – заметила Юлия неуверенно. Это даже слегка напугало его. Самолеты были изобретены задолго до ее рождения, но смена противников в войне произошла всего четыре года тому назад, когда она, во всяком случае, была уже достаточно взрослой. Они проспорили минут пятнадцать, прежде чем ему удалось заставить ее напрячь память и смутно припомнить, что действительно в свое время Истазия, а не Евразия была врагом Океании. Но она так и не поняла, какое это имеет значение. «Какая разница? – нетерпеливо заметила она. – Все равно этим проклятым войнам нет конца, и нет конца брехне».
Иногда он рассказывал ей об Отделе Документации и о том, какими бессовестными подлогами он там занимается. Но и это, видимо, ее не устрашало, как не устрашали бездны, разверзавшиеся под ногами, оттого что ложь становится правдой. Он познакомил ее с историей Джонса, Ааронсона и Рутефорда и рассказал о том, как ему однажды попал в руки знаменательный газетный отрывок. Это тоже не произвело большого впечатления на нее. Вначале она даже не поняла сущности дела.
– Это были твои друзья? – спросила она.
– Нет. Я даже не знал их. Они были членами Внутренней Партии и гораздо старше меня. Они принадлежали к старшему, дореволюционному поколению. Я видел их всего один раз в жизни, да и то мельком.
– Так из-за чего же было волноваться? Людей, ведь убивали и будут убивать всегда. Разве это не так?
Он постарался объяснить, в чем дело:
– Нет, это был особый случай. Тут дело не в том, что кого-то убили. Ты пойми, что прошлое, – все прошлое, начиная со вчерашнего дня, – уничтожено. Единственно, в чем оно еще сохраняется – это в немногих материальных памятниках, не снабженных никакими надписями, наподобие вот этого куска стекла. Даже мы с тобою уже почти ничего не знаем ни о Революции, ни о предшествовавших ей годах. Каждый документ подделан или уничтожен, каждая книга переписана, каждая картина нарисована наново, каждая статуя, улица и здание переименованы, каждая дата изменена. И процесс этот идет изо дня в день, минута за минутой. История остановилась. Ничего не существует, кроме бесконечного настоящего. А в настоящем Партия всегда права. Я, например, хорошо знаю, что прошлое фальсифицировано, но даже в тех случаях, когда эта фальсификация – дело моих рук, я ничего не в силах доказать. Как только подделка совершилась, – все улики исчезают. Единственный свидетель – моя память, но я вовсе не уверен, что другие помнят факты, известные мне. Только в тот единственный момент моей жизни я обладал конкретным доказательством подлога спустя много лет после того, как он был совершен.