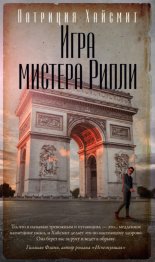Жестокий век Калашников Исай

– Что с моим Тэмуджином?
– Теб-тэнгри видел его два дня назад.
– Как он там? – Она повернулась к шаману.
– Ходит с кангой на шее, – сказал Теб-тэнгри. – Черным рабом, будто пленного врага, сделал его Таргутай-Кирилтух…
Оэлун, закрыв глаза, увидела сына, высокого, худого, с тяжелой колодкой на тонкой шее, и закусила губу, чтобы не расплакаться. Хоахчин подала ей свежего овечьего сыру и чашку кислого молока, но Оэлун не могла есть. Невыплаканные слезы комом застряли в горле. Бедный Тэмуджин. За какую вину мается? Как все это терпит мать-земля, не разверзнется под ногами мучителей, не проглотит их!..
Она подняла голову и увидела глаза Мунлика. В них было сострадание и глухая печаль.
– Оэлун, я хочу съездить к кэрэитам, – сказал он.
– Зачем? – душевно болея за сына, спросила она.
Мунлик осторожно потеребил узкую, длинную бороду:
– Надо же как-то освобождать Тэмуджина… Хан Тогорил, думаю, не забыл, что он был клятвенным братом Есугея, что Есугей возвратил ему отнятое ханство.
– Ты затеваешь войну?
– И без того у Таргутай-Кирилтуха и Тогорила нет мира. Правда, и войны тоже нет. Набегают друг на друга. А до войны дело не доходит – побаиваются друг друга. Надо скрытно привести воинов Тогорила сюда и ударить прямо в сердце улуса тайчиутов – на курень Таргутай-Кирилтуха.
– Нет, Мунлик, нет. – Оэлун медленно качнула головой, ладонями сжала виски. – Мы пробовали драться – ну и что? Зря погибли люди. Война – всегда кровь. И сироты. Разрушенные очаги. Ограбленные юрты. Война – огонь в степи, сжигает и худые, и хорошие травы.
– Как же вызволить Тэмуджина?
– Не знаю… Но не води сюда кэрэитов. Уж лучше я поеду к Таргутай-Кирилтуху, паду перед ним на колени, буду слизывать пыль с его сапог. Неужели у него нет сердца? Неужели не отпустит Тэмуджина?
Шаман улыбнулся жалостливо, мягко, как улыбаются умудренные жизнью взрослые, слушая неразумные речи детей, проговорил:
– Не отпустит. Когда орел-хищник когтит ягненка, блеяние овцы не остановит его. Но и воинов Тогорила сюда вести нельзя.
Он не оставлял матери никаких надежд. Оэлун растерянно и просяще глянула на Мунлика, будто призывая заставить замолчать шамана-сына. И Мунлик, все более туго накручивая на палец прядь бороды, все более жестко подергивая ее, сказал Теб-тэнгри:
– Воинов хана вести нельзя, просить Кирилтуха не следует – как же быть? Что-то я тебя не пойму, сын. Ты отдалился от всех нас, слишком много времени проводишь у юрты Таргутай-Кирилтуха. Твоих дум я не знаю.
– Конь хочет быть первым среди скакунов, мужчина – среди воинов, шаман – среди тех, кому ведомы тайны Неба, – вяло, с неохотой, как о чем-то давно известном, сказал Теб-тэнгри; заметив, что отец ничего не понял, добавил: – Резвость коня проверяется скачкой, отвага воина – сражением, сила шамана – умением полонить ум могущественных.
– Поло-онить, – протянул Мунлик. – Таргутай-Кирилтух кровный враг нашего рода! Ты забыл, что копье его нукера прервало земной путь моего отца и твоего деда Чарха-Эбугена? Поло-онить… Чего же ты добился?
– Ничего, – нехотя ответил шаман. – Таргутай-Кирилтух прогнал меня.
– Так тебе и надо!
На время все замолчали, и Оэлун острее прежнего почувствовала свое бессилие, свою обреченность. Лоб Мунлика бороздили трудные думы, но он молчал. А когда заговорил, в его голосе не было уверенности:
– Может быть, нам помогут твои родичи – олхонуты? Или ваш сват Дэй-сэчен?
– Чем они нам помогут? Пока у нас один помощник и заступник – ты, Мунлик.
В его лице что-то дрогнуло, казалось, он всей душой потянулся к ней, в печально-ласковом взгляде было много невысказанного. Ничего такого она раньше не замечала, и это удивило, даже почему-то встревожило. Скрывая неловкость, наклонилась над столиком, стала разламывать кусочек сыру, а когда снова подняла голову, лицо Мунлика было прежним, озабоченно-строгим.
– Не ищите помощи у кэрэитов и олхонутов, – сказал Теб-тэнгри, помедлил, как будто сомневаясь, нужно ли говорить об этом, продолжал, переводя взгляд с отца на Оэлун: – Надо искать помощи в самом курене Таргутай-Кирилтуха. Там есть люди, которые помнят Есугея. И я не зря кручусь в курене.
– Что люди… – вздохнула Оэлун. – Они такие же невольники, как мой сын, только без канги на шее. А ты… Ну что можешь сделать ты, Кокэчу?
Она назвала его прежним, детским именем. Для нее он и не был Теб-тэнгри, шаманом, чье имя известно во многих куренях.
– Будет на то воля Неба, я сделаю все, что нужно, – сказал шаман и вышел из юрты.
Они с Мунликом остались вдвоем. Сидели, разделенные столиком. Оэлун разламывала сыр на крошки, складывала их горкой. Две слезы скатились по щекам и упали на крышку стола.
Х
Ночью выпал снег, и все юрты куреня были белыми. В стылом воздухе пахло дымом и жареным мясом. Тэмуджин постоял, втягивая ноздрями запахи сытости и благополучия, взял пешню, положил на плечо – железо глухо стукнулось о колодку. Свежий, неулежавшийся снег тихо поскрипывал под разбитыми унтами с вылезающими из дыр травяными стельками. На тропе, бегущей к реке, не было ни одного следа, и она резко выделялась чистой белизной.
Только что рассвело. Зимнее небо было неприветливым, серым. С низовьев реки тянул ветерок, и Тэмуджину в его дырявой короткой шубейке стало холодно. Он, согреваясь, сбежал на реку, прокатился по льду, распахивая унтами мягкий снег. Возле ледяного корыта для водопоя животных из-под снега чернели кучи конского и коровьего навоза, на голубоватом осколке льда трепыхался примерзший клок овечьей шерсти. Дальше стлалось ровное, запорошенное снегом поле льда. Тэмуджин вспомнил игру в бабки на Ононе, и тоска тупо толкнулась в сердце. Какое счастливое было время! Где сейчас Джамуха-анда? Знает ли он о злой доле своего побратима? Недавно видел здесь Хучара. Вместе с дядей Даритай-отчигином они приезжали к Таргутай-Кирилтуху. Встретился с ними случайно. Шел с ведром воды, остановился, увидев незнакомых всадников. Оба, в теплых шубах и лисьих малахаях, на сытых лошадях ехали навстречу. Его напряженный взгляд заставил их остановиться.
– Тэмуджин? – Хучар резко натянул поводья.
– Племянничек! – завопил Даритай-отчигин. – Да за что же тебя так? Почему ты не дал мне знать?
Они наговорили кучу хороших слов, пообещали выручить. Но он напрасно ждал. Не дождался ни освобождения, ни дяди с двоюродным братом. Не могли ничего сделать? Может быть, и так. Но хотя бы заехали, сказали, как и что, хотя бы дали кое-какой одежды. Вот тебе и родичи, вот тебе и люди одной крови. Каждый печется лишь о себе, о других подумать некому. Такими стали потомки Хабул-хана.
Тэмуджин ударил пешней о лед, и ломкий звук удара покатился по реке. Из-под острия пешни вылетали ледяные брызги, секли лицо. Раздолбив прорубь, он очистил, углубил корыто и кожаным оледенелым ведром стал черпать воду.
К водопою потянулся скот. Лошади в серебре инея подходили к корыту, шумно втягивали воду и резво, играя селезенкой, бежали на пастбище. Степенно, лениво спускались к воде быки и коровы, теснясь, дробно стуча копытами, сбегали овцы, толстые в своих теплых шубах.
Тэмуджин черпал и черпал воду. Брызги, падая на унты, на кожаные штаны, на полы шубенки, застывали, и скоро одежда, унты залубенели, перестали гнуться.
Напоив скотину, он обколотил палкой лед с одежды и пошел в курень. Тайчу-Кури уже, наверное, запряг быков и ждет его. Надо ехать в лес за дровами. Возвратятся из лесу, будут возить воду к юртам нойонов, а вечером нужно снова поить скотину. После водопоя он должен зайти к Аучу-багатуру или Улдаю, рассказать, что сделал за день. Это самое трудное.
Из куреня с шумной ватагой нукеров выезжал на охоту Таргутай-Кирилтух. Промерзшие за ночь кони нетерпеливо перебирали ногами, уминая рыхлый снег. Тэмуджин свернул с дороги, остановился, пропуская всадников. К нему подлетел Аучу-багатур, зло крикнул:
– Ослеп? Не видишь своего господина? Кланяйся!
Тэмуджин смотрел мимо него, молчал. Он теперь всегда молчал, когда они ругали его или издевались над ним. Кланяться Таргутай-Кирилтуху? Нет! Выделывать овчины, рубить и возить дрова, собирать сухой навоз – пожалуйста. Но головы своей перед ними он, сын Есугея-багатура, не склонит. Он никогда не будет таким, как дядя или Хучар, не унизит своего рода.
– Я кому говорю?!
Конь Аучу-багатура, оскалив широкие зубы, храпя и обдавая горячим дыханием, теснил Тэмуджина в сугроб. Он попятился, упал, и тут же удар плети ослепил его.
– Оставь! – сказал Таргутай-Кирилтух.
Тэмуджин сел, вытер снегом лицо. Рубец, оставленный плетью, горел, из глаз бежали слезы.
Увидев его, Булган охнула:
– Это кто же тебя так? Они?
– Они, – глухо подтвердил Тэмуджин. – Злобный пес Аучу.
В юрту вошел Тайчу-Кури. От его задубевшей на морозе шубы струился дымок. Он протянул руки к огню, потер ладони, крякнул:
– Холодно как сегодня. – Поднял глаза на Тэмуджина. – Ой, что это?
– Оса укусила. – Тэмуджин гладил пальцами ноющий рубец.
– Ос зимой не бывает.
– Молодец, Тайчу-Кури, все знаешь! Не оса – дурная муха. На них ни зимой, ни летом погибели нету.
– Верно, дурные мухи! – подхватила Булган. – На кого взгляд упал, того и жалят. – Она понизила голос: – В народе ходят слухи – недолго осталось властвовать Таргутай-Кирилтуху. Шаману Теб-тэнгри открылось будущее. Владеть улусом станет человек с рыжими косами и серыми, как яйца жаворонка, глазами. У тебя, Тэмуджин, голова рыжая. Вот глаза…. Не всегда серые. Бывают зелеными, как молодая трава, темными, как ночью вода. Но я все равно думаю: не ты ли будешь нашим повелителем?
– Зачем такие разговоры, мама? – с укором сказал Тайчу-Кури. – Дойдет болтовня до ушей Таргутай-Кирилтуха – не жить Тэмуджину.
– Это не болтовня. Сорган-Шира сам говорил с шаманом.
– Добро бы так, но лучше об этом, мама, помалкивать. Ты, Тэмуджин, оставайся дома. В лес я поеду без тебя.
– Один не нарубишь столько дров.
– Я нарублю.
Тэмуджина всегда удивляла готовность Тайчу-Кури взваливать на себя чужую работу. В душе он даже презирал парня за это, считая его услужливость свойством природного раба. Но сейчас был ему благодарен. Что станет с лицом, если целый день пробыть на морозе?
Он лег в постель, прикладывал к рубцу клочья шерсти, намоченные в холодной воде, думал о словах Булган. Если бы слухи были правдой! А почему бы им не быть правдой? Самим Небом его род, род Кият-Борджигинов, предназначен повелевать другими. Так говорил ему еще отец, и Дэй-сэчен, его будущий тесть, говорил то же самое.
Вечером Аучу-багатур прислал за ним нукера. Аучу ужинал. На столе в деревянном блюде высилась гора мяса, стоял котелок с подогретой архи. Аучу пил вино прямо из котелка, кряхтел, смачно обсасывал косточки молодого барашка. Блестели крепкие белые зубы, лоснилось потное лицо, ярко лиловел шрам на покатом лбу. Тэмуджин стоял у порога, чуть склонив голову, чтобы колодка не давила на горло.
– Надо было тебя побить как следует, но наелся, вставать не хочется. – Аучу вытер руки о штаны, всмотрелся в распухшее, обезображенное рубцом лицо Тэмуджина, и его губы сложились в ухмылку. – Хорошо я тебя дернул?
– Хорошо, – подтвердил Тэмуджин.
Страха перед Аучу-багатуром не было, Тэмуджин смотрел на него со спокойной ненавистью.
– Ты хочешь есть? – неожиданно спросил Аучу.
– Нет, я не хочу есть.
– А выпить?
– Не хочу и пить.
– Видишь, как хорошо тебе живется. И сыт, и от выпивки отказываешься, и в лес сегодня не ездил. Дурак Тайчу-Кури работает за тебя.
– За меня никто не работает. Я не нанимался к вам работать.
– Ты сегодня разговорчивый. Может быть, до тебя дошли кое-какие слухи? А? Не радуйся. Мы вырвем шаману его лживый язык, и слухов не будет. А тебе надо понять вот что. Случается, богатый в один день становится нищим, сильный – немощным. Наоборот, запомни, никогда не бывает. Господин нередко становится рабом, но раб господином – никогда. Не поймешь этого – до конца своей жизни не снимешь колодку.
– А если сниму? Ты, Аучу-багатур, слуга моего отца, не задумывался над тем, что будет с тобой тогда?
Отхлебнув архи, Аучу зубами оторвал от кости кусок мяса, прожевывая, трудно ворочал лоснящимися челюстями, говорил невнятно:
– Я твоему отцу служил честно. Его не стало – служу Таргутай-Кирилтуху. Хуже или лучше он твоего отца – не мое дело. Я знаю одно: его благополучие – это и мое благополучие. И таких, как я, тут много. Вот почему ты никогда не снимешь кангу!
Аучу-багатур был почти благодушен, не кричал, как обычно, не издевался, и от этого его слова звучали для Тэмуджина с особой силой. В них была страшная для него правда.
– Из уважения к памяти твоего отца дам один совет: смирись со своей участью, тем облегчишь судьбу. Может быть, я сумею чем-то помочь тебе.
Тэмуджин повел плечами. Невыносимо давила колодка. Рубец стянул кожу лица, слезился запухший глаз, дразнил запах мяса. Почувствовал себя маленьким, растоптанным и, боясь своей слабости, сказал с вызовом:
– Мне не нужны ни твои советы, ни твоя помощь.
– Как хочешь… В юрту к дураку Тайчу-Кури больше не вернешься. Будешь работать у кузнеца Джарчиудая. Помашешь молотом – умнее станешь.
Нукер привел Тэмуджина в маленькую юрту, тускло освещенную гаснущим очагом. Кузнец Джарчиудай, пожилой человек с клочковатыми бровями, угрюмо вгляделся в обезображенное лицо Тэмуджина, проворчал скрипуче:
– У-у, рожа-то какая! Я просил подручного, а вы даете разбойника. Веди его обратно.
– Я ничего не знаю, – сказал нукер. – Говори с Аучу-багатуром.
– И поговорю! Неужели не нашлось порядочного человека? – нудно скрипел кузнец.
Нукер, посмеиваясь, ушел.
Кузнец подбросил в очаг сухих лучин. Пламя вспыхнуло, осветив юрту с черными от копоти решетками стен. За очагом на постели, вытаращив любопытные глаза, сидели мальчик лет десяти и подросток.
– Джэлмэ, бездельник, ты чего сидишь? Принеси аргала.
Подросток сунул ноги в большие гутулы, вышел. Кузнец повернулся к Тэмуджину:
– А ты почему стоишь, будто столб коновязи? Пришел – раздевайся.
Сняв шубенку, Тэмуджин положил ее у порога. Кузнец скосил на него угрюмые глаза, приказал мальчику:
– Чаурхан-Субэдэй, повесь шубу. Нойон даже в колодке любит, чтобы за ним ухаживали.
Если до этого Тэмуджин думал, что кузнец принимает его за обычного колодника и потому так ворчит, то теперь стало ясно: он хорошо знает, кто перед ним. Тоже, видать, верная собака Таргутай-Кирилтуха.
Мальчик поднял шубенку, но не смог дотянуться до вешалки. Тэмуджин отстранил его, повесил сам, сел к очагу.
Джэлмэ принес и аргала, и дров, бросил в огонь смолистое полено, пламя сразу поднялось почти до самого дымохода. В юрте стало тепло, даже жарко. Джарчиудай разогрел на огне суп – остатки ужина, поставил перед Тэмуджином, коротко приказал:
– Ешь!
В котелке плавали желтые блестки жира и темные крошки приправы – дикого лука – мангира. Тэмуджин проглотил слюну. Надо было бы, как и в юрте Аучу-багатура, отказаться от угощения. Но очень уж хотелось есть. Презирая себя, стал хлебать суп. Джэлмэ подсел к нему, потрогал руками колодку, спросил:
– Тяжелая?
– Вот наденут на тебя – узнаешь.
Джэлмэ не смутился. Сел еще ближе, шепнул:
– Ты нашего отца не бойся. Он сердитый, но хороший.
– Тому, кто упал в воду, бояться дождя нечего, – хмуро ответил Тэмуджин.
Утром пошли работать. Кузница была в соседней юрте. У маленького горна с кожаным мехом на обожженной чурке стояла наковальня, возле нее на крючках висели клещи, молоточки, у дверей кучей лежали ржавые железные обломки. Джарчиудай заставил Тэмуджина разжигать горн, сам гремел железом у наковальни, искоса смотрел за его работой. Тэмуджин надавил рукоятку меха, воздух с шумом ворвался в горн, пламя загудело, охватывая угли. Он надавил на рукоятку сильнее, и горячие угольки брызнули во все стороны. Кузнец шагнул к нему, плечом отодвинул от меха, стал качать сам. Воздух из меха пошел ровной, беспрерывной струей.
– Вот так и качай! Ничего не умеешь!
Здесь, на работе, кузнец был совсем невыносим. Ругался без конца. Джэлмэ приносил в кузницу угли, воду, железо, подмигивал Тэмуджину, как бы спрашивая: «Достается тебе?»
Тэмуджину долго не удавалось правильно бить молотом по раскаленному куску железа. Удары получались либо слишком слабые, либо слишком сильные, либо не очень точные. Кузнец выходил из себя, выхватывал из его рук молот, кидал на землю, топал ногами.
– Прогоню! Заставлю Аучу избить тебя палками! Из сынка нойона подручный как из осла скакун.
– Нойон должен быть воином, не кузнецом! – запальчиво возразил Тэмуджин.
– А кто воину кует меч, наконечник копья и стрелы? – Лохматые подпаленные брови тучей нависли над суровыми глазами. – А кто делает стремена для седла, удила для узды? Все эти вот руки? – Он ткнул под нос Тэмуджину руку с черной, задубелой кожей и кривыми, обломанными ногтями. – Что даете нам вы, нойоны? Оружие, которое мы куем на врагов, подымаете друг на друга и проливаете кровь наших братьев.
– При чем тут я?
– Как при чем? Дай тебе волю – лучше других будешь!
– Уж таким, как Таргутай-Кирилтух, не буду!
– А каким? Сам не знаешь. Бери молот.
Вечером, как всегда, Тэмуджин собрался идти к Аучу-багатуру. Кузнец не пустил его. Утром Аучу сам приехал в кузницу, спросил:
– Почему не пришел?
– Ты у меня спрашивай, – сказал кузнец. – Ты его дал мне, я за него отвечаю. Будет ходить взад-вперед. Работать надо, а он будет ходить.
– Ладно, – милостиво согласился Аучу, – держи его в строгости.
– Нет, беличьим хвостом по щекам гладить буду!
Аучу-багатур засмеялся:
– Мне говорили: ты учишь его так, что весь курень слышит. Так делай и впредь.
– Без тебя знаю!
Тэмуджин готов был поклониться старику в ноги: он избавил его от ежедневных унизительных разговоров с Аучу-багатуром и Улдаем. Но он не поклонился, даже не поблагодарил, вместо этого вечером остался в кузнице и, превозмогая усталость, махал молотом, овладевая умением бить точно, соразмерять силу удара. Ему не хотелось, чтобы кузнец считал его никуда не годным и ни на что не способным.
Джарчиудай оценил его старание, ругался реже, хотя был таким же вредным и колючим. Но, как заметил Тэмуджин, кузнец и своих сыновей, особенно Джэлмэ, не щадил. И всем от него доставалось. Он не стеснялся поносить и Аучу, и самого Таргутай-Кирилтуха. Его суждения о людях были меткими и злыми… Здесь Тэмуджин начал понимать, что его собственные суждения о жизни, о людях были слишком уж простенькими, детскими. Давно ли он любил всем напоминать с заносчивостью: «Я – сын Есугея!» Тут, под суровым взглядом Джарчиудая, подобные слова застревали в горле. Тут эти слова ничего не стоили.
И чем глубже он понимал всю непростоту жизни, зависимости людей друг от друга, тем сильнее хотелось вырваться отсюда. Ни днем ни ночью не оставляли его мысли о побеге, и тоска о родных, о воле давила на сердце тяжелее, чем колодка на плечи.
XI
Теплый ветер великой Гоби слизал снега, и на склонах щебнистых сопок заголубели цветы ургуя, в низинах, прогретых солнцем, просеклась молодая трава; среди метелок седого дэрисуна, обтрепанного зимними буранами, бойко шныряли суслики; высоко в небе, чуть пошевеливая крыльями, парили коршуны, сытые, равнодушные к легкой добыче; от озера к озеру по извечным путям тянулись несметные стаи перелетных птиц, и вечерние сумерки гудели от шума крыльев, гогота, кряканья, посвиста; табунные жеребцы, зверея от ревности, носились по степи, отгоняя от кобылиц бродячих соперников; налив кровью глаза, взрывая копытами землю, бодались быки; звенели первые, редкие еще комары. И эти звуки, и запахи ветра великой пустыни беспокойно-томительной радостью входили в душу Тайчу-Кури.
В стороне от куреня, у родника, выбегающего из леса, стояла одинокая юрта. Тайчу-Кури направился к ней. Он был бос, и ступни ног, привыкшие за зиму к обуви, покалывала сухая трава, но до чего же хорошо было идти вот так, ощущая подошвами траву и прохладу сырой земли.
Он уже подошел к юрте, когда из-за нее, злобно лая, вылетел тощий пес, рванул Тайчу-Кури за штаны. Лягнув собаку пяткой в бок, Тайчу-Кури бросился в сторону, но она снова вцепилась в штаны. Из юрты прибежала девушка, закричала на собаку, и та, опустив хвост, повизгивая, потрусила в сторону.
– Укусила? – Девушка остановилась рядом с Тайчу-Кури.
– Нет. Только вот штаны…
Тайчу-Кури выставил вперед правую ногу. Ветхие, много раз чиненные штаны из козьей кожи были разорваны от колена до низа. Девушка засмеялась. Один верхний зуб у нее был с заметной щербинкой, от этого она показалась Тайчу-Кури некрасивой. На ней был халат из дешевенькой ткани, с засаленным подолом и обтрепанными рукавами.
– Ты идешь к нам? – спросила девушка.
– Да, мне нужен хозяин этой юрты.
– Он мой дедушка. Но его сейчас нет, тебе придется подождать. А пока давай я зашью штаны.
– Мне их снять?
– Вот еще! – Девушка покраснела, пошла в юрту.
Тайчу-Кури тоже покраснел, поняв, что сказал глупость. И ему стало весело от этой своей глупости. Покрутил головой, сел на березовый обрубок у входа в юрту. Девушка принесла нитки из сухожилий, иголку, стала перед ним на колени, принялась за работу. Он смотрел на ее тонкие, проворные пальцы с выпуклыми ногтями, на неровный пробор в гладко зачесанных волосах, на розовые уши, и ему вдруг захотелось сжать в руках ее пальцы, слегка подергать за уши или за волосы. Но он боялся, что девушка может рассердиться, и сидел неподвижно.
– У тебя есть отец? – спросил он.
– Нет. Его убили татары.
– А мать?
– Мать увели в плен меркиты.
– Кроме дедушки, у тебя никого нету?
– Никого…
– А у меня есть мать, – сказал Тайчу-Кури и, подумав, что это звучит хвастливо, поправился: – У меня, кроме матери, тоже никого нет. Мой отец тоже был воином Есугей-багатура, но его убили не татары, а нукеры Таргутай-Кирилтуха.
Он замолчал, положил руку на ее голову, провел по волосам.
– Ты чего? – Она подняла голову, в черных блестящих глазах было удивление.
– У тебя волосы гладкие-гладкие. Ты их маслом смазываешь?
– Нет, они сами по себе такие.
– А у меня жесткие. Прямо как на хвосте у быка. – Он наклонился, взял ее руку и приложил к своей голове.
– И верно, – сказала она, убирая руку. – У кого волосы жесткие, у того и характер жесткий…
– А я не знаю, какой у меня характер… А у тебя?
– И я не знаю. – Она откусила нитку, провела ладонью по шву. – Ну вот, опять как новые.
Улыбнулась лукаво. Ее лицо с широко расставленными глазами и маленьким, чуть вздернутым носом на этот раз нисколько не портил зуб со щербинкой.
Тайчу-Кури стукнул девушку по плечу, со смехом сказал:
– Сколько времени сидим с тобой, а я даже не спросил, как твое имя. Ну скажи, не дурак ли?
– Меня зовут Каймиш.
На пригорке среди редких осин показался старик с вязанкой тонких палок за спиной. Пес вертелся вокруг него, прыгал, весело крутил хвостом. Каймиш побежала навстречу деду, взяла у него вязанку, взвалила на свои плечи. Тайчу-Кури только сейчас вспомнил, что пришел сюда по делу, встал, сдержав вздох, сказал:
– Меня послал сын Таргутай-Кирилтуха Улдай. Он велел тебе сделать для него сто стрел.
Дед равнодушно посмотрел на Тайчу-Кури, ничего не ответил. Он был очень стар. Худое, с выпирающими скулами лицо изрезали морщины, редкие волосы усов и бороды были уже не белые, а желтые, как прошлогодняя трава. И халат, и гутулы на нем тоже были старые, в заплатах. Он устало присел на березовый обрубок.
– Садись, парень. Или торопишься?
Тайчу-Кури сел. Солнце склонилось к закату, тени от сопок и юрт легли на степь длинными полосами, в синем небе висело облачко с золотым боком. Пес подошел к старику, положил голову на его колени, розовым языком лизнул руки, оплетенные темными узловатыми жилами.
– Сделаю я стрелы Улдаю, – сказал старик. – Попробуй не сделать!
Каймиш разожгла возле юрты огонь, стала готовить ужин. Старик достал из вязанки березовую палку, прижмурив один глаз, внимательно осмотрел – прямая ли, начал сушить над огнем.
– А мне можно? – спросил Тайчу-Кури: ему очень хотелось быть полезным старику.
– Попробуй. Только у тебя ничего не получится. Стрелу сломать, потерять ничего не стоит. А сделать… Вот полдня проходил, а сколько палок срезал? Штук двадцать, не больше. Палка должна быть без сучьев, с прямослойной древесиной. Хорошее древко стрелы получается из березы. Еще лучше – из степной карганы. Но за карганой надо далеко ходить, а у меня сил маловато.
– Ты покажи, какие палки нужны, – сколько хочешь нарежу. Мне это ничего не стоит…
– Спасибо. Ты добрый парень. – Старик поворачивал палку над пламенем, и она дымилась, шипела.
– А почему на солнце не сушишь? – спросил Тайчу-Кури.
– Огонь лучше. Стрела, высушенная на огне, будет прямой и гибкой.
Разговаривая со стариком, Тайчу-Кури все время поглядывал на Каймиш. Иногда их взгляды встречались, и тогда Тайчу-Кури весело улыбался.
После ужина старик очистил палку от обгоревшей коры, тщательно срезал все неровности, на одном конце сделал полукруглый вырез, другой заострил и подогнал его к железному наконечнику.
– Готово? – спросил Тайчу-Кури.
– Нет, еще нет. Надо сварить рыбий клей и приклеить наконечник. И оперение надо приклеить. Самое лучшее оперение получается из крыльев орла. Но если нет орлиных, сойдут крылья лебедя, луня, вороны, даже сойки. После всего этого древко стрелы надо зачистить так, чтобы оно было гладким и блестящим, будто покрытое китайским лаком. Зачищает стрелы лучше, чем я сам, моя внучка.
– Ты научил меня, дедушка…
– Научил, верно. Пальцы у тебя чуткие. Когда я был молодым, мои пальцы тоже находили неровности, которые не видит самый острый глаз.
Стемнело. Тайчу-Кури пора было возвращаться домой, но идти не хотелось. Старик словно угадал его мысли, сказал:
– Если хочешь, приходи к нам каждый день. Я буду учить тебя делать стрелы.
– О, я очень-очень хочу научиться делать стрелы! – обрадовался Тайчу-Кури.
Старик посмотрел на него, на внучку, морщинки собрались у смеющихся глаз.
– Каймиш тоже хочет, чтобы ты научился. А, Каймиш?
Девушка опустила глаза, стала поправлять головни в огне.
– Ну, иди проводи парня, а то собака укусит.
В нескольких шагах от огня было так темно, что Тайчу-Кури не видел Каймиш, только слышал ее ровное дыхание и шелест травы под гутулами.
– Я буду к вам приходить? – спросил он.
– Как хочешь. Только… – Она засмеялась. – Штаны покрепче надевай.
– Ничего, ты зачинишь! – тоже смеясь, ответил он. – Да и нет у меня других штанов.
Он протянул руку, обхватил девушку за шею, притянул к себе. Но Каймиш вырвалась, толкнула его и убежала. Он медленно пошел к огням куреня, останавливался, смотрел на крупные звезды, на огонек у юрты старика и чувствовал, как душа наполняется незнакомой для него радостью.
Дома его ждали гости. В юрте у очага сидели Сорган-Шира и шаман Теб-тэнгри. Мать упрекнула его:
– Где ты ходишь? Я уже хотела тебя искать.
– Я не теленок, мама, не потеряюсь.
– Тайчу-Кури, ты видишь Тэмуджина? – спросил Теб-тэнгри.
– Нет, с тех пор как он работает у Джарчиудая, я его не вижу. Я к ним не хожу. Этот кузнец очень сердитый. Вот старик, делающий стрелы, хороший человек!
– Подожди, Тайчу-Кури, – остановил его Сорган-Шира, понизив голос. – Теб-тэнгри приехал просить нас помочь Тэмуджину бежать отсюда.
– Помогать надо было раньше, пока жил у нас.
– Вот и я говорю то же, – сказал Сорган-Шира. – Теперь как поможешь? Каждому своя жизнь дороже чужой.
Булган, сидевшая в стороне, поднялась, удивленно всплеснула руками:
– Да вы что? Разве Тэмуджин перестал быть нашим природным господином? Разве его отец не оказывал милостей тебе, Сорган-Шира? Разве не в одежде Тэмуджина вырос ты, Тайчу-Кури?