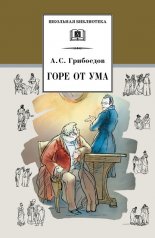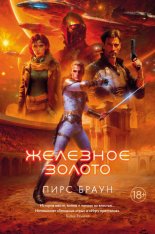Лунный камень Коллинз Уилки

Она сняла руку с моего плеча и вдруг указала мне на пески.
— Посмотрите! — сказала она. — Не удивительно ли? Не страшно ли это? Я видела это раз двадцать, но это ново для меня, как будто я никогда не видела его прежде.
Я взглянул, куда она указывала. Начался отлив, и страшный песок стал колебаться. Широкая коричневая поверхность его медленно поднималась, а потом вся задрожала.
— Знаете, на что это похоже? — сказала Розанна, опять схватив меня за плечо. — Это похоже на то, будто сотня людей задыхается под этим песком, — люди силятся выйти на поверхность и тонут все глубже в его страшной глубине. Бросьте камень, мистер Беттередж. Бросьте камень, и посмотрим, как втянет его песок!
Вот сумасбродные-то речи! Вот как голодный желудок действует на растревоженную душу! Ответ мой (правда, резкий, но на пользу бедной девушки, уверяю вас!) вертелся у меня на языке, когда его внезапно остановил голос из-за песчаных холмов, звавший меня по имени.
— Беттередж! — кричал этот голос. — Где вы?
— Здесь! — закричал я в ответ, не понимая, кто бы это мог быть.
Розанна вскочила и стала смотреть в ту сторону, откуда слышался голос.
Я сам собирался уже подняться, но тут меня испугала внезапная перемена в лице девушки.
Лицо ее покрылось таким прекрасным румянцем, какого я никогда не видел у нее прежде; она как будто вся просияла от безмолвного и радостного изумления.
— Кто это? — спросил я.
Розанна повторила мой же вопрос.
— О! Кто это? — сказала она тихо, скорее про себя, чем говоря со мною.
Я повернулся и стал смотреть в ту сторону. К нам подходил между холмами молодой человек с блестящими глазами, в прекрасном сером костюме, в таких же перчатках и шляпе, с розаном в петлице и с улыбкой на лице, которая могла бы вызвать в ответ улыбку даже у Зыбучих песков. Прежде чем я успел стать на ноги, он прыгнул на песок возле меня, бросился мне на шею, по иностранному обычаю, и так крепко обнял, что из меня чуть дух не вылетел.
— Милый старичок Беттередж, — сказал он, — я должен вам семь шиллингов и шесть пенсов. Теперь вы знаете, кто я?
Господи, спаси нас и помилуй! Это был — приехавший на четыре часа ранее того, чем мы его ожидали, — мистер Фрэнклин Блэк!
Прежде чем я успел сказать слово, я увидел, что мистер Фрэнклин с удивлением смотрит на Розанну. Следя за направлением его глаз, я тоже посмотрел на девушку; она покраснела больше прежнего, может быть потому, что встретилась глазами со взглядом мистера Фрэнклина, повернулась и вдруг ушла от нас в замешательстве, совершенно для меня непонятном, не поклонившись молодому джентльмену и не сказав мне ни слова, что совсем не походило на нее: более вежливую и приличную служанку трудно было найти.
— Какая странная девушка! — сказал мистер Фрэнклин. — Желал бы я знать, что такого удивительного нашла она во мне?
— Я полагаю, сэр, — ответил я, подтрунивая над континентальным воспитанием нашего молодого джентльмена, — ее удивил ваш заграничный лоск.
Я привел здесь небрежный вопрос мистера Фрэнклина и мой глупый ответ в утешение и поощрение всем глупым людям, — ибо я приметил, что ограниченным людям служит большим утешением сознание, что и те, которые умнее их, при случае поступают не лучше, чем они. Ни мистеру Фрэнклину с его удивительным заграничным воспитанием, ни мне, в моих летах, с моею опытностью и природным умом, не пришло в голову, что значило непонятное смущение Розанны Спирман. Мы перестали думать о бедняжке, прежде чем скрылся за песчаными холмами ее серый плащ. Что ж из этого, спросите вы весьма естественно. Читайте, добрый друг, терпеливо, и, может быть, вы пожалеете Розанну Спирман так же, как пожалел ее я, когда узнал всю правду.
Глава 5
Когда мы остались одни, я прежде всего сделал третью попытку приподняться с песка. Мистер Фрэнклин остановил меня.
— У этого страшного места есть одно преимущество, — сказал он, — мы здесь одни. Не вставайте, Беттередж, я должен сказать вам кое-что.
Покуда он говорил, я смотрел на него и старался найти сходство с мальчиком, которого помнил, в мужчине, находившемся передо мною. Мужчина сбил меня с толку. Как я ни смотрел, я так же мало мог бы узнать румяные щечки мальчика, как и его детскую карточку. Цвет лица мистера Фрэнклина сделался бледным, а нижняя часть лица покрылась, к моему величайшему удивлению и разочарованию, кудрявой каштановой бородкой и усами. Его живая развязность была очень приятна и привлекательна, я с этим согласен, но она не могла сравниться с его прежней непринужденностью обращения. Что еще хуже, он обещал сделаться высоким и не сдержал обещания. Он был гибок, строен и хорошо сложен, но ни на крошечку не выше среднего роста. Словом, он совершенно обманул мои ожидания. Годы не оставили в нем ничего прежнего, кроме светлого, прямого взгляда. В этом я опять узнал нашего милого мальчика и этим заключил свои исследования.
— Добро пожаловать в родное местечко, мистер Фрэнклин, — сказал я. — Тем приятнее видеть вас, что вы приехали несколькими часами ранее, чем мы ожидали.
— У меня была причина приехать раньше, мистер Беттередж, — ответил мистер Фрэнклин. — Я подозревал, Беттередж, что за мной следили и подстерегали меня в Лондоне три или четыре дня, и я приехал с утренним, а не с последним поездом, потому что мне хотелось ускользнуть от одного иностранца мрачной наружности.
Слова эти чрезвычайно удивили меня. В голове моей промелькнула, как молния, мысль о трех фокусниках и о предположении Пенелопы, что они намерены нанести какой-то вред мистеру Фрэнклину Блэку.
— Кто следил за вами, сэр, и почему? — спросил я.
— Расскажите мне о трех индусах, которые были у вас сегодня, — продолжал мистер Фрэнклин, не обращая внимания на мой вопрос. — Может быть, Беттередж, мой иностранец и три фокусника окажутся друг другу сродни.
— А как вы узнали о фокусниках, сэр? — спросил я, отвечая на вопрос вопросом.
Я сознаю, что это был очень дурной тон. Но ведь вы не ожидаете многого от бедной человеческой натуры, — не ожидайте же многого и от меня.
— Я видел Пенелопу, — продолжал мистер Фрэнклин, — и она рассказала мне. Ваша дочь обещала сделаться хорошенькой, Беттередж, и сдержала свое обещание. У Пенелопы маленькие уши и маленькие ноги. Разве покойная миссис Беттередж обладала этими неоценимыми преимуществами?
— Покойная миссис Беттередж обладала множеством недостатков, сор, — сказал я. — Один из них, — если вы позволите упомянуть о нем, — состоял в том, что она никогда ничем не занималась серьезно. Она скорее походила на муху, чем на женщину, она не могла остановиться ни на чем.
— Она пришлась бы как раз по мне, — заметил мистер Фрэнклин. — Я также не останавливаюсь ни на чем, Беттередж, вы сделались еще остроумнее прежнего. Ваша дочь упомянула об этом, когда я расспрашивал ее подробно о фокусниках. «Батюшка вам все расскажет, сэр, он удивительный человек для своих лет и выражается бесподобно», — собственные слова Пенелопы; при этом она божественно покраснела. При всем моем уважении к вам я не удержался от того, чтобы… Впрочем, это пустяки; я знал ее, когда она была ребенком, и она не сделалась от этого для меня хуже. Будем говорить серьезно. Что делали тут фокусники?
Я был не совсем доволен своей дочерью, — не за то, что она позволила мистеру Фрэнклину поцеловать себя — мистеру Фрэнклину это дозволено, — но за то, что она заставила меня повторять эту глупую историю. Однако делать было нечего, пришлось снова пересказывать все обстоятельства. Веселость мистера Фрэнклина пропадала по мере того, как я говорил. Он сидел, нахмурив брови и дергая себя за бороду. Когда я кончил, он повторил два вопроса, которые главный фокусник задал мальчику, — вероятно для того, чтобы хорошенько запечатлеть их в своей памяти.
— «По этой дороге, а не по другой поедет сегодня англичанин? Имеет ли англичанин это при себе?» Я подозреваю, — сказал мистер Фрэнклин, вынимая из кармана маленький запечатанный пакет, — что это значит вот что: это , Беттередж, значит — знаменитый алмаз дяди моего Гернкастля.
— Великий боже, сэр! — вскричал я. — Как к вам попал алмаз нечестивого полковника?
— Нечестивый полковник в завещании своем отказал этот алмаз в подарок кузине моей Рэчель в день ее рождения, — ответил мистер Фрэнклин, — а мой отец, как душеприказчик нечестивого полковника, поручил мне привезти его сюда.
Если бы море, тихо плескавшееся по зыбучему песку, вдруг превратилось перед моими глазами в сушу, — сомневаюсь, удивило ли бы меня это более, чем слова мистера Фрэнклина.
— Полковник отказал алмаз мисс Рэчель? — воскликнул я. — А ваш отец, сэр, душеприказчик полковника? Ну, готов биться об заклад на что угодно, мистер Фрэнклин, что ваш отец не захотел бы дотронуться до полковника даже щипцами!
— Сильно сказано, Беттередж. Что дурного можно сказать о полковнике? Он принадлежал вашему времени, не моему. Расскажите мне, что вы знаете о нем; и я расскажу вам, как отец мой сделался его душеприказчиком, и еще кое о чем. Я сделал в Лондоне некоторые открытия по поводу моего дяди Гернкастля и его алмаза, которые кажутся мне не совсем благовидными, и я хотел бы знать, подтверждаете ли вы их. Вы назвали его сейчас «нечестивым».
Поищите-ка в вашей памяти, старый друг, и скажите мне — почему?
Видя, что он говорит серьезно, я рассказал ему все, что знал.
Вот сущность моего рассказа, приводимая здесь единственно для вас.
Будьте внимательны, а то вы совсем собьетесь с толку, когда мы зайдем подальше в этой истории. Выкиньте из головы детей, обед, новую шляпку и что бы там ни было. Постарайтесь забыть политику, лошадей, биржевой курс в Сити и неприятности в вашем клубе. Надеюсь, вы не рассердитесь на мою смелость; я пишу это только для того, чтобы возбудить ваше внимание, любезный читатель. Боже! Разве я не видел в ваших руках величайших авторов и разве я не знаю, как легко отвлекается ваше внимание, когда его просит у вас книга, а не человек?
Я упоминал выше об отце миледи, старом лорде с крутым нравом и длинным языком. У него было всего-навсего пять человек детей. Сначала два сына; потом, после довольно долгого времени жена его опять сделалась беременна, и три молодые девицы появились на свет одна за другою так скоро, как только позволила это природа; моя госпожа, как уже было упомянуто, была самая младшая и самая лучшая из трех. Из двух сыновей старший, Артур, наследовал титул и имение отца. Второй, высокородный Джон, получил прекрасное состояние, оставленное ему одним родственником, и определился на военную службу.
Дурна та птица, которая пачкает свое собственное гнездо. Я считаю благородную фамилию Гернкастлей своим гнездом и почту за милость, если мне позволят не входить в подробности о высокородном Джоне. Я глубоко убежден, что это один из величайших негодяев, когда-либо существовавших на свете.
Он начал службу с гвардейского полка. Он должен был уйти оттуда прежде, чем ему миновало двадцать два года, — умолчу, по какой причине. Слишком большая строгость в армии была не по силам высокородному Джону. Он отправился в Индию посмотреть, так же ли там строго, и понюхать пороху.
Что касается храбрости, то, надо отдать ему справедливость, он был смесью бульдога, боевого петуха и дикаря. Гернкастль участвовал во взятии Серингапатама. Вскоре после этого он перешел в другой полк, а впоследствии и в третий. Тут он был произведен в полковники, получил солнечный удар и воротился в Англию.
Он приехал с такой репутацией, что перед ним заперлись двери всех его родных; миледи (только что вышедшая замуж) первая объявила (с согласия своего мужа), что ее брат никогда не войдет к ней в дом. Запятнанная репутация полковника заставляла людей избегать его; но мне надо здесь упомянуть только об одном пятне, связанном с алмазом.
Говорят, что он, несмотря на свою смелость, никому не признавался, каким путем завладел этой индийской драгоценностью. Он никогда не пытался продать алмаз, — не нуждаясь в деньгах и (опять надо отдать ему справедливость) не дорожа ими. Он никому его не дарил и не показывал ни одной живой душе. Одни говорили, будто он опасается, как бы это не навлекло на него неприятности от начальства; другие (не знавшие натуру этого человека) утверждали, что, если он покажет алмаз, это может стоить ему жизни.
В последних слухах, может статься, и есть доля правды. Было бы несправедливо назвать его трусом, но это факт, что жизнь его два раза подвергалась опасности в Индии, и все твердо были убеждены, что Лунный камень тому причиной. Когда полковник вернулся в Англию и все начали его избегать, это опять-таки было приписано Лунному камню. Тайна жизни полковника мешала ему во всем, она изгнала его из среды соотечественников.
Мужчины не пускали его в свои клубы; женщины (а их было немало), на которых он хотел жениться, отказывали ему; друзья и родственники вдруг делались близоруки, встречаясь с ним на улице.
Другие в таких затруднительных обстоятельствах постарались бы оправдаться перед светом. Но уступить, даже когда он не прав и когда все общество восстало против него, было не в привычках высокородного Джона. Он держал при себе алмаз в Индии, желая показать, что не боится быть убитым.
Он оставил при себе алмаз в Англии, желая показать, что презирает общественное мнение. Вот вам портрет этого человека, как на полотне: характер, шедший всему наперекор, и лицо хотя красивое, но с дьявольским выражением.
Время от времени до нас доходили о нем самые различные слухи.
Рассказывали, будто он стал курить опиум и собирать старые книги; будто он производит какие-то странные химические опыты; будто он пьянствует и веселится с самыми низкими людьми в самых низких лондонских трущобах. Как бы то ни было, полковник вел уединенную, порочную, таинственную жизнь; один раз, — только один раз, — после его возвращения в Англию, я сам видел его лицом к лицу.
Года за два до того времени, о котором я теперь пишу, и года за полтора до своей смерти полковник неожиданно приехал в дом к миледи в Лондоне. Это было в день рождения мисс Рэчель, двадцать первого толя, и в честь этого дня, по обыкновению, собирались гости. Лакей пришел сказать мне, что какой-то господин желает меня видеть.
Войдя в переднюю, я нашел полковника, похудевшего, состарившегося, изнуренного и оборванного, по по-прежнему дерзкого и злого.
— Ступайте к моей сестре, — сказал он, — и доложите, что я приехал пожелать моей племяннице много раз счастливо встретить этот день.
Он уже несколько раз пытался письменно примириться с миледи, — только для того (я твердо в этом убежден), чтобы сделать ей неприятность. Но к нам в дом он приехал в первый раз. Меня подмывало сказать ему, что у миледи гости. Но дьявольское выражение его лица испугало меня. Я пошел передать его поручение и, по собственному его желанию, оставил полковника издать ответа в передней. Слуги таращили на него глаза, стоя поодаль, как будто он был ходячей разрушительной машиной, начиненной порохом и ядрами, каждую минуту способной произвести взрыв.
Миледи также обладает — крошечку, не более — фамильной горячностью.
— Скажите полковнику Гернкастлю, — сказала она, когда я передал ей поручение ее брата, — что мисс Вериндер занята, а я не хочу его видеть.
Я старался уговорить миледи дать ответ повежливее, зная, что полковник не поклонник той сдержанности, которой вообще подчиняются джентльмены.
Совершенно бесполезно. Фамильная горячность тотчас обратилась на меня.
— Когда мне нужен ваш совет, — сказала миледи, — вы знаете, что я сама спрашиваю его. Теперь я вас не спрашиваю.
Я пошел вниз с этим поручением, взяв на себя смелость передать его в новом и исправленном виде.
— Миледи и мисс Рэчель сожалеют, что они заняты, полковник, — сказал я, — и просят извинить за то, что они не будут иметь чести видеть вас.
Я ожидал от него вспышки даже при той вежливости, с какою я передал ответ миледи. К удивлению моему, ничего подобного не случилось: полковник испугал меня, приняв это с неестественным спокойствием. Глаза его, серые, блестящие, с минуту были устремлены на меня; он засмеялся, не громко, как другие люди, а про себя, тихо и страшно зло.
— Благодарю вас, Беттередж, — сказал он, — я буду помнить день рождения моей племянницы.
С этими словами он повернулся и вышел из дома.
Когда через год снова наступил день рождения мисс Рэчель, мы услышали, что полковник болен и лежит в постели. Полгода спустя — то есть за полгода до того времени, о котором я теперь пишу, — миледи получила письмо от одного весьма уважаемого пастора. Оно сообщало ей о двух удивительных семейных новостях. Во-первых, о том, что полковник все простил своей сестре на смертном одре; во-вторых, о том, что простил он и всем другим и принял весьма назидательную кончину. Я сам (несмотря на епископов и пасторов) имею нелицемерное уважение к церкви, но я убежден, что высокородный Джон постоянно находился во власти дьявола и что последний гнусный поступок в жизни этого гнусного человека состоял в том (с позволения вашего сказать), что он обманул священника.
Вот сущность моего рассказа мистеру Фрэнклину. Я заметил, что он слушает все более внимательно по мере продолжения рассказа и что сообщение о том, как сестра не приняла полковника в день рождения его племянницы, по-видимому, поразило мистера Фрэнклина, словно выстрел, попавший в цель.
Хотя он в этом и не сознался, я увидел довольно ясно по его лицу, как это растревожило его.
— Вы рассказали все, что знали, Беттередж, — заметил он. — Теперь моя очередь. Но прежде чем рассказать вам, какие открытия я сделал в Лондоне и каким образом был замешан в это дело с алмазом, мне хочется знать следующее. По вашему лицу видно, мой старый друг, что вы как будто не совсем понимаете, какова цель нашего совещания. Обманывает ли меня ваше лицо?
— Нет, сэр, — ответил я. — Мое лицо, по крайней мере в данном случае, говорит правду.
— Ну, так я постараюсь, — сказал мистер Фрэнклин, — убедить вас разделить мою точку зрения, прежде чем мы пойдем далее. Три очень серьезных вопроса связаны с подарком полковника ко дню рождения моей кузины Рэчель. Слушайте меня внимательно, Беттередж, и пересчитывайте по пальцам, если это поможет вам, — сказал мистер Фрэнклин, находя некоторое удовольствие в показе своей собственной дальновидности, что хорошо напомнило мне те прежние времена, когда он был мальчиком. — Вопрос первый: был ли алмаз полковника предметом заговора в Индии? Вопрос второй: последовал ли заговор за алмазом полковника в Англию? Вопрос третий: знал ли полковник, что заговор последовал за алмазом, и не с умыслом ли оставил он в наследство неприятности и опасность своей сестре через ее невинную дочь? Вот что хочу я узнать, Беттередж. Не пугайтесь!
Хорошо ему было предупреждать меня, когда я уже перепугался.
Если он прав, в наш спокойный английский дом вдруг ворвался дьявольский индийский алмаз, а за ним заговор живых мошенников, спущенных на нас мщением мертвеца. Вот каково было наше положение, открывшееся мне в последних словах мистера Фрэнклина! Слыхано ли что-нибудь подобное — в девятнадцатом столетии, заметьте, в век прогресса, в стране, пользующейся благами британской конституции! Никто никогда не слыхал ничего подобного, а следовательно, никто не может этому поверить. Тем не менее буду продолжать мой рассказ.
Когда вы вдруг испугаетесь до такой степени, как испугался я, этот испуг почти неминуемо скажется на вашем желудке, и внимание ваше отвлечется, вы начнете вертеться. Я молча заерзал, сидя на песке. Мистер Фрэнклин приметил, как я боролся со встревоженным желудком — или духом, если хотите, а это одно и то же, — и, остановившись именно в ту минуту, когда он уже готов был начать свой рассказ, спросил меня резко:
— Что такое с вами?
Что такое было со мной? Ему я не сказал, а вам скажу по секрету. Мне захотелось закурить трубку и почитать «Робинзона Крузо».
Глава 6
Оставив при себе свои чувства, я почтительно попросил мистера Фрэнклина продолжать. Мистер Фрэнклин ответил: «Не вертитесь, Беттередж!» и продолжал.
Первые слова нашего молодого джентльмена разъяснили мне, что открытие, относящееся к нечестивому полковнику и к алмазу, он сделал (прежде чем приехать к нам) при посещении стряпчего своего отца в Хэмпстеде. Мистер Фрэнклин случайно проговорился ему, когда они сидели вдвоем после обеда, что отец поручил ему отвезти мисс Рэчель подарок ко дню ее рождения. Слово за слово — беседа кончилась тем, что стряпчий открыл мистеру Фрэнклину, в чем состоял этот подарок и как возникли дружеские отношения между покойным полковником и мистером Блэком-старшим. Обстоятельства эти так необыкновенны, что я сомневаюсь, способен ли передать их своим языком.
Предпочитаю изложить открытие мистера Фрэнклина его собственными словами.
— Вы помните то время, Беттередж, — сказал он, — когда отец мой пытался доказать свои права на это несчастное герцогство? Как раз в это самое время и возвратился из Индии дядя Гернкастль. Отец мой узнал, что у него есть какие-то бумаги, которые могут быть полезны для его процесса. Он поехал к полковнику под предлогом поздравить его с приездом в Англию. Но полковника не так-то легко было провести подобным образом. «Вам что-то от меня нужно, — сказал он, — иначе вы не решились бы рисковать своей репутацией, приехав ко мне». Отец мой понял, что ему больше ничего не остается, как откровенно признаться во всем; он тотчас сознался, что ему нужны бумаги. Полковник просил дать ему день на размышление. Ответ его пришел в виде чрезвычайно странного письма, которое приятель мой, стряпчий, показал мне. Полковник начал с того, что он сам имеет надобность в моем отце и предлагает ему дружескую услугу за услугу. Случайности войны (его собственное выражение!) сделали его обладателем одного из самых больших алмазов на свете, и он имеет основание думать, что ни сам он, ни его драгоценный камень не будут в безопасности ни в одном доме, ни в одной части света, если он оставит этот камень при себе. При таких рискованных обстоятельствах он решился отдать алмаз на хранение другому человеку. Этот человек лично не подвергается никакому риску. Он может отдать драгоценный камень на хранение в любое место — как, например, банкиру или ювелиру, у которых есть особая кладовая для хранения драгоценностей. Его личная ответственность в этом деле будет пассивного свойства. Он будет получать — или сам, или через надежного поверенного — по заранее условленному адресу, в заранее условленные дни, каждый год письмо от полковника с простым извещением, что тот еще жив. В случае если письмо не будет получено в условленный день, молчание полковника может служить верным признаком того, что он убит. В таком случае, но не иначе, определенные инструкции относительно распоряжения алмазом, запечатанные и хранящиеся вместе с ним, должны быть вскрыты и безусловно исполнены. Если отец мой согласится принять это странное поручение, то бумаги полковника будут отданы в его распоряжение. Вот что заключалось в письме.
— Что же сделал ваш отец, сэр? — спросил я.
— Что он сделал? — повторил мистер Фрэнклин. — Я вам скажу, что он сделал. Он применил отменную способность, называемую здравым смыслом, к оценке письма полковника. Он объявил, что все это — чистейший вздор.
Где-то в своих странствованиях по Индии полковник подцепил какое-нибудь дрянное стеклышко, которое принял за алмаз. Что касается опасения быть убитым и принятия предосторожностей для сохранения его жизни и этого стеклышка, то ныне девятнадцатое столетие, и каждому здравомыслящему человеку стоит только обратиться к полиции. Известно, что полковник много лет уже употреблял опиум, и если единственный способ достать драгоценные бумаги состоит в том, чтобы принять бред опиума за факт, то отец мой был вполне готов принять на себя возлагаемую на него смешную ответственность тем охотнее, что она не навлечет на него никаких хлопот. Алмаз и запечатанные инструкции были отданы в кладовую банкира, а письма полковника, периодически сообщавшие, что он жив, получались и распечатывались стряпчим нашего семейства, мистером Бреффом, поверенным моего отца. Ни один разумный человек в подобном положении не мог бы взглянуть на это дело иначе. Нам только то и кажется вероятным, Беттередж, что согласно с нашим собственным житейским опытом, и мы верим роману только тогда, когда прочтем его в газете.
Мне стало ясно, что сам мистер Фрэнклин считает мнение своего отца о полковнике опрометчивым и ошибочным.
— А каково ваше мнение об этом деле, сэр? — спросил я.
— Дайте прежде покончить с историей полковника, — ответил мистер Фрэнклин. — Для английского ума характерно отсутствие системы, и ваш вопрос, мой старый друг, служит этому примером. Когда мы перестаем делать машины, мы (в умственном отношении) самый неряшливый народ во всей вселенной!
«Вот оно, заграничное-то воспитание! — подумал я. — Он, должно быть, во Франции научился подтрунивать над собственной нацией».
Между тем мистер Фрэнклин опять взялся за прерванную нить рассказа и продолжал:
— Отец мой получил нужные бумаги и с той поры не видел более своего шурина. Каждый год в заранее условленные дни заранее условленное письмо получалось от полковника и распечатывалось стряпчим Бреффом. Я видел целую кучу этих писем. Все они состояли из одной и той же краткой деловой фразы:
"Сэр, это убедит вас в том, что я еще жив, пусть алмаз остается там же.
Джон Гернкастль". Вот все, что он писал, и приходило это аккуратно к назначенному дню. Но шесть или восемь месяцев тому назад форма письма изменилась в первый раз. Теперь там стояло: "Сэр, говорят, что я умираю.
Приезжайте ко мне и помогите мне составить завещание". Стряпчий Брефф поехал и нашел полковника в маленькой пригородной вилле, с прилегающими к ней землями, где полковник жил один с тех пор, как оставил Индию. Он держал собак, кошек и птиц для компании, но с ним не было ни единого человеческого существа, кроме приходящей служанки для присмотра за хозяйством и доктора. Завещание оказалось очень простым. Полковник истратил большую часть своего состояния на химические опыты. Его завещание начиналось и кончалось тремя пунктами, которые он продиктовал в постели при полном обладании своими умственными способностями. В первом пункте он обеспечивал содержание и уход за своими животными. Вторым пунктом основывалась кафедра экспериментальной химии в одном из северных университетов. В третьем полковник завещал Лунный камень, как подарок ко дню рождения, своей племяннице, с условием, чтобы мой отец был его душеприказчиком. Отец начал было отказываться. Но, подумав немного, уступил: отчасти из-за уверенности, что обязанность душеприказчика не доставит ему никаких хлопот, отчасти из-за намека стряпчего, сделанного им в интересах Рэчель, — что алмаз все-таки может чего-нибудь стоить.
— Полковник не сказал, сэр, — спросил я, — по какой причине он завещал алмаз мисс Рэчель?
— Он не только сказал, но и написал эту причину в своем завещании, — ответил мистер Фрэнклин. — Я взял себе выписку, которую вы сейчас увидите.
Не спешите, Беттередж! Все должно идти по порядку. Вы слышали о завещании полковника, теперь вы должны услышать, что случилось после его смерти.
Формальности потребовали, чтобы алмаз был оценен прежде, чем будет предъявлено завещание. Все ювелиры, к которым для этого обратились, тотчас подтвердили заявление полковника, что это самый большой алмаз на свете.
Вопрос о точной оценке представил довольно серьезные затруднения. Величина камня сделала его феноменом между алмазами, цвет поставил его в категорию совершенно особую, и вдобавок к этим сбивчивым фактам в нем оказался недостаток — в виде пятна в самой середине камня. Даже с таким недостатком самая низкая оценка алмаза равнялась двадцати тысячам фунтов. Представьте себе удивление моего отца: он чуть было не отказался от обязанности душеприказчика, чуть было не выпустил из нашей семьи эту великолепную драгоценность! Интерес, возбужденный в нем этим делом, побудил его вскрыть запечатанные инструкции, хранившиеся вместе с алмазом. Стряпчий показал мне эти инструкции вместе с другими бумагами, и, по моему мнению, они дают ключ к заговору, угрожавшему жизни полковника.
— Стало быть, вы думаете, сэр, — сказал я, — что заговор имел место?
— Не обладая отменным «здравым смыслом» моего отца, — ответил мистер Фрэнклин, — я думаю, что жизнь полковника действительно находилась в опасности, как он и говорил. Запечатанная инструкция объясняет, отчего он все-таки умер спокойно в своей постели. В случае его насильственной смерти (то есть в случае, если бы от него не было получено условленное письмо в назначенный день), отец мой должен был секретно отправить Лунный камень в Амстердам и отдать знаменитому резчику, чтобы разбить на четыре или шесть отдельных камней. Камни эти продать за любую цену, а вырученные деньги употребить на основание той кафедры экспериментальной химии, о которой потом полковник упомянул в своем завещании. Теперь, Беттередж, напрягите-ка свой находчивый ум и сообразите, к какому заключению приводят указания полковника?
Я тотчас навострил свой ум. Но ему была свойственна английская медлительность, и он все перепутал, пока мистер Фрэнклин не указал на то, что именно следовало видеть.
— Заметьте, — сказал мистер Фрэнклин, — что ценность бриллианта была искусно поставлена в зависимость от сохранения жизни полковника. Он не удовольствовался тем, что сказал врагам, которых опасался: «Убейте меня — и вы будете не ближе к алмазу, чем сейчас. Он там, откуда вы не можете его достать, — в кладовой банкира». Он сказал вместо этого: «Убейте меня — и алмаз перестанет быть алмазом: его тождество уничтожится». О чем это говорит?
Тут, как мне показалось, меня озарила вспышка чудесной прозорливости, свойственной иностранцам.
— Знаю, — сказал я. — Это значит, что цена камня понизится и злодеи останутся в дураках.
— Ничуть не бывало! — сказал мистер Фрэнклин. — Я об этом справлялся.
Алмаз с пятном, разбитый на отдельные камни, будет стоить дороже, чем целый, по той простой причине, что четыре или шесть прекрасных бриллиантов должны стоить дороже, чем один большой камень, но с пятном. Если бы простое воровство из-за прибыли было целью заговора, инструкции полковника решительно сделали бы алмаз еще привлекательней для воров. За него можно было бы получить больше денег, а продать его гораздо легче, если б он вышел из рук амстердамских мастеров.
— Господи помилуй, сэр! — воскликнул я. — В чем же состоял заговор?
— Заговор, составленный индусами, которым прежде принадлежал алмаз, — сказал мистер Фрэнклин, — основан на каком-то древнем индийском суеверии.
Таково мое мнение, подтвержденное одним фамильным документом, который находится при мне в настоящую минуту.
Теперь я понял, почему появление трех индийских фокусников у нашего дома показалось мистеру Фрэнклину обстоятельством, достойным внимания.
— Я не хочу навязывать вам своего мнения, — продолжал мистер Фрэнклин.
— Мысль об избранных служителях древнего индийского суеверия, посвятивших себя, несмотря на все затруднения и опасности, задаче возвратить священную национальную драгоценность и выжидающих для этого первого удобного случая, кажется мне совершенно согласною с тем, что нам известно о терпении восточных племен и о влиянии восточных религий. Я человек с живым воображением, и мясник, булочник и налоговой инспектор не кажутся мне единственной правдоподобной реальностью. Пусть же моя догадка оценивается как угодно; перейдем к единственному практическому вопросу, касающемуся нас. Переживет ли полковника заговор о Лунном камне? И знал ли полковник об этом, когда оставлял своей племяннице подарок ко дню ее рождения?
Я начинал понимать, что дело это ближе всего касается теперь миледи и мисс Рэчель. Ни одно слово, сказанное мистером Фрэнклином, теперь не ускользнуло от меня.
— Мне не очень хотелось, когда я узнал историю Лунного камня, — продолжал он, — привозить его сюда, но мистер Брефф напомнил мне, что кто-нибудь должен же передать моей кузине наследство дяди и что я могу сделать это точно так же, как и всякий другой. Когда я взял алмаз из банка, мне показалось, что за мной следит на улице какой-то оборванный смуглый человек. Я отправился к отцу за своими вещами и нашел там письмо, неожиданно удержавшее меня в Лондоне. Я вернулся в банк с алмазом и опять увидел этого оборванного человека. Снова забирая алмаз из банка сегодня утром, я встретил этого человека в третий раз, ускользнул от него и уехал (прежде чем он успел напасть на мой след) с утренним, вместо послеобеденного, поездом. Вот я здесь с алмазом, и мы оба в целости и сохранности. И какую же первую новость я слышу? Я слышу, что здесь были три странствующих индуса и что мой приезд из Лондона и то, что я должен иметь при себе, были главным предметом их разговора в то время, когда они думали, что они одни. Не стану терять время на рассказ о том, как они выливали чернила в ладонь мальчика и приказывали ему увидеть вдали человека. Штука эта, которую я часто видел на Востоке, и по моему мнению, и по вашему, не более как фокус. Вопрос, который мы теперь должны решить, состоит в том, не приписываю ли я ошибочно большое значение простой случайности, или мы действительно имеем доказательство, что индусы напали на след Лунного камня с той минуты, как он взят из банка?
Но ни он, ни я, казалось, не были расположены заниматься этим исследованием. Мы посмотрели друг на друга, потом на прилив, все выше и выше покрывавший Зыбучие пески.
— О чем вы думаете? — вдруг спросил мистер Фрэнклин.
— Я думаю, сэр, — ответил я, — что мне хотелось бы зарыть алмаз в зыбучий песок и решить этим вопрос раз и навсегда.
— Если вы имеете у себя в кармане стоимость Лунного камня, — ответил мистер Фрэнклин, — объявите это, Беттередж, и дело с концом!
Любопытно заметить, как облегчает вас самая пустая шутка, когда у вас неспокойно на душе. Нам показалась очень забавной мысль покончить с законной собственностью мисс Рэчель и ввести мистера Блэка, как душеприказчика, в страшные хлопоты, хотя теперь я не могу понять, что тут было смешного.
Мистер Фрэнклин первый снова вернулся к предмету разговора. Он вынул из кармана конверт, вскрыл его и подал мне лежавшую там бумагу.
— Беттередж, — сказал он, — мы должны в интересах тетушки обсудить вопрос о том, какая причина заставила полковника оставить это наследство своей племяннице. Припомните обращение леди Вериндер со своим братом с того самого времени, как он вернулся в Англию, и до той минуты, когда он сказал вам, что будет помнить день рождения племянницы. И прочтите это.
Он дал мне выписку из завещания полковника. Она при мне, когда я пишу эти строки, и я ее списываю сюда для вас:
«В-третьих и в последних, дарю и завещаю моей племяннице, Рэчель Вериндер, единственной дочери сестры моей Джулии Вериндер, вдовы, — в том случае, если ее мать, названная Джулия Вериндер, будет жива после моей смерти, — желтый алмаз, принадлежащий мне и известный на Востоке под названием Лунного камня. И поручаю моему душеприказчику отдать алмаз или самому, или через какого-нибудь надежного посредника, которого он выберет, в собственные руки вышеупомянутой племянницы моей Рэчель, в первый же день ее рождения после моей смерти и в присутствии, если возможно, моей сестры, вышеупомянутой Джулии Вериндер. И я желаю, чтобы вышеупомянутой сестре моей был сообщен посредством верной копии третий и последний пункт моего завещания, что я дарю алмаз дочери ее Рэчель в знак моего полного прощения за тот вред, который ее поступки причинили моей репутации, а особенно в доказательство, что я прощаю, как и следует умирающему, оскорбление, нанесенное мне как офицеру и джентльмену, когда ее слуга, по ее приказанию, не пустил меня к ней в день рождения ее дочери».
Я возвратил бумагу мистеру Фрэнклину, решительно недоумевая, что ему ответить. До этой минуты я думал, как вам известно, что полковник умер так же нечестиво, как и жил. Не скажу, чтобы копия с этого завещания заставила меня переменить это мнение; скажу только, что она поколебала меня.
— Ну, — спросил мистер Фрэнклин, — теперь, когда вы прочли собственные слова полковника, что вы на это скажете? Привезя Лунный камень к тетушке в дом, служу я слепо его мщению или оправдываю его, как раскаявшегося христианина?
— Тяжело представить себе, сэр, — ответил я, — что он умер с гнусным мщением в сердце и с гнусным обманом на устах. Одному богу известна правда. Меня не спрашивайте.
Мистер Фрэнклин вертел и комкал в руках выписку из завещания, как будто надеясь выжать из нее таким образом истину. В то же время он поразительно изменился. Из живого и веселого он сделался теперь, непонятно как, тихим, торжественным, задумчивым молодым человеком.
— Этот вопрос имеет две стороны, — сказал он:
— объективную и субъективную. Которую нам предпочесть?
Он получил не только французское, но и немецкое воспитание. До сих пор он находился под влиянием, как я полагал, первого из них. А теперь (насколько я мог разобрать) его место заступило второе. Одно из правил моей жизни: никогда не примечать того, чего я не понимаю. Я выбрал среднее между объективной и субъективной стороной. Говоря попросту, я вытаращил глаза и не сказал ни слова.
— Извлечем сокровенный смысл из всего этого, — сказал мистер Фрэнклин.
— Почему дядя отказал алмаз Рэчель? Почему не отказал он его тетушке?
— Это, по крайней мере, отгадать не трудно, сэр, — ответил я. — Полковник Гернкастль знал хорошо, что миледи не захочет принять никакого наследства от него.
— Но почему он знал, что Рэчель не откажется также?
— Есть ли на свете молодая девушка, сэр, которая могла бы устоять от искушения принять такой подарок, как Лунный камень?
— Это субъективная точка зрения, — сказал мистер Фрэнклин. — Вам делает большую честь, Беттередж, что вы способны на субъективную точку зрения. Но в завещании полковника есть еще другая тайна, до сих пор не объясненная: почему он дарит свой камень Рэчель в день ее рождения лишь при том необходимом условии, чтобы мать ее была в живых?
— Я не желаю порочить покойника, сэр, — ответил я, — но если он с умыслом оставил в наследство сестре хлопоты и опасность через ее дочь, то непременным условием этого наследства должно было быть, чтобы сестра его находилась в живых, дабы почувствовать всю неприятность этого.
— О! Так вот какие вы приписываете ему намерения! Это опять-таки субъективное истолкование! Бывали вы в Германии, Беттередж?
— Нет, сэр. А ваше истолкование, позвольте узнать?
— Мне кажется, — сказал мистер Фрэнклин, — что цель полковника, может быть, состояла не в том, чтобы принести пользу племяннице, которую он даже никогда не видел, но чтобы доказать сестре, что он простил ее, и доказать очень любезно, посредством подарка, сделанного ее дочери. Это совершенно другое объяснение по сравнению с вашим, Беттередж, и оно внушено объективной точкой зрения. По всему видно, что одно истолкование может быть так же справедливо, как и другое.
Доведя дело до этого приятного и успокоительного вывода, мистер Фрэнклин, по-видимому, решил, что он исполнил все, что от него требовалось. Он бросился навзничь на песок и спросил, что же ему теперь делать.
Он выказал себя таким умным и дальновидным, прежде чем пуститься в заграничную тарабарщину, и все время до такой степени первенствовал надо мной в этом деле, что я совершенно не был готов к внезапной перемене, когда он, сложив оружие, вдруг обратился за помощью ко мне. Только впоследствии узнал я от мисс Рэчель, — первой, кто сделал это открытие, — что странные перемены и переходы в мистере Фрэнклине происходили от его заграничного воспитания. В том возрасте, когда мы все способны принимать нашу окраску как отражение окраски других людей, его послали за границу, и он переходил от одной нации к другой, прежде чем настала пора для того, чтобы какой-нибудь один преимущественный колорит установился на нем твердо. Вследствие этого он воротился с такими различными сторонами в своем характере, более или менее неоконченными и более или менее противоречащими одна другой, что как будто проводил жизнь в постоянном несогласии с самим собой. Он мог быть и деловым человеком и лентяем, со сбивчивым и с ясным умом, образцом решимости и беспомощности в одно и то же время. У него была и французская, и немецкая, и итальянская сторона; первоначальный, английский фундамент выказывался иногда, как бы говоря:
«Вот я жалко исковеркан, как вы видите, но кое в чем я остался самим собой». Мисс Рэчель обыкновенно говорила, что итальянская сторона одерживала верх в тех случаях, когда он неожиданно сдавал и просил вас со своей милой кротостью снять с него ответственность и возложить на свои плечи. Вы не будете к нему несправедливы, я полагаю, если заключите, что итальянская сторона одержала верх и теперь.
— Вам самим следует решить, сэр, — сказал я, — что теперь делать; уж конечно, не мне.
Мистер Фрэнклин, по-видимому, не оценил всей силы моих слов, — в то время он был в таком состоянии, что не мог видеть ничего, кроме неба над своей головой.
— Я не желаю пугать тетушку без причины, — сказал он, — но и не желаю оставлять ее без надлежащего предостережения. Если бы на моем месте были вы, Беттередж, — скажите мне в двух словах, что бы сделали вы?
Я сказал ему в двух словах:
— Подождал бы.
— Готов от всего сердца, — сказал мистер Фрэнклин. — Долго ли?
Я начал объяснять свою мысль.
— Как я понимаю, сэр, — сказал я, — кто-нибудь должен же отдать этот проклятый алмаз мисс Рэчель в день ее рождения, и вы можете сделать это точно так же, как всякий другой. Очень хорошо. Сегодня двадцать пятое мая, а день рождения двадцать первого июня. Перед нами почти четыре недели.
Подождем и посмотрим, что случится за это время, и либо предостережем миледи, либо нет — в зависимости от обстоятельств.
— Прекрасно, Беттередж, — воскликнул мистер Фрэнклин. — Но что нам делать с алмазом до дня рождения?
— То же, что сделал ваш отец, сэр, — ответил я. — Отец ваш сдал его в банк в Лондоне, а вы отдайте его в банк во Фризинголле.
Фризинголл — наш ближайший город, и банк его так же надежен, как Английский банк.
— Будь я на вашем месте, сэр, — прибавил я, — я прямо отправился бы верхом с алмазом во Фризинголл, прежде чем дамы вернутся.
Возможность предпринять что-нибудь, да еще верхом, заставила мистера Фрэнклина мигом вскочить на ноги. Он вскочил и бесцеремонно заставил встать и меня.
— Беттередж, вы золото, а не человек! — сказал он. — Пойдем, и велите тотчас же оседлать самую лучшую лошадь в конюшне.
Тут, слава богу, английский фундамент проступил наконец сквозь весь заграничный лоск! Это был тот же мистер Фрэнклин, которого я помнил, оживившийся по-прежнему при мысли о поездке верхом и напомнивший мне доброе старое время. Оседлать для пего лошадь? Я оседлал бы ему двенадцать лошадей, если бы только он мог поскакать на всех разом!
Мы поспешно возвратились домой, поспешно велели оседлать самую быстроногую лошадь из всей конюшни, и мистер Фрэнклин поспешно ускакал отдать в кладовую банка проклятый алмаз. Когда затих стук копыт его лошади в аллее и я опять остался один, я почти готов был спросить себя, не привиделось ли мне все это во сне.
Глава 7
Пока я находился в такой растерянности, чрезвычайно нуждаясь в чем-нибудь успокоительном для приведения в порядок своих чувств, дочь моя Пенелопа попалась мне навстречу, точь-в-точь как ее покойная мать попадалась мне на лестнице, и тотчас пристала ко мне с расспросами. Я рассказал ей о своей встрече с мистером Фрэнклином. При настоящих обстоятельствах оставалось только одно — тотчас же прихлопнуть гасильником любопытство Пенелопы. Я ответил ей, что мы с мистером Фрэнклином толковали об иностранной политике и договорились до того, что оба крепко заснули на солнце. Попробуйте дать этот ответ, когда жена или дочь пристанут к вам с неуместным вопросом, и будьте уверены, что, по природной женской кротости, они расцелуют вас и опять станут приставать при первом же удобном случае.
День прошел, и миледи с мисс Рэчель вернулись.
Бесполезно говорить, как они удивились, когда услыхали, что мистер Фрэнклин Блэк приезжал и опять уехал верхом. Бесполезно также говорить, что они тотчас задали неуместные вопросы и что «иностранная политика» и крепкий сон на солнце не годились для них . Не придумав ничего другого, я сказал, что приезд мистера Фрэнклина с ранним поездом надо единственно приписать одной из его причуд. Когда меня спросили, неужели отъезд его верхом был также причудой, я ответил: «Да, точно так», и отделался, кажется, очень ловко.
Преодолев затруднения с дамами, я нашел еще больше затруднений, ожидавших меня, когда вернулся в свою комнату. Пришла Пенелопа — с природной женской кротостью — поцеловать меня и — с природным женским любопытством — задать новый вопрос. На этот раз она только пожелала узнать, что случилось с нашей второй служанкой, Розанной Спирман.
Оставив мистера Фрэнклина и меня на Зыбучих песках, Розанна, как оказалось, воротилась домой в самом непонятном расположении духа. Она менялась в лице (если верить Пенелопе), как цвета радуги. Она была то весела, то грустна без всякой причины. Не переводя духа, она задала сотню вопросов о мистере Фрэнклине Блэке и тотчас же рассердилась на Пенелопу за то, что та предположила, будто посторонний джентльмен смог заинтересовать ее. Заметили, как она, улыбаясь, чертила имя мистера Фрэнклина на дне своего рабочего ящика. Застали ее в слезах, смотрящей в зеркало на свое уродливое плечо. Знала ли она прежде мистера Фрэнклина? Совершенно невозможно! Не слыхали ли они чего-нибудь друг о друге? Опять невозможно!
Я мог засвидетельствовать, что удивление мистера Фрэнклина было искренно, когда он увидел, как девушка смотрит на него. Пенелопа могла засвидетельствовать, что любопытство девушки было искренно, когда она расспрашивала о мистере Фрэнклине. Разговор наш был довольно скучен до тех пор, пока дочь моя вдруг не высказала самое нелепое предположение, какое я когда-либо слышал в своей жизни.
— Батюшка, — сказала Пенелопа совершенно серьезно, — остается только одно объяснение: Розанна влюбилась в мистера Фрэнклина Блэка с первого взгляда.
Вы слышали о прелестных молодых девицах, влюблявшихся с первого взгляда, и находили это весьма естественным. Но чтобы горничная из исправительного дома, дурная собой и с уродливым плечом, влюбилась с первого взгляда в джентльмена, приехавшего в гости к ее госпоже?! Найдите мне что-нибудь, подобное этой нелепости в любом романе, если можете. Я хохотал до слез. Пенелопа рассердилась на меня за мою веселость.
— Я прежде не замечала, чтобы вы были жестоки, батюшка, — сказала она очень кротко и ушла.
Слова моей девочки точно обдали меня холодной водой. Я взбесился на себя за то, что разволновался, когда она проговорила их, — но это было именно так. Мы переменим предмет рассказа, если вы позволите. Мне жаль, что я вынужден был написать об этом, — и не без причины, как вы увидите дальше.
Настал вечер; звонок, возвещавший, что пора одеваться к обеду, раздался прежде, чем мистер Фрэнклин возвратился из Фризинголла. Я сам отнес горячую воду к нему в комнату, ожидая услышать после этого необыкновенно продолжительного отсутствия о каком-нибудь приключении. Но, к моему великому разочарованию (вероятно, и к вашему), не случилось ничего. Он не встретился с индусами ни по пути туда, ни на обратном пути. Он отдал Лунный камень в банк, сказав просто, что это камень очень дорогой, и привез расписку в кармане. Я сошел вниз, чувствуя, что после всех наших утренних тревог об алмазе конец этот слишком обыден.
Как произошло свидание мистера Фрэнклина с теткой и кузиной, не знаю.
Я дал бы многое, чтобы служить за столом в этот день. Но при моем положении в доме служить за обедом (исключая большие семейные празднества) значило бы унизить свое достоинство в глазах других слуг, — миледи и без того считала меня довольно склонным к этому; не к чему было искать еще случая для этого. Известия из «верхних областей» в тот вечер были принесены мне Пенелопой и лакеем. Пенелопа сказала, что мисс Рэчель никогда не занималась так тщательно своей прической и никогда не казалась так весела и хороша. Лакей донес, что сохранение почтительного спокойствия в присутствии высших и прислуживание мистеру Фрэнклину Блэку за обедом — две вещи самые несовместимые, какие только случалось ему встретить при исполнении своих обязанностей. Позднее вечером мы услышали, как они играли и пели дуэты. Мистер Фрэнклин брал высоко, мисс Рэчель еще выше, а миледи на фортепиано, поспевая за ними, как на скачках, так сказать, через канавы и заборы, благополучно помогала им, так что приятно было слышать их в открытые окна на террасе. Еще позднее я отнес мистеру Фрэнклину в курительную комнату содовой воды и виски и увидел, что мисс Рэчель вытеснила алмаз из его головы.
— Самая очаровательная девушка из всех виденных мною, с тех пор как я вернулся в Англию! — Вот все, чего я мог от него добиться, покуда старался навести разговор на более серьезные предметы.
Около полуночи я вместе с моим помощником (Самюэлем, лакеем) обошел, по обыкновению, вокруг дома, чтобы запереть все двери. Когда все двери были заперты, за исключением боковой, отворявшейся на террасу, я отослал Самюэля спать, а сам вышел подышать свежим воздухом, прежде чем пойду спать в свою очередь.
Ночь была тихая и душная, и луна сияла на небе. Так было тихо, что я слышал время от времени очень слабо и глухо шум моря, когда прибой подкатывался к песчаному берегу возле устья нашей маленькой бухты. Дом стоял так, что на террасе было темно; но яркий лунный свет освещал песчаную дорожку, шедшую по другую сторону террасы. Поглядев сперва на море, а потом в ту сторону, я увидел тень человека, отбрасываемую лунным светом из-за угла дома.
Будучи стар и лукав, я не вскрикнул; но так как я также, к несчастью, стар и тяжел, ноги изменили мне на песке. Прежде чем я успел тихонько пробраться за угол, как намеревался, я услышал топот ног полегче моих — и, как мне показалось, не одной пары, — торопливо удалявшихся. Когда я дошел до угла, беглецы, кто бы они там ни были, исчезли в кустарнике по другую сторону дорожки и скрылись из глаз между густыми деревьями и кустами в той части парка. Из кустарника они могли легко пробраться через наш забор на дорогу. Будь я сорока годами моложе, я, быть может, и успел бы поймать их прежде, чем они убегут из нашего парка. Теперь же я возвратился, чтобы послать пару ног помоложе моих. Не потревожив никого, Самюэль и я взяли ружья, обошли вокруг дома и обшарили кустарники. Удостоверившись, что в наших владениях никто не прятался, мы вернулись. Пройдя через дорожку, где я видел тень, я в первый раз приметил светлую вещицу, лежавшую на песке, освещенную луной. Подняв эту вещицу, я увидел, что это была скляночка с густой, приятного запаха, жидкостью, черной, как чернила.
Я ничего не сказал Самюэлю. Но вспомнив, что Пенелопа говорила мне о фокусниках и о том, как они наливали чернила на ладонь мальчика, я тотчас догадался, что спугнул трех индусов, шатавшихся около дома и старавшихся своим языческим способом разузнать в эту ночь об алмазе.
Глава 8
Здесь на мгновение сделаем остановку.
Призвав на помощь свои воспоминания и дневник Пенелопы, я вижу, что мы можем быстро пройти промежуток между приездом мистера Фрэнклина Блэка и днем рождения мисс Рэчель. Большая часть этого времени прошла, не принеся с собой ничего, достойного упоминания. С вашего позволения и с помощью Пенелопы я упомяну здесь только о некоторых событиях, чтобы потом продолжать рассказывать историю день за днем, как только мы дойдем до того времени, когда Лунный камень сделался в нашем доме предметом всеобщего внимания.
Начну со скляночки приятно пахнущих чернил, которую я нашел на песчаной дорожке ночью.
На следующее утро (двадцать шестого числа) я показал мистеру Фрэнклину эту колдовскую штуку и сообщил ему то, что уже рассказал вам. Он решил, что индусы не только следили за алмазом, но имели глупость верить в свое колдовство, — он подразумевал под этим знаки над головою мальчика, наливание чернил на его ладонь и надежду, что ребенок увидит людей и предметы, недоступные для человеческого зрения. Мистер Фрэнклин сказал мне, что и у нас, так же как на Востоке, есть люди, занимающиеся этими странными фокусами (однако без чернил) и называющие их французским именем, чем-то вроде «ясновидения».
— Поверьте, — сказал мистер Фрэнклин, — индусы убеждены, что мы оставили алмаз здесь, и привезли с собою своего ясновидящего мальчика, чтобы он показал им дорогу к нему, как только они заберутся в дом.
— Вы полагаете, сэр, что они повторят свою попытку? — спросил я.
— Это зависит от того, что именно мальчик может сказать. Если он способен увидеть алмаз в железном сундуке фризинголлского банка, индусы до поры до времени не будут тревожить нас своими посещениями. Если он этого не сможет, у нас еще будет случай спугнуть их в кустарнике, прежде чем пройдет несколько ночей.
Я ожидал, что именно так и будет, но странное дело — случай этот действительно больше не повторился.
Услышали ли фокусники в городе, что мистера Фрэнклина видели в банке, и вывели из этого свое заключение, или мальчик действительно увидел алмаз там, где он теперь находился (чему я решительно не верю), или это было простым совпадением, только ни тени индуса не показалось возле нашего дома в те недели, которые прошли до рождения мисс Рэчель. Фокусники оставались в городе и в окрестностях, занимаясь своим ремеслом, а мистер Фрэнклин и я ждали, что будет, решив не тревожить мошенников слишком рано, выказывая им свои подозрения. Этим отчетом о поступках обеих сторон и кончается все, что я могу пока сказать об индусах.
С двадцать девятого числа мисс Рэчель и мистер Фрэнклин придумали новый способ проводить время, которое иначе им некуда было бы девать. Есть причины обратить особенное внимание на занятие, которое их увлекло, так как оно имеет отношение к случившемуся позже.
Вообще говоря, господа имеют в жизни весьма неудобный подводный камень — свою собственную праздность. Жизнь их по большей части проходит в изыскивании какого-нибудь занятия; и любопытно видеть — особенно, если у них есть вкус к чему-нибудь умственному, — как часто они слепо набрасываются на предмет прямо-таки отвратительный. В девяти случаях из десяти они принимаются или мучить кого-нибудь, или портить что-нибудь, и при этом твердо убеждены, что образовывают свой ум, тогда как, попросту сказать, они только поднимают кутерьму в доме. Я видел (с сожалением должен сказать), что и дамы, точно так же как мужчины, разгуливают изо дня в день, например, с пустыми коробочками от пилюль и ловят ящериц, жуков, пауков и лягушек, а возвращаясь домой, втыкают в несчастных булавки или режут их без малейшего угрызения совести на куски. Вы видите, как ваш барин или барыня разглядывают внутренность паука в увеличительное стекло, или вам попадается на лестнице лягушка без головы; а когда вы удивляетесь, что означает эта отвратительная жестокость, вам говорят, что молодой барин или молодая барышня имеют наклонность к естественным наукам. Иногда же опять-таки вы замечаете, как они по целым часам, из нелепого любопытства, портят прекрасные цветы острым инструментом, стараясь узнать, из чего они сделаны. Разве цвет их сделается красивее или запах приятнее оттого, что вы это узнаете? Да ведь нужно же бедняжкам провести время — видите ли — нужно же провести время! Вы пачкались в грязи и лепили из нее пирожки, когда были ребенком, а когда выросли — пачкаетесь в науках, режете пауков и портите цветы. В обоих случаях весь секрет заключается в том, что вашей бедной праздной голове не о чем думать, а вашим бедным праздным ручкам нечего делать. Тем и кончится, что вы начнете портить красками полотно да навоняете ими на весь дом; или разведете в стеклянном ящике с грязной водой головастиков, от которых всех в доме тошнит; или станете откалывать и собирать там и сям кусочки камней, посыпая ими домашнюю провизию; если займетесь фотографией, пачкая себе пальцы и беспощадно искажая физиономию всех и каждого в доме. Конечно, тяжело приходится людям, которые должны доставать себе приют, пищу и одежду, чтобы прикрыться. Но сравните самый тяжелый труд, которым вы когда-либо занимались, с тою праздностью, которая заставляет вас портить цветы и перевертывать желудки пауков, и благодарите свою счастливую звезду, что ваша голова должна о чем-нибудь думать, а ваши руки должны что-нибудь делать.
С удовольствием скажу, что мистер Фрэнклин и мисс Рэчель не мучили никого. Они ограничились тем, что наделали кутерьмы и, надо отдать им справедливость, испортили только одну дверь.
Мистер Фрэнклин, этот универсальный гений, пачкавшийся во всем, допачкался до так называемой «декоративной живописи». Он сообщил нам, что изобрел новый состав для разведения краски; как он изготовлялся, я не знаю. А чем отличался этот состав, я могу сказать вам в двух словах: он вонял. Так как мисс Рэчель непременно хотела испробовать этот новый состав, мистер Фрэнклин послал в Лондон за материалами и приготовил состав с таким букетом, что даже собаки чихали, когда входили в комнату; надел на мисс Рэчель передник и косыночку и заставил ее расписывать свою собственную маленькую гостиную, называемую, за неимением английского слова, «будуаром». Начали с внутренней стороны двери. Мистер Фрэнклин счистил с нее всю прекрасную лакировку пемзой и сделал то, что он называл «поверхностью для работы». Потом мисс Рэчель покрыла эту поверхность, по его указанию и с его помощью, узорами и фигурами — грифами, птицами, цветами, купидонами и тому подобным, с рисунков, сделанных знаменитым итальянским живописцем, имени которого я не припомню, — того самого, что поразил мир девой Марией и взял любовницу из булочной. Работа эта была самая хлопотливая и прегрязная. Но наша барышня и молодой джентльмен, казалось, не уставали заниматься ею. Когда они не ездили верхом, не принимали гостей, не сидели за столом, не пели, они рядышком, трудолюбиво, как пчелы, портили дверь. Какой это поэт сказал, что сатана всегда придумает какой-нибудь вред даже и для праздных рук? Если бы он занимал место дворецкого миледи и видел мисс Рэчель с кистью, а мистера Фрэнклина с его составом, он не мог бы написать о них ничего правдивее, нежели это.
Следующий день, о котором стоит упомянуть, было воскресенье, четвертое июня.