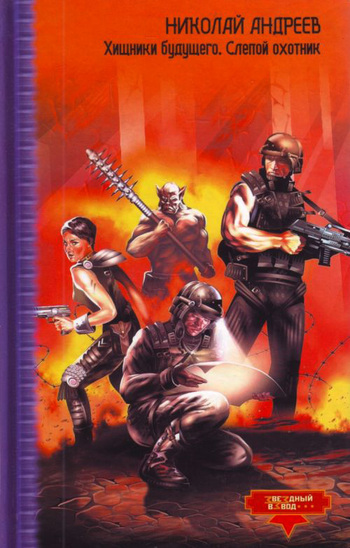Устав соколиной охоты Успенский Михаил

Пану стало туго.
– Мелентия старца знаешь?
– Ниць не вем. То пан гетман пжислал меня до Россыи.
– Зачем?
– Стжелить пана Романова.
– Вот изверг! – искренне возмутился Авдей, а ведь забыл, для чего его самого-то наладил сюда старец-еретик.
– А что ж не стрелял?
– Порох подмок…
Грянул выстрел. Видно, там порох не подмок.
– До ног, хлопы! – вскричал пан Дмоховский. – То стжеляе пан Големба!
Авдей прикинул, откуда стрелено, и побежал туда.
– Ано ж, схизматику! – радовался Дмоховский. – Пан Големба – то наша первша шаблюка!
Мымрин оставался спокоен.
– Первша шаблюка, – плюнул он. – Была…
В кустах затрещало. Впервой Васька видел, чтобы Авдей не тащил пойманного под мышкой, а вел. Пана Голембу было бы трудно нести. У него одни усы были в локоть длиной. Авдей завязал мушкетный ствол вокруг шеи пана Голембы и за этот поводок привел. Паны не по-хорошему поглядели друг на друга, и снова послышалось и «пся крев», и «лайдак», и другие грубости, пока Авдей пинками не призвал панов ко взаимной жечности, сиречь вежливости.
Теми же пинками он погнал их в сторону Москвы. Васька шел сзади и думал, что вот надо же – сколько ни хватай, ни имай безвинный народишко для показа верной службы, когда-то и доподлинный вражина попадется!
…Ежели впервые увидать ката Ефимку, можно диву даться: то ли Ефимка маленький, то ли кнут у него большой. Кнут у него нормальный, обычный, это сам Ефимка недомерок. Да тем и страшнее: поглядишь на него и неволей задумаешься, за какие такие доблести взяли этакую пигалицу в каты? И мороз по спине пробежит…
– Здорово, Ефимушка! – хором грянули соколы, загоняя панов в пыточную. Они сразу сообразили, что с такими панами в приказ показаться не стыдно.
– Здорово и вам, соколики, – пропищал кат. – По сколько вам сегодня государь-батюшка назначил?
Ефимке не привыкать было пороть соколов, особенно в последнее время, вот он и спросил для порядка.
– Нет, не видать тебе нынче наших спинушек! – гордо сказал Мымрин. – Тут слово и дело государево! А это кто у тебя сидит в углу?
Ефимка был говорун.
– А это, – сказал кат, – мордвин Кирдяпа Арсенкин. Сидел Кирдяпа в кружале с шорником, Орехом Сидельниковым. Орех тот ему и скажи: ноги-де у тебя, Кирдяпа, кривые. Тогда Кирдяпа ногу на стол и говорит: «У меня-де нога лучше, чем у государя-царя и великого князя Алексея Михайловича!» Ну, шорник объявил «слово и дело», стрельцы обоих сюда сволокли. И за те поносные слова велено ему, Кирдяпе, отрубить воровскую его ногу!
Соколы захохотали. Человечек в углу вздрогнул и сжался.
– А шорнику награда вышла? – ревниво поинтересовался Мымрин. Не любил он, когда кого-нибудь, кроме него, за донос награждали.
– Орех-то Сидельников? – спросил Ефимка. – Так он у меня еще утресь на дыбе помер, не выдюжил. Доводчику первый кнут!
Соколы еще посмеялись, выпили маленько с Ефимкой и тогда перешли к делу.
– Видишь, Ефимушка, – сказал Васька, – какие у нас тут важные паны-ляхи? Ты бы поспрашивал их как следует, что они нынче утром на Телятиной речке делали? Да пусть Возгря их расспросные речи в точности пишет!
Ефимка так поглядел на панов, что они сами бросились, толкая друг дружку, к писарю Возгре и наперебой начали признаваться, сваливая все друг на друга и на гетмана Сапегу.
– Вон тот усатый, – ткнул Ефимка в пана Голембу, – для дыбы в самый раз. А вон тот носатый, – он ткнул в остального пана, – под кнутом хорош будет…
– Тятенька, – запищал кто-то еще тоньше, чем Ефимка, – Носатому-то еще в ноздри жженой пакли ладно было бы!
– Дело говорит малютка, – обрадовался кат. Из-под стола вылез малец лет пяти, вылитый Ефимка, но без бороды. А все равно, хоть и малец, глядеть на него страх брал. В ручонке малютка держал ладненький кнутик.
– Сынок мой, Истомушка, – похвастался Ефимка. – Пройдет время, и мой срок исполнится: рука ослабнет, глаз завянет. И передам я Истоме Ефимычу кнут этот, яко скиптр…
Запала тишина. Ефимка сообразил, что сказал не к делу.
– Ну-ка, ну-ка, – сказал Мымрин. – Какой такой скиптр? Ты что, себя, ката, с государем равняешь? Да государь не знает, с какого конца за кнут берутся! А вот ты ведаешь ли, Ефимушка, что и на ката кат бывает?
– На меня, что ли? – обиделся Ефимка. – Да я на всю Русь первый кат!
– А для тебя нарочитого ката привезут, – сказал Василий. – Из Сибири. Ерема звать. Он о запрошлом годе на спор с воеводой Пашковым плетью обух перешиб. Кто видел, сказывают: будто булатным клинком размахнул.
Ефимушка перепугался страшных своих поносных слов да и будущей встрече с сибирским собратом не порадовался.
– Детушки, да вы что? Я ли вас не миловал, вполсилы не хлестал?
– А ныне в четверть только будешь! А то живо доведем те слова твои. Хотя навряд мы с тобой теперь встретимся, – опрометчиво сказал Мымрин, а сплюнуть через плечо позабыл.
– Э, а мордвин Кирдяпа-то где? – забеспокоился кат.
И правда: пока мальцом любовались да лясы точили, хитрый Кирдяпа выскочил потихоньку из пыточной, как-то караульных стрельцов обошел и был таков.
– Мы, выходит, приводим, – сказал Мымрин, – а вы, выходит, распускаете? Негоже то…
– Ништо, – беспечно отвечал кат. – У меня дотемна все одно кто-нибудь помрет. Оттяпаю ему ногу и скажу, что Кирдяпина. Там ничего не сказано, чтобы его без ноги еще тут держать…
– Ох, и дошлый ты мужик, Ефимка! – восхитился Авдей.
– Тем торгуем, – пропищал кат.
Ефимка и сын его, оба в одинаковых рубахах с закатанными рукавами, проводили соколов до ворот и вернулись разбираться с панами.
…Узнав о чудесном своем спасении, государь не помнил себя от радости.
– Вот это слуги! Вот это радетели! Все бы так! Вы бы еще мне клад князя Курбского открыли – цены бы вам не было. Чем же мне вас наградить, соколы вы мои ясные? По шубе, наверное, надо выдать…
Соколы стояли в низком поясном поклоне. Тут государь-царь заметил в рыжей волосне Авдея что-то зелененькое. Он подошел ближе и рассмотрел. То была веточка водоросли. Авдей с той поры не только не помылся (вода, видно, надоела), а и волос не чесал.
– А-а, вот оно что! – вскричал самодержец. – Так это вы, сукины дети, голяком из речки выскакивали! Это вы моего любимого кречета погубили! Вы коней перепугали! Да вы мне не только коней, вы мне людей перепугали! Сокольники мои, сказывают, и во сне от водяников спасаются, ходят под себя! Да сам-то я… – Тут государь осекся, потом собрался с силами и продолжал: – Спасители! Вот уж воистину – лекарство пуще болезни!
– Виноваты, государь! – упал в ноги Авдей.
– Это паны проклятые все! – упал в ноги и Васька. – Мы, государь, не тебя, панов пугнуть хотели как следует, чтобы и дорогу в наши края забыли… Смилосердуйся, для тебя старались…
Романов потрогал соколиные головы ногой.
– Афоньку Кельина, сокольника, куда дели?
Мымрин поднял голову:
– Не трогали, как Бог свят, не трогали!
Государь помолчал, походил по горнице.
– Ин ладно, – сказал он наконец. – За ляхов-злодеев я вас награжу: не велю казнить смертью.
Соколы и тому были рады.
– А вот за кречета моего любимого, – продолжал государь, – я с вас крепко взыщу. Так взыщу! Ступайте в театральную хоромину и скажите немчину Грегори, что государь-де отдает ему вас головой. Пострадайте для потехи государевой.
– Государь-надежа! – взвыли соколы разом. – Лучше Ефимке отдай, только не немчину Грегори! Уморит он нас, а нам еще клад искать!
– А это уж как хотите, – сказал царь. – Да Ефимку вовремя помянули: дорогой к нему зайдете, пусть всыплет вам по двадцать пять горячих. Скажите – я велел.
Глава 10
Всего было много у Алексея Михайловича. И диковинные растения в садах в Измайловском росли, и заморские звери в клетках бегали. Даже китайские золотые рыбки и те в хрустальных вазах плавали, дохли, правда, часто.
А потом решил государь, что не худо бы на Руси театральные действа начать представлять. Вон у Лудовикуса во Франции – куда ни плюнь – театр на театре. Молиер, сказывают, какой-то насмешничает.
Когда-то, во время оно, повелел государь всю скоморошину на Русской земле разогнать. Гудки, жалейки, сопелки, домры, бубны, хари и машкары мерзостные были преданы огню, а скоморохов поставили в батоги. Так то скоморохи. Потому за каждой ватагой человека не пошлешь проверять, что они там представляют. А они известно что представляют – как холоп боярскую жену огулял, как пьяный поп обедню служит. От попа до боярина, от боярина… и молвить страшно! И то бывало, редко, да бывало.
А театр такой завести, чтобы на одном месте стоял, всегда под боком. Так-то не повольничаешь. И представления таковые давать, чтобы к вящей славе государевой способствовали.
Сказано – сделано. Нашли в немецкой Кокуй-слободе ученого лютеранского попа Ивана Грегори. Государь прямо так и сказал – или ладь театр, или ворочайся в свои немцы без штанов, как на Русь явился (батоги сами собой разумеются, как в этом деле без батогов).
Немцам на Руси такое житье было, что уходить без штанов пастору Грегори ну никак не хотелось.
Построили хоромину, набрали и артистов – школьных детей. Они потом государю челом били: «По твоему великаго государя указу взяты мы, сироты твои, в камедию, и ноне нас в школе держат и домой не отпущают, а твоего жалования, корму нам ничего не указано, помираем голодною смертию. А мы, холопы твои, учимся денно и нощно под караулом».
Может, жалование какое и было, и корма были, но вряд ли бы они через немцев прошли. Если уж взялся пастор Грегори, так уж, наверное, не за так.
Показали первую комедию – «Артаксерксово действо». Десять часов отсидел Алексей Михайлович, глядя на сцену. Ну да ему не привыкать было – на приемах сидеть не меньше приходилось, а на пирах и говорить нечего.
Добром, конечно, в артисты никто не шел, а попадали туда примерно так, как соколы наши: служба государева, и все тут. Один с соколами возится, другой комедию представляет, и все при деле.
…Немчин Грегори посмотрел на Авдея с Васькой сквозь стекла на носу:
– Сафтра будем тафать комедиум «Бахус унд Венус». Бахус дер готт пьянства есть, ферштеен?
– Дело знакомое, – сказал Авдей.
– Венус – либе, люпофь есть, ферштеен?
– Натюрлихьяволь! – отличился Мымрин.
– Нун, гут, – сказал пастор. – Роль Бахус занят. Роль Венус тоже занят. И занят роль Купидон. И роль шут, и роль вестник, и роль бордачник – все роль занят. Есть роль пьяниц лежащих. Вы лежать рядом с бочка Бахус. Как Бахус вставать с бочка, вы кричать: виват Бахус! Это значит многолетие, зо? На сцене не говорить, не вставать, лежать якобы пьяный, ферштеен?
– А что, дело знакомое, – улыбнулся Васька. – Отчего и не полежать для дела? Можно и выпить, чтобы вовсе похоже было.
– Но, но, но. Тринкен ферботен. Если вы пить комедийный хоромина, я посылать вас кат Ефимка. Это есть палач. Аллес.
Аллес так аллес. Соколы вежливенько попрощались со строгим немчином и пошли восвояси: нужно было выспаться перед завтрашним действом.
– Вот это попали из огня да в полымя, – сказал Авдей. – Ну как нас кто-нибудь узнает? Срам-то, срам-то какой!
– Государева служба – срам?
– Разве ж это служба – пьяным валяться? Так-то всю жизнь бы служил государю верой и правдой, да только не в комедийной хоромине. Люди узнают – смеяться будут!
– Не узнают, – сказал Василий. – Немчин толковал, что всю лопоть казенную выдадут. А хари мы себе углем да свеклой вымажем, будто месяц из кружала не вылазили, и не узнают…
…На самом хорошем месте сидел, конечно, государь-царь. Бояр в хоромину набилось видимо-невидимо, почитай, вся Бархатная книга собралась. Женщин не было – не положено. Только на галерее, за деревянной решеткой, сидели царица Наталья Кирилловна и ее мамки-няньки.
Зазвенели медные трубы, давая знать, что действо вот-вот начнется. Соколы лежали на своих местах. Немчин, к слову сказать, похвалил их намазанные хари и сказал даже, что будет просить государя, чтобы Ваську с Авдейкой навсегда перечислить в актеры. И ведь перечислят, думали соколы, коли не найдем Щура и клада. Да хорошо, если только в актеры, а не в каторжные…
Трубы зазвенели вдругорядь. Авдей лежал и тихонько причитывал:
– Соромно мне, Вася! Совестно!
– Терпи! Соромно ему! Нас таких тут сорок, и всем соромно.
– Лежим, а вор, может, клад наш берет!
– Молчи!
Третий раз грянули медные трубы. Вышел молодой паренек (соколы узнали его, это был сын лекаря Блюментроста) и начал читать вирши:
- По всей вселенной, во все мира страны,
- Где свет солнечный бывает виданы,
- Где солнце восходит и где западает,
- Всякая страна царску славу знает.
Вирши были длинные, Авдей несколько раз принимался засыпать с храпом, но Мымрин спасал его, пихая кулаком. Наконец, началась и сама комедия о Бахусе и Венусе. Четверо дюжих служителей вытащили на сцену бочку ведер на сорок, а на бочке мужика, как бы голого, но всего как есть увитого настоящим плющом. И пошла комедия.
- Бахус
- Кто хмельное зелье часто потребляет,
- Всяк во мне Бахуса в един час узнает:
- Пью непрестанно, плющем увившись,
- Гимны сам себе слагаю, упившись.
- Зелие хмельное ум просветляет,
- Немощным силу чресел прибавляет,
- А чтобы совсем не поразило пианство,
- Надобе к тому иметь постоянство.
Соколы лежали рядом с бочкой и видели только ноги Бахуса, обутые в лапти с ремнями.
– Дело говорит Бахус, – заметил Авдей.
– Точно, – прошептал Мымрин. – Я как выпил – дай да подай мне Дарьицу-Егозу…
Между тем Бахус продолжал:
- Зелена вина с утра коль напьюся,
- Ан, глядишь, к обеду вновь тем зальюся,
- Оттого-то я похмелия не знаю,
- Недугом тем нимало не страдаю.
– Хорошо ему, Бахусу, – позавидовал Авдей.
– Плохо ли! – согласился Васька. А Бахус рек:
- Всякому-то я, Бахус, любезен,
- Для здоровья зело полезен,
- А кто отвергает мое угощенье,
- Тому реку ума помраченье!
– Я тоже заметил, – сказал Авдей. – Все непьющие чудные какие-то, как бы с придурью.
– Ага, – сказал Мымрин. – Данилу Полянского взять…
Бахус высоко поднял чашу, как бы выпил ее и рек:
- Бахус потребен всему свету,
- Никакого мне супротивника нету.
- Магмет турецкий вина избегает,
- Оттого-то, видно, бит всегда бывает.
Государь засмеялся, и все засмеялись вдогонку.
– И это правильно, – сказал Мымрин. – Когда я в Стекольне был, там на приеме у короля персидский посол чашу романеи опростал – и дух вон.
– Да ну, с чаши-то? Ему, поди, туда яду набуровили! Да хватит, давай послушаем!
Бахус
- Выходи, кому не жаль своей плоти,
- Меня, Бахуса, попытай бороти.
- Не только славы себе не добудешь,
- Ниже, аки пес шелудивый, бит будешь!
- Всяческим оружьем я, Бахус, владаю,
- Аглицкий кулачный бой и то знаю.
- Выходи скорее на битву жарку,
- А я пока опростаю чарку!
– Пойду-ка я, – сказал Авдей, пытаясь подняться. – Чего это он тут ячится? В самом-то чуть душа жива, а туда же…
– С ума слетел, – зашипел Мымрин. – Это он по действу так говорит, а не тебе. Смотри, смотри: баба!
Появилась и вправду баба, вся в цветах, в пречудном и преудивительном платье: вроде и платье сверху, а вроде и нет ничего. Бояре загудели. А баба говорила:
- Кто меня, Венус всеблагу, не знает,
- Себя тот жестоко обкрадает.
- Боги олимпийски и те мне подвластны.
- Твои же, Бахусе, словеса напрасны.
- Скот сущеглупый, что Бога не знает.
- И тот в томлении любовном пребывает.
- Венуса бежать не годится:
- Жуколица малая и та плодится.
- Мужи седовласы, Хроносом почтенны,
- Такожде бывают Венусом сраженны:
- От стрел любовных духом молодеют,
- Конечности их уж боле не хладеют,
- Сила младая по жилам пробегает,
- Жертву мне, Венусу, принесть принуждает!
– Знаешь, Авдей, – сказал Мымрин. – Пытает меня давеча тот немчин Грегори: варум, дескать, ваш герр Полянский хабен цвай намен – Иоганн унд Данило? Я толкую, что Иван – молитвенное имя, для Бога, стало быть, а Данило – для мирской жизни. А немчин дошлый, смеется: кого-де ваш герр Полянский объегорить хочет: Господа или мир?
Авдей ничего не ответил. И на бабу тоже не смотрел: принюхивался Авдей. Если у Васьки был нюх, так сказать, умственный, то у Авдея натуральный, как у собаки.
– Васька, – прошептал он. – Ведаешь ли, что в бочке той?
– Неужто вправду с винищем? – удивился Васька.
– Кабы с винищем! Порох тамо!
Прошибло Мымрина холодным потом. Приподнял голову, стал разглядывать бочку. А Бахус с бочки вещал:
- А ну-ка, Венус, прикрой себя, голу,
- Внемли моему глаголу:
- Лучше тебя я, Венус, то знаю,
- Поелику тем же свойством владаю.
- Кто возжелает со мной упиться,
- Тот такожде омолодится —
- По земле ползет, младенцу подобно.
- Языком лепечет незлобно.
- И скот мне подвластен в этом роде:
- «Аки лошадь, пьет» – рекут в народе.
- А коли где сядут пить до свету,
- Там тебе, Венус, места нету!
– Гли-ко, Авдей, а вот и фитиль! – сказал Васька.
– Поди, потешные огни станут пущать, – сказал Авдей.
– Хороша потеха, да мне не до смеха. Коли эта бочка да полыхнет, никого вживе не останется…
Ни Бахус, ни Венус не обращали внимания, что на полу кто-то бормочет, увлеченные своим разговором.
- Венус
- Бахус злонравный очи заливает,
- Ничего о любови не понимает,
- Одной мне с ним не совладати,
- Неволею приходится Купидо звати!
Мымрин тяжко (все же пьяного показывает!) перевернулся на спину и стал приглядываться к Бахусу, которого тем временем крылатый мальчонка пристрелил из лука.
- Бахус
- Увы мне! увы! Прегорько стало!
- Видно, выпил я нынче мало.
- Во груди моей огнь с тех пор пылает,
- Никак оный не угасает.
- По тебе, Венус, жестоко страдаю,
- Что и творити, отнюдь не знаю…
– Я зато знаю, что творити, – прошипел Васька. – Авдей, как я тебя ногой торкну, скакивай и имай Бахуса!
Соколы разом вскочили и, возопив велегласно: «Слово и дело государево!», крепко схватили Бахуса с двух сторон. Другие актеры подумали, что пьяницы раньше времени начали славить Бахуса. Им показалось не «слово и дело», а «многая лета». И они в сорок глоток рявкнули:
– Многая лета! Многая лета! Многая лета!
Государь и другие зрители подумали, что так и положено. Тщетно немчин Грегори метался по сцене, пытаясь навести порядок. Авдей отпихивал немчина ногой. Актеры продолжали провозглашать многолетие. Бояре подняли шум. Государь уши заткнул. А в крепких руках соколов бился бритый, плющом увитый, но все-таки узнанный Иван Щур.
Глава 11,
и последняя
Нет, хорош, хорош государь-царь и великий князь Алексей Михайлович, царь Тишайший! И гневлив, да отходчив, и скуп до смеха временами, да другими временами щедр без меры.
Вот и нынче с лихвой наградил он соколов, другожды его спасших: снова не велел казнить до смерти. А за то, что все действо испортили, спосылал к Ефимке.
Ивашка Щур не запирался на спросе, только потребовал, чтобы государь его выслушал с глазу на глаз. Государю с таковым вором и злодеем говорить вроде бы невместно, да и страшновато. Всю-то ноченьку Алексей Михайлович ворочался с боку на бок: то в нем страх с алчбою боролись. К утру алчба свое взяла: привели скованного цепями вора в государевы палаты. Алексей Михайлович всех отослал прочь, чтобы не слушали. На случай же, если вор вздумает учинить какое дурно, оставил одного глухонемого арапа с пищалью. Соколы так и не узнали, что за разговор был у царя с шишом.
Поздно вечером государь призвал соколов и сказал:
– Что да к чему – вам знать ни к чему. Доподлинно скажу только, что клад тот есть, велик и несметен. И ежели вы, негодяи и бездельники, мнили, что сами добыть его можете, то вот вам мой царский кукиш!
И вправду показал кукиш. Ежели его, этот кукиш, взять сам по себе, то и не подумаешь, что царский.
– Положил князь заклятье, чтобы открылся клад только царской крови! Делать нечего, придется самому ехать. А вы – со мной. Вора возьмем, вор место укажет. Вор, поди, думает под шумок бежать, а того не знает, что я приказал весь город караулами обставить. Вчетвером поедем.
– Государь-надежа, – сказал Мымрин, которому совсем не хотелось еще раз связываться с хитрым Щуром. – А что бы нам взять целую стрелецкую сотню?
– Эх, – сказал государь. – Учат вас, учат, а чему учат? Неужели не ведаешь, холоп нерадивый, что, если заговоренный клад начнет чужой человек брать, он на аршин в землю уйдет? И так вас со Щуром трое – уже три аршина. А сотня стрельцов топтаться будет – колодезь копать, что ли? Опричь того, про клад тот только вы и ведаете, а боярам моим ни к чему. Коли узнают про толикое богатство, не поглядят, что и царь. Я ли бояр своих не знаю?!! Беги, Авдюшка, в кладовую, возьми там два заступа да мешков под золото поболее. Да смотри, чтобы никто не видел! Ключник и тот чтобы не видел. Лучше сломай замок-от…
Мымрин глядел на государя и дивился. Вчера еще был квашня квашней, а нынче ни дать ни взять – атаман казачий. Вот что золото с людьми-то делает, всех равняет – и царя, и псаря. Со стороны глянуть – не государь с холопом, а два татя сговариваются пошурудить в чужой подклети.
– А что с Ивашкой делать? – спросил Мымрин с тревогой.
– Когда клад объявит, нимало не медля зарезати! – велел государь, царь Тишайший. – Зарезати и в ту яму метнуть, засыпать землею. Здесь же, в приказе, объявить – вор-де бежал.
– Ой, государь! – спохватился Васька. – Так ведь мы тогда тебе сдуру при дьяке Полянском повинились! Он тож ведает!
Государь маленько подумал.
– И Полянского зарезати!
Мымрин не мог укрыть восхищения:
– Ну, государь-батюшка! Уж коли мы – соколы, то ты у нас вовсе орел!
– Вестимо, орел! – согласился Алексей Михайлович. – Не век же я на троне сидел. Я и на коне, я и саблей… Из пистоли промаху не знаю… Я бы и сейчас верхом, да надо под золото карету взять. За кучера будешь.
Государь и оделся соответственно: то ли купец, то ли не шибко богатый дворянин. Только кафтан был ему малость узковат, и приметливый Васька увидел, что государь-то орел в большей степени, чем ранее казалось: за поясом у него были две пистоли, не на соколов ли приготовленные? Промаху, говорит, не знаю…
Карету выбрали тоже не парадную, простую. С трудом запрягли, потому что никто не умел. Государь прикидывал, войдет ли все золото в карету, не придется ли делать второй ездки.
Авдей сходил в застенок за Щуром, хорошенько проверил железа, в которые вор был закован, подумал, что не худо бы на него «стул» надеть, да уж недосуг. А напоследок, как уходил, разбудил жившего при пыточной же ката Ефимку (хотя государь настрого запретил подымать шум) и с великой радостью, ото всей-то душеньки, брязнул его по зубам, мало не зашиб совсем. А и зашиб, не велика беда, малый катенок Истома подрастет.
Ехали в темноте и молчании. Мымрину пришлось слезть с облучка и вести коней в поводу, держа перед собой горящую просмоленную паклю на палке. Щур время от времени говорил, налево либо направо надо ехать. Гремели от тряски цепи на воре и лопаты под ногами. Иногда встречь кареты выходили караульные стрельцы, но, увидев, что карета государева, пропускали без слов. Мало ли по какому делу мог послать свою карету Алексей Михайлович!
У одного стрельца Мымрин отобрал добрый факел, а свою наспех смастряченную палку с паклей выбросил.
Выехали на пустырь. В ближних домах не было ни огонька. Щур сказал остановиться. Авдей вывел его из кареты. Васька с факелом подошел к ним.
– Веди, ворина!
Государь продолжал сидеть в карете.
Наконец раздался возмущенный вопль Авдея:
– Государь-батюшка, да тут помойная яма!
Алексей Михайлович, кряхтя (и помочь-то не догадаются, олухи!) вылез из кареты.
– Для кого помойная, – говорил он на ходу, волоча заступы (и захватить-то не могли, срамцы!), – а для царской крови сейчас преосуществится во благоухание росного ладана, мирра и нарда… Благорастворение воздухов… Так всегда с кладами, не знаете, что ли?
Но благорастворение не торопилось. Государь обошел яму и встал чуть поодаль от соколов и Щура. Яма как яма, чего в ней только нет, в ней и положено быть чему попало…
– Полезайте, коли уж приехали, – сказал царь и бросил к ногам холопей своих заступы. – Может, оно не сразу…
– Пущай ворина раньше лезет, – возмутился Мымрин.
– И то, – согласился Авдей и начал подталкивать Ивашку в яму. И тут произошло небывалое. Скованный по рукам и ногам, Щур сделал неухватное глазу движение, отчего цепи упали на землю, а соколы, матерно в царском присутствии ругаясь, полетели в глубокую помойную яму. Государь, не ведая от изумления, что творит, ногой спихнул им заступы. От падения соколов вонь от ямы пошла вовсе нестерпимая.
Иван Щур, держа в руке факел (и когда успел выхватить у Мымрина?), подошел к государю и вытащил у него из-за пояса пистоли.
– Это не царское дело, – пояснил он.
Алексей Михайлович не мог слова молвить. Наконец собрался с силами:
– Ты для чего, вор, учинил такое?
– Для души, – спокойно ответил Щур. – Очень хотелось государя царя и великого князя на помойке увидеть, а псов твоих – в яме поганой… Я бы и тебя туда посадил, кабы не боялся, что державе позор выйдет. Станут еще говорить: на Руси-де царь на помойке найден… А и быть вам, царям да боярам, на помойке, помяни мое слово! Жаден ты, царь, как последний купчишка в Зарядье! Книжную премудрость превзошел, а того не знаешь, какие такие богатства у князя Курбского могли быть, а коли и были, их давно Иван Васильевич в свою казну отписал… Клад я тот выдумал, чтобы Никифора Дурного обмануть, так на то ему и фамилия дадена: Дурной. А ты, яко бабка старая, в клады заговоренные веришь! И под таким-то вся Русь ходит!
Соколы в это время тщетно пытались выбраться из ямы. Авдей попытался подсадить Ваську, но от тяжести еще глубже уходил ногами в сметье.
– Это не я их в яму посадил, – продолжал меж тем Щур, глядя на возню под ногами. – Это ты их в яму посадил. Им бы цены в другое время не было, Ваське да Авдюшке, а ты из людей псов сотворил, ну и получай. Ты русского человека честь в других землях велишь высоко держать, а здесь под ноги себе мечешь. Говорите: мужик-де русский ленив, а немчины вам поддакивают. Да может ли мужик вас прокормить, коли вы приучены в три горла жрать? Жаль, не смог я тогда все племя ваше порохом взорвать – свежее бы на Руси стало! Одним обедом твоим две деревни накормить можно – кто ты такой, чтобы их объедать? Может, ты полки водишь, врагов державы повергаешь? Нету того. Может, ты, как царь Соломон, суд праведный творишь? И того нету. Так на кой ты нам нужен?
Щур подошел к карете и залез на облучок.
– Ныне с Москвы схожу, – сказал он. – А ведь вернусь. И не один вернусь – слыхал же, что Степан Тимофеевич в Астрахани вашему племени устроил? Как бы тебе в эту яму самому не пришлось лезть – прятаться…
Царь как стоял, так и стоял. А что сделаешь? Крикнуть – голоса нет…
– Ин прощевай, Алексей Михайлович! И помни накрепко эту яму! Помни, что русский человек до времени терпит! Не быть крепку царству, стояшу на доносе и ябеде!
Он хлестанул коней, свистнул и покатил вон из Москвы, во все горло орал при этом: «По государеву делу!» – чтобы караульные стрельцы не чинили препятствий. Докатит небось до рогаток, выберет коня получше (а выбирать трудно, кони-то царские!), да и помчится к Степану Тимофеичу. Может, сложит голову в бою либо на плахе, а может, долго будет колобродить по Руси, пугать боярское племя…
Факел, брошенный Щуром, догорел. Наступила темнота. Соколы в яме притихли. Вышла из-за тучи луна, и увидел самодержец, что стоит он на пустыре один-одинешенек. И вот тогда-то он закричал не своим голосом. Из домов никто не вышел, думали, просто так – режут кого-нибудь. Могли и вправду подойти тати и зарезать – был бы тогда еще один царь-мученик, невинно убиенный…
На царское счастье, выбрел к пустырю безместный поп Моисеище. Попа Моисеища только что с великими трудами выбили из кружала за святотатственную попытку пропить наперсный крест. Поп шел злой и алчущий злость эту сорвать на ближнем своем. Самым ближним и оказался Алексей Михайлович.
Другой бы на месте попа Моисеища спросил у одинокого прохожего: «А по морде хочешь?» Но поп Моисеище и в самом непотребном виде твердо помнил, что на него возложен сан. Поэтому он не спросил, а вопросил:
– А не дерзнуть ли тя по лику, сыне?
Когда же присмотрелся, понял: не дерзнуть. В молодости поп Моисеище принимал участие во многочисленных диспутах о вере, покуда диспуты эти еще допускались. Алексей же Михайлович в молодости был до таковых диспутов великий охотник. Моисеище доподлинно признал государя и повалился ему в ноги. Государь продолжал кричать – тоненько-тоненько уже, и поп сообразил, что с ним неладно. А сообразив, подхватил царя в охапку, как малое дитя, и побежал в сторону Кремля. Набегавших стрельцов он отгонял громовым рычанием: «Слово и дело государево!»
В царских палатах уже всполошились. Алексей-то Михайлович ладил вернуться с золотом до рассвета, а не вышло. Так что навстречу Моисеищу бежала целая толпа челяди, а впереди всех дьяк Иван (Данило) Полянский. Он выхватил царя из объятий Моисеища, начал приводить в чувство, плакал горько и от сердца. Полянский пережил государя, и невдомек ему было, что тот однажды велел его «зарезати».
Придя в себя, царь первым делом приказал скакать к яме и казнить соколов на месте. Прискакали, и веревку бросили, а взять соколов не смогли: так противно было, даже кони стрелецкие шарахались. Соколы это заметили и стали разгонять стрельцов, швыряя в них всякой пакостью, что набилась в карманы и за пазуху. Поправил дело кат Ефимка, одыбавший малость после Авдея. Он на расстоянии мог стегать соколов кнутом, вот и погнал их по городу. И впервые услышал от горожан Ефимка добрые слова:
– Так, так, Ефимушко! Ожги его! Перепояшь! Любо! Ой, любо! Гони их, Ефимушко, подале, чтобы духу их не было!
Ефимушка гнал их, гнал, пока сил хватило. Куда потом подевались соколы – неведомо, да уже и неинтересно. Такие нигде не пропадут, жить будут, покуда не найдется добрый человек, не посадит их на законное их место – в помойную яму.
Про страшный этот случай велено было забыть. Поэтому ни в каких документах никаких следов не осталось. Алексей Михайлович, должно, помнил, оттого и помер рано…
Да еще помнил безместный поп Моисеище, коего поили по государеву указу во всех кабаках и кружалах за так. Говаривал поп Моисеище, надувшись винища:
– Гряду я это, братие, из кружала. Ошую и одесную – тьма воистину египетская. Смотрю – впереди свечение, как бы с Фавора исходящее… Гряду далее – и зрю рядом с мерзостью запустения миропомазанника нашего богоданного…
Но ему, понятное дело, не верили.