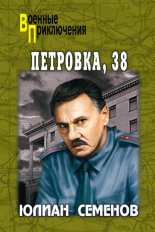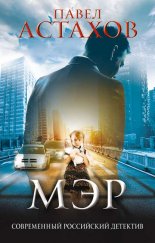«Профессор накрылся!» и прочие фантастические неприятности Каттнер Генри

– Еще не знаю, – медленно проговорил он. – Я еще не полностью охватил перспективы.
Но он готов был ухватить все в охапку. Сразу было видать. Знаю я такое выражение лица.
Я стоял у окна, смотрел на улицу, и тут меня вдруг осенило. Я рассудил, что, как ни кинь, чересчур доверять прохвессору – вовсе глупо. Вот я и подобрался, будто ненароком, к ружью и кое-что там подправил.
Я прекрасно знал, чего хочу, но, если бы Гэлбрейт спросил, почему я скручиваю проволочку тут и сгибаю какую-то чертовщину там, я бы не мог ответить. В школах не обучался. Но твердо знал одно: теперь эта штучка сработает как надо.
Прохвессор строчил что-то в блокноте. Он поднял глаза и заметил меня.
– Что ты делаешь? – спросил он.
– Тут было что-то неладно, – соврал я. – Не иначе как вы тут мудрили с батарейками. Вот сейчас испытайте.
– Здесь? – возмутился он. – Я не хочу возмещать убытки. Испытывать надо в безопасных условиях.
– Видите вон там, на крыше, флюгер? – Я показал пальцем. – Никто не пострадает, если мы в него нацелимся. Можете испытывать, не отходя от окна.
– Это… это не опасно?
Ясно было, что у него руки чешутся испытать ружье. Я сказал, что все останутся в живых, он глубоко вздохнул, подошел к окну и неумело взялся за приклад.
Я отодвинулся в сторонку. Не хотел, чтобы шериф меня увидел. Я-то его давно приметил – он сидел на скамье возле продуктовой лавки через дорогу.
Все вышло, как я и рассчитывал. Гэлбрейт спустил курок, целясь во флюгер на крыше, и из дула вылетели кольца света. Раздался ужасающий грохот. Гэлбрейт повалился навзничь, и тут началось такое столпотворение, что передать невозможно. Вопль стоял по всему городку.
Ну, чувствую, самое время сейчас превратиться в невидимку. Так я и сделал.
Гэлбрейт осматривал ружье, когда в номер ворвался шериф Эбернати. А с шерифом шутки плохи. У него был пистолет в руке и наручники наготове; он отвел душу, изругав прохвессора последними словами.
– Я вас видел! – орал он. – Вы, столичные, думаете, что вам здесь все сойдет с рук. Так вот, вы ошибаетесь!
– Сонк! – вскричал Гэлбрейт, озираясь по сторонам. Но меня он, конечно, увидеть не мог.
Тут они сцепились. Шериф Эбернати видел, как Гэлбрейт стрелял из ружья, а шерифу палец в рот не клади. Он поволок Гэлбрейта по улице, а я, неслышно ступая, двинулся следом. Люди метались как угорелые. Почти все прижимали руки к щекам.
Прохвессор продолжал ныть, что ничего не понимает.
– Я все видел! – оборвал его Эбернати. – Вы прицелились из окна – и тут же у всего города разболелись зубы! Посмейте только еще раз сказать, будто вы не понимаете!
Шериф у нас умница. Он с нами, Хогбенами, давно знаком и не удивляется, если иной раз творятся чудные дела. К тому же он знал, что Гэлбрейт – ученый. Так вот, получился скандал, люди доискались, кто виноват, и я оглянуться не успел, как они собрались линчевать Гэлбрейта.
Эбернати его увел. Я немножко послонялся по городку. На улицу вышел пастор, посмотреть на церковные окна – они его озадачили. Стекла были разноцветные, и пастор никак не мог понять, с чего это они вдруг расплавились. Я бы ему подсказал. В цветных стеклах есть золото – его добавляют, чтобы получить красный тон.
В конце концов я подошел к тюрьме. Меня все еще нельзя было видеть. Поэтому я подслушал разговор Гэлбрейта с шерифом.
– Все Сонк Хогбен, – повторял прохвессор. – Поверьте, это он перестроил проектор!
– Я вас видел, – отвечал Эбернати. – Вы все сделали сами. Ой! – Он схватился рукой за челюсть. – Прекратите-ка, да поживее! Толпа настроена серьезно. В городе половина людей сходит с ума от зубной боли.
Видно, у половины городских в зубах были золотые пломбы. То, что сказал на это Гэлбрейт, меня не очень-то удивило.
– Я ожидаю прибытия комиссии из Нью-Йорка; сегодня же вечером позвоню в институт, там за меня поручатся.
Значит, он всю дорогу собирался нас продать. Я как чувствовал, что у него на уме.
– Вы избавите меня от зубной боли – и всех остальных тоже, а не то я открою двери и впущу линчевателей! – простонал шериф. И ушел прикладывать к щеке пузырь со льдом.
Я прокрался обратно в коридор и стал шуметь, чтобы Гэлбрейт услыхал. Я подождал, пока он не кончит ругать меня на все корки. Напустил на себя глупый вид.
– Видно, я маху дал, – говорю. – Но могу все исправить.
– Да ты уж наисправлял достаточно. – Тут он остановился. – Погоди. Как ты сказал? Ты можешь вылечить эту… что это?
– Я осмотрел ружье, – говорю. – Кажется, я знаю, где напорол. Оно теперь настроено на золото, и все золото в городе испускает тепловые лучи или что-то в этом роде.
– Наведенная избирательная радиоактивность, – пробормотал Гэлбрейт очередную бессмыслицу. – Слушай. Вся эта толпа… у вас когда-нибудь линчуют?
– Не чаще раза-двух в год, – успокоил я. – И эти два раза уже позади, так что годовую норму мы выполнили. Жаль, что я не могу переправить вас к нам домой. Мы бы вас запросто спрятали.
– Ты бы лучше что-нибудь предпринял! – говорит. – А не то я вызову из Нью-Йорка комиссию! Ведь тебе это не очень-то по вкусу, а?
Никогда я не видел, чтобы человек с честным лицом так нагло врал в глаза.
– Дело верное, – говорю. – Я подкручу эту штуковину так, что она в два счета погасит лучи. Только я не хочу, чтобы люди связывали нас, Хогбенов, с этим делом. Мы любим жить спокойно. Вот что, давайте я пойду в ваш отель и налажу все как следует, а потом вы соберете тех, кто мается зубами, и спустите курок.
– Но… да, но…
Он боялся, как бы не вышло еще хуже. Но я его уговорил. На улице бесновалась толпа, так что долго уговаривать не пришлось. В конце концов я плюнул и ушел, но вернулся невидимый и подслушал, как Гэлбрейт уславливается с шерифом.
Они между собой поладили. Все, у кого болят зубы, соберутся и рассядутся в мэрии. Потом Эбернати приведет прохвессора с ружьем и попробует всех вылечить.
– Прекратится зубная боль? – настаивал шериф. – Точно?
– Я… вполне уверен, что прекратится.
Эбернати уловил его нерешительность.
– Тогда уж лучше испробуйте сначала на мне. Я вам не доверяю.
Видно, никто никому не доверял.
Я прогулялся до отеля и кое-что изменил в ружье. И тут я попал в переплет. Моя невидимость истощилась. Вот ведь как скверно быть подростком.
Когда я стану на сотню-другую лет постарше, то буду оставаться невидимым сколько влезет. Но пока я еще не очень-то освоился. Главное, теперь я не мог обойтись без помощи, потому что должен был сделать одно дело, за которое никак нельзя браться у всех на глазах.
Я поднялся на крышу и мысленно окликнул Крошку Сэма. Когда настроился на его мозг, попросил вызвать папулю и дядю Леса. Немного погодя с неба спустился дядя Лес; летел он тяжело, потому что нес папулю. Папуля ругался: они насилу увернулись от коршуна.
– Зато никто нас не видел, – утешил его дядя Лес. – По-моему.
– У городских сегодня своих хлопот полон рот, – ответил я. – Мне нужна помощь. Прохвессор обещал одно, а сам затевает напустить сюда комиссию и всех нас обследовать.
– В таком случае ничего не поделаешь, – сказал папуля. – Нельзя же кокнуть этого типа. Дедуля запретил.
Тогда я сообщил им свой план. Папуля невидимый, ему все это будет легче легкого. Потом мы провертели в крыше дырку, чтобы подсматривать, и заглянули в номер Гэлбрейта. И как раз вовремя. Шериф уже стоял там с пистолетом в руке (так он ждал), а прохвессор, позеленев, наводил на Эбернати ружье. Все прошло без сучка без задоринки. Гэлбрейт спустил курок, из дула выскочило пурпурное кольцо света, и все. Да еще шериф открыл рот и сглотнул слюну.
– Ваша правда! Зуб не болит!
Гэлбрейт обливался потом, но делал вид, что все идет по плану.
– Конечно действует, – сказал он. – Естественно. Я же говорил.
– Идемте в мэрию. Вас ждут. Советую вылечить всех, иначе вам не поздоровится.
Они ушли. Папуля тайком двинулся за ними, а дядя Лес подхватил меня и полетел следом, держась поближе к крышам, чтобы нас не заметили. Вскоре мы расположились у одного из окон мэрии и стали наблюдать.
Таких страстей я еще не видел, если не считать лондонской чумы. Зал был битком набит, люди катались от боли, стонали и выли. Вошел Эбернати с прохвессором – прохвессор нес ружье, – и все завопили еще громче.
Гэлбрейт установил ружье на сцене, дулом к публике, шериф снова вытащил пистолет, велел всем замолчать и обещал, что сейчас у всех зубная боль пройдет.
Я папулю, ясное дело, не видел, но знал, что он на сцене. С ружьем творилось что-то немыслимое. Никто не замечал, кроме меня, но я-то следил внимательно. Папуля, конечно невидимый, вносил кое-какие поправки. Я ему все объяснил, но он и сам не хуже меня понимал, что к чему. И вот он скоренько наладил ружье как надо.
А что потом было – конец света. Гэлбрейт прицелился, спустил курок, из ружья вылетели кольца света – на этот раз желтые. Я попросил папулю выбрать такую дальность, чтобы за пределами мэрии никого не задело. Но внутри…
Что ж, зубная боль у них прошла. Ведь не может человек страдать от золотой пломбы, если никакой пломбы у него и в помине нет.
Теперь ружье было налажено так, что действовало на все неживое. Дальность папуля выбрал точка в точку. Вмиг исчезли стулья и часть люстры. Публика сбилась в кучу, поэтому ей худо пришлось. У колченогого Джеффа пропала не только деревянная нога, но и стеклянные глаза. У кого были вставные зубы, ни одного не осталось. Многих словно наголо обрили.
И платья ни на ком я не видел. Ботинки ведь неживые, как и брюки, рубашки, юбки. В два счета все в зале оказались в чем мать родила. Но это уж пустяк, зубы-то у них перестали болеть, верно?
Часом позже мы сидели дома – все, кроме дяди Леса, – как вдруг открывается дверь и входит дядя Лес, а за ним, шатаясь, прохвессор. Вид у Гэлбрейта был самый жалкий. Он опустился на пол, тяжело, с хрипом дыша и тревожно поглядывая на дверь.
– Занятная история, – сказал дядя Лес. – Лечу это я над окраиной городка и вдруг вижу: бежит прохвессор, а за ним – целая толпа, и все замотаны в простыни. Вот я его и прихватил. Доставил сюда, как ему хотелось.
И мне подмигнул.
– О-о-о-х! – простонал Гэлбрейт. – А-а-а-х! Они сюда идут?
Мамуля подошла к двери.
– Вон сколько факелов лезет в гору, – сообщила она. – Не к добру это.
Прохвессор свирепо глянул на меня.
– Ты говорил, что можешь меня спрятать! Так вот, теперь прячь! Все из-за тебя!
– Чушь, – говорю.
– Прячь, иначе пожалеешь! – завизжал Гэлбрейт. – Я… я вызову сюда комиссию.
– Ну вот что, – сказал я. – Если мы вас укроем, обещаете забыть о комиссии и оставить нас в покое?
Прохвессор пообещал.
– Минуточку, – сказал я и поднялся в мезонин к дедуле. Он не спал.
– Как, дедуля? – спросил я.
С секунду он прислушивался к Крошке Сэму.
– Прохвост лукавит, – сказал он вскоре. – Желает всенепременно вызвать ту шелудивую комиссию, вопреки всем своим посулам.
– Может, не стоит его прятать?
– Нет, отчего же, – сказал дедуля. – Хогбены дали слово – больше не убивать. А укрыть беглеца от преследователей – право же, дело благое.
Мне показалось, он подмигнул. Дедулю не разберешь. Я спустился по лестнице. Гэлбрейт стоял у двери – смотрел, как в гору взбираются факелы. Он в меня так и вцепился.
– Сонк! Если ты меня не спрячешь…
– Спрячу, – ответил я. – Пошли.
Отвели мы его в подвал…
Когда к нам ворвалась толпа во главе с шерифом Эбернати, мы прикинулись простаками. Позволили перерыть весь дом. Крошка Сэм и дедуля на время стали невидимыми, их никто не заметил. И само собой, толпа не нашла никаких следов Гэлбрейта. Мы его хорошо укрыли, как и обещали.
С тех пор прошло несколько лет. Прохвессор как сыр в масле катается. Но только нас он не обследует. Порой мы вынимаем его из бутылки, где он хранится, и обследуем сами.
А бутылочка-то ма-ахонькая!
Котел с неприятностями
Лемюэла мы прозвали Горбун, потому что у него три ноги. Когда Лемюэл подрос (как раз в войну Севера с Югом), он стал поджимать лишнюю ногу внутрь штанов, чтобы никто ее не видел и зря язык не чесал. Ясное дело, вид у него был при этом самый что ни на есть верблюжий, но ведь Лемюэл не любитель форсить. Хорошо, что руки и ноги у него сгибаются не только в локтях и коленях, но и еще в двух суставах, иначе поджатую ногу вечно сводили бы судороги.
Мы не видели Лемюэла годков шестьдесят. Все Хогбены живут в Кентукки, но он – в южной части гор, а мы – в северной. И надо полагать, обошлось бы без неприятностей, не будь Лемюэл таким безалаберным. Одно время мы уже подумали – каша заваривается не на шутку. Нам, Хогбенам, доводилось хлебнуть горя и раньше, до того как мы переехали в Пайпервилл: бывало, люди все подглядывают за нами да подслушивают, норовят дознаться, с чего это в округе собаки лаем исходят. До того дошло – совсем невозможно стало летать. В конце концов дедуля рассудил, что пора смотать удочки, перебраться южнее, к Лемюэлу.
Терпеть не могу путешествий. Последний раз, когда мы плыли в Америку, меня аж наизнанку выворачивало. Летать – и то лучше. Но в семье верховодит дедуля.
Он заставил нас нанять грузовик, чтобы переправить пожитки. Труднее всего было втиснуть малыша. В нем-то самом весу кило сто сорок, не больше, но цистерна уж больно здоровая. Зато с дедулей никаких хлопот: его просто увязали в старую дерюгу и запихнули под сиденье. Всю работу пришлось делать мне. Папуля насосался маисовой водки и совершенно обалдел. Знай ходил на руках да песню горланил – «Вверх тормашками весь мир».
Дядя вообще не пожелал ехать. Он забился под ясли в хлеву и сказал, что соснет годиков десять. Там мы его и оставили.
– Вечно они скачут! – все жаловался дядя. – И чего им на месте не сидится? Пятисот лет не пройдет, как они опять – хлоп! Бродяги бесстыжие, перелетные птицы! Ну и езжайте, скатертью дорога!
Ну и уехали.
Лемюэл, по прозванию Горбун, – наш родственник. Аккурат перед тем, как мы поселились в Кентукки, там, говорят, пронесся ураган. Всем пришлось засучить рукава и строить дом, один Лемюэл ни в какую. Ужас до чего никудышный. Так и улетел на юг. Каждый год или через год он ненадолго просыпается, и мы тогда слышим его мысли, но остальное время он бревно бревном.
Решили пожить у него.
Сказано – сделано.
Видим, Лемюэл живет в заброшенной водяной мельнице, в горах, неподалеку от города Пайпервилл. Мельница обветшала, на честном слове держится. На крыльце сидит Лемюэл. Когда-то он сел в кресло, но кресло под ним давно уже развалилось, а он и не подумал проснуться и починить. Мы не стали будить Лемюэла. Втащили малыша в дом, и дедуля с папулей стали вносить бутылки с маисовой.
Мало-помалу устроились. Сперва было не ахти как удобно. Лемюэл, непутевая душа, припасов в доме не держит. Он проснется ровно настолько, чтобы загипнотизировать в лесу какого-нибудь енота, и, глядишь, тот уже скачет, пришибленный, согласный стать обедом. Лемюэл питается енотами, потому что у них лапы прямо как руки. Пусть меня поцарапают, если этот лодырь Лем гипнозом не заставляет енотов разводить огонь и зажариваться. До сих пор не пойму, как он их свежует. А может, просто выплевывает шкурку? Есть люди, которым лень делать самые немудреные вещи.
Когда ему хочется пить, он насылает дождь себе на голову и открывает рот. Позор, да и только.
Правда, никто из нас не обращал внимания на Лемюэла. Мамуля с ног сбилась в хлопотах по хозяйству. Папуля, само собой, удрал с кувшином маисовой, и вся работа свалилась на меня. Ее было не много. Главная беда – нужна электроэнергия. На то, чтобы поддерживать жизнь малыша в цистерне, току уходит прорва, да и дедуля жрет электричество, как свинья помои. Если бы Лемюэл сохранил воду в запруде, мы бы вообще забот не знали, но ведь это же Лемюэл! Он преспокойно дал ручью высохнуть. Теперь по руслу текла жалкая струйка.
Мамуля помогла мне смастерить в курятнике одну штуковину, и после этого у нас электричества стало хоть отбавляй.
Неприятности начались с того, что в один прекрасный день по лесной тропе к нам притопал костлявый коротышка и словно бы обомлел, увидев, как мамуля стирает во дворе. Я тоже вышел во двор – любопытства ради.
– День выдался на славу, – сказала мамуля. – Хотите выпить, гостенек?
Он сказал, что ничего не имеет против, я принес полный кувшин, коротышка выпил маисовой, судорожно перевел дух и сказал, мол, нет уж, спасибо, больше не хочет, ни сейчас, ни потом, никогда в жизни. Сказал, что есть уйма более дешевых способов надсадить себе глотку.
– Недавно приехали? – спросил он.
Мамуля сказала, что да, недавно, Лемюэл нам родственник. Коротышка посмотрел на Лемюэла – тот все сидел на крыльце, закрыв глаза, – и сказал:
– По-вашему, он жив?
– Конечно, – ответила мамуля. – Полон жизни, как говорится.
– А мы-то думали, он давно покойник, – сказал коротышка. – Поэтому ни разу не взимали с него избирательного налога. Я считаю, вам лучше и за себя заплатить, если уж вы сюда въехали. Сколько вас тут?
– Примерно шестеро, – ответила мамуля.
– Все совершеннолетние?
– Да вот у нас папуля, Сонк, малыш…
– Лет-то сколько?
– Малышу уже годочков четыреста, верно, мамуля? – сунулся было я, но мамуля дала мне подзатыльник и велела помалкивать. Коротышка ткнул в меня пальцем и сказал, что про меня-то и спрашивает. Черт, не мог я ему ответить. Сбился со счета еще при Кромвеле. Кончилось тем, что коротышка решил собрать налог со всех, кроме малыша.
– Не в деньгах счастье, – сказал он, записывая что-то в книжечку. – Главное, в нашем городе голосовать надо по всем правилам. В Пайпервилле босс только один, и зовут его Илай Гэнди. С вас двадцать долларов.
Мамуля велела мне набрать денег, и я ушел на поиски. У дедули была одна-единственная монетка, про которую он сказал, что это, во-первых, динарий, а во-вторых, талисман; дедуля прибавил, что свистнул эту монетку у какого-то Юлия где-то в Галлии. Папуля был пьян в стельку. У малыша завалялись три доллара. Я обшарил карманы Лемюэла, но добыл там только два яичка иволги.
Когда я вернулся к мамуле, она поскребла в затылке, но я ее успокоил:
– К утру сделаем, мамуля. Вы ведь примете золото, мистер?
Мамуля влепила мне пощечину. Коротышка посмотрел как-то странно и сказал, что золото примет, отчего бы и нет. Потом он ушел лесом и повстречал на тропе енота, который нес охапку прутьев на растопку, – как видно, Лемюэл проголодался. Коротышка прибавил шагу.
Я стал искать металлический хлам, чтобы превратить его в золото.
На другой день нас упрятали в тюрьму.
Мы-то, конечно, все знали заранее, но ничего не могли поделать. У нас одна линия: не задирать нос и не привлекать к себе лишнего внимания. То же самое наказал нам дедуля и на этот раз. Мы все поднялись на чердак (все, кроме малыша и Лемюэла, который никогда не почешется), и я уставился в угол, на паутину, чтобы не смотреть на дедулю. От его вида у меня мороз по коже.
– Ну их, холуев зловонных, не стоит мараться, – сказал дедуля. – Лучше уж в тюрьму, там безопасно. Дни инквизиции навеки миновали.
– Нельзя ли спрятать ту штуковину, что в курятнике?
Мамуля меня стукнула, чтобы не лез, когда старшие разговаривают.
– Не поможет, – сказала она. – Сегодня утром приходили из Пайпервилла соглядатаи, видели ее.
– Прорыли вы погреб под домом? – спросил дедуля. – Вот и ладно. Укройте там меня с малышом. – Он опять сбился на старомодную речь. – Поистине досадно прожить столь долгие годы и вдруг попасть впросак, осрамиться перед гнусными олухами. Надлежало бы им глотки перерезать. Да нет же, Сонк, ведь это я для красного словца. Не станем привлекать к себе внимание. Мы и без того найдем выход.
Выход нашелся сам. Всех нас выволокли (кроме дедули с малышом, они к тому времени уже сидели в погребе). Отвезли в Пайпервилл и упрятали в каталажку. Лемюэл так и не проснулся. Пришлось тянуть его за ноги.
Что до папули, то он не протрезвел. У него свой коронный номер. Он выпьет маисовой, а потом, я так понимаю, алкоголь попадает ему в кровь и превращается в сахар или еще во что-то. Волшебство, не иначе. Папуля старался мне растолковать, но до меня туго доходило. Спиртное идет в желудок; как может оно попасть оттуда в кровь и превратиться в сахар? Просто глупость. А если нет, так колдовство. Но я-то к другому клоню: папуля уверяет, будто обучил своих друзей, которых звать Ферменты (не иначе как иностранцы, судя по фамилии), превращать сахар обратно в алкоголь и потому умеет оставаться пьяным сколько душе угодно. Но все равно он предпочитает свежую маисовую, если только подвернется. Я-то не выношу колдовских фокусов, мне от них страшно делается.
Ввели меня в комнату, где было порядочно народу, и приказали сесть на стул. Стали сыпать вопросами. Я прикинулся дурачком. Сказал, что ничего не знаю.
– Да не может этого быть! – заявил кто-то. – Не сами же они соорудили… неотесанные увальни-горцы! Но несомненно, в курятнике у них урановый котел.
Чепуха какая.
Я все прикидывался дурачком. Немного погодя отвели меня в камеру. Она кишела клопами. Я выпустил из глаз что-то вроде лучей и поубивал всех клопов – на удивление занюханному человечку со светло-рыжими баками, который спал на верхней койке, и я не заметил, как он проснулся, а когда заметил, было уже поздно.
– На своем веку в каких только чудных тюрьмах я не перебывал, – сказал занюханный человечек, часто-часто помаргивая, – каких только необыкновенных соседей по камере не перевидал, но ни разу еще не встречал человека, в котором заподозрил бы дьявола. Я, Армбрестер, Хорек Армбрестер, упекли меня за бродяжничество. А тебя в чем обвиняют, друг? В том, что скупал души по взвинченным ценам?
Я ответил, что рад познакомиться. Нельзя было не восхититься его речью. Просто страсть какой образованный был.
– Мистер Армбрестер, – сказал я, – понятия не имею, за что сижу. Нас сюда привезли ни с того ни с сего – папулю, мамулю и Лемюэла. Лемюэл, правда, все еще спит, а папуля пьян.
– Мне тоже хочется напиться допьяна, – сообщил мистер Армбрестер. – Тогда меня не удивляло бы, что ты повис в воздухе между полом и потолком.
Я засмущался. Вряд ли кому охота, чтобы его застукали за такими делами. Со мной это случилось по рассеянности, но чувствовал я себя круглым идиотом. Пришлось извиниться.
– Ничего, – сказал мистер Армбрестер, переваливаясь на живот и почесывая баки. – Я этого уже давно жду. Жизнь я прожил в общем и целом весело. А такой способ сойти с ума не хуже всякого другого. Так за что тебя, говоришь, арестовали?
– Сказали, что у нас урановый котел стоит, – ответил я. – Спорим, у нас такого нет. Чугунный, я знаю, есть, сам в нем воду кипятил. А уранового сроду на огонь не ставил.
– Ставил бы, так запомнил бы, – отозвался он. – Скорее всего, тут какая-то политическая махинация. Через неделю выборы. На них собирается выступить партия реформ, а старикашка Гэнди хочет раздавить ее, прежде чем она сделает первый шаг.
– Что ж, пора нам домой, – сказал я.
– А где вы живете?
Я ему объяснил, и он задумался.
– Интересно. На реке, значит? То есть на ручье? На Медведице?
– Это даже не ручей, – уточнил я.
Мистер Армбрестер засмеялся.
– Гэнди величал его рекой Большой Медведицы, до того как построил недалеко от вас Гэнди-плотину. В том ручье нет воды уже полвека, но лет десять назад старикашка Гэнди получил ассигнования – один бог знает, на какую сумму. Выстроил плотину только благодаря тому, что ручей назвал рекой.
– А зачем ему это было надо? – спросил я.
– Знаешь, сколько шальных денег можно выколотить из постройки плотины? Но против Гэнди не попрешь, по-моему. Если у человека собственная газета, он сам диктует условия. Ого! Сюда кто-то идет.
Вошел человек с ключами и увел мистера Армбрестера. Спустя еще несколько часов пришел кто-то другой и выпустил меня. Отвел в другую комнату, очень ярко освещенную. Там был мистер Армбрестер, были мамуля с папулей и Лемюэлом и еще какие-то дюжие ребята с револьверами. Был там и тощий сухонький тип с лысым черепом и змеиными глазками; все плясали под его дудку и величали его мистером Гэнди.
– Парнишка – обыкновенный деревенский увалень, – сказал мистер Армбрестер, когда я вошел. – Если он и угодил в какую-то историю, то случайно.
Ему дали по шее и велели заткнуться. Он заткнулся. Мистер Гэнди сидел в сторонке и кивал с довольно подлым видом. У него был дурной глаз.
– Послушай, мальчик, – сказал он мне. – Кого ты выгораживаешь? Кто сделал урановый котел в вашем сарае? Говори правду, или тебе не поздоровится.
Я только посмотрел на него, да так, что кто-то стукнул меня по макушке. Чепуха. Ударом по черепу Хогбенов не проймешь. Помню, наши враги Адамсы схватили меня и давай дубасить по голове, пока не выбились из сил, – даже не пикнули, когда я побросал их в цистерну.
Мистер Армбрестер подал голос.
– Вот что, мистер Гэнди, – сказал он. – Я понимаю, будет большая сенсация, если вы узнаете, кто сделал урановый котел, но ведь вас и без того переизберут. А может быть, это вообще не урановый котел.
– Кто его сделал, я знаю, – заявил мистер Гэнди. – Ученые-ренегаты. Или беглые военные преступники, нацисты. И я намерен их найти!
– Ого, – сказал мистер Армбрестер. – Понял вашу идею. Такая сенсация взволнует всю страну, не так ли? Вы сможете выставить свою кандидатуру на пост губернатора или в сенат или… в общем, диктовать любые условия.
– Что тебе говорил этот мальчишка? – спросил мистер Гэнди. Но мистер Армбрестер заверил его, что я ничего такого не говорил.
Тогда принялись колошматить Лемюэла.
Это занятие утомительное. Никто не может разбудить Лемюэла, если уж его разморило и он решил вздремнуть, а таким разморенным я никого никогда не видел. Через некоторое время его сочли мертвецом. Да он и вправду все равно что мертвец: до того ленив, что даже не дышит, если крепко спит.
Папуля творил чудеса со своими приятелями Ферментами, он был пьянее пьяного. Его пытались отхлестать, но ему это вроде щекотки. Всякий раз, как на него опускали кусок шланга, папуля глупо хихикал. Мне стало стыдно.
Мамулю никто не пытался отхлестать. Когда кто-нибудь подбирался к ней достаточно близко, чтобы ударить, он тут же белел как полотно и пятился весь в поту, дрожа крупной дрожью. Один наш знакомый прохвессор как-то сказал, что мамуля умеет испускать направленный пучок инфразвуковых волн. Прохвессор врал. Она всего-навсего издает никому не слышный звук и посылает куда хочет. Ох уж эти мне трескучие слова! А дело-то простое, все равно что белок бить. Я и сам так умею.
Мистер Гэнди распорядился водворить нас обратно – он, мол, с нами еще потолкует. Поэтому Лемюэла выволокли, а мы разошлись по камерам сами. У мистера Армбрестера на голове осталась шишка величиной с куриное яйцо. Он со стонами улегся на койку, а я сидел в углу, поглядывал на его голову и вроде бы стрелял светом из глаз, только этого света никто не мог увидеть. На самом деле такой свет… эх, образования не хватает. В общем, он помогает не хуже примочки. Немного погодя шишка на голове у мистера Армбрестера исчезла, и он перестал стонать.
– Попал ты в переделку, Сонк, – сказал он (к тому времени я ему назвал свое имя). – У Гэнди теперь грандиозные планы. И он совершенно загипнотизировал жителей Пайпервилла. Но ему нужно больше – загипнотизировать весь штат или даже всю страну. Он хочет стать фигурой национального масштаба. Подходящая новость в газетах может его устроить. Кстати, она же гарантирует ему переизбрание на той неделе, хоть он в гарантиях и не нуждается. Весь городок у него в кармане. У вас и вправду был урановый котел?
Я только посмотрел на него.
– Гэнди, по-видимому, уверен, – продолжал он. – Выслал несколько физиков, и они сказали, что это явно уран-двести тридцать пять с графитовыми замедлителями. Сонк, я слышал их разговор. Для своего же блага – перестань укрывать других. К тебе применят наркотик правды – пентатол натрия или скополамин.
– Вам надо поспать, – сказал я, потому что услышал у себя в мозгу зов дедули. Я закрыл глаза и стал вслушиваться. Это было нелегко: все время вклинивался папуля.
– Пропусти рюмашку, – весело предложил папуля, только без слов, сами понимаете.
– Чтоб тебе сдохнуть, клейменая вошь, – сказал дедуля совсем не так весело. – Убери отсюда свой неповоротливый мозг, Сонк!
– Да, дедуля, – сказал я мысленно.
– Надо составить план…
Папуля повторил:
– Пропусти рюмашку, Сонк.
– Да замолчи же, папуля, – ответил я. – Имей хоть каплю уважения к старшим. Это я про дедулю. И вообще, как я могу пропустить рюмашку? Ты же далеко, в другой камере.
– У меня личный трубопровод, – сказал папуля. – Могу сделать тебе… как это называется… переливание. Телепортация, вот это что. Я просто накоротко замыкаю пространство между твоей кровеносной системой и моей, а потом перекачиваю алкоголь из своих вен в твои. Смотри, это делается вот так.
Он показал мне как – вроде картинку нарисовал у меня в голове. Действительно легко. То есть легко для Хогбена.
Я осатанел.
– Папуля, – говорю, – пень ты трухлявый, не заставляй своего любящего сына терять к тебе больше уважения, чем требует естество. Я ведь знаю, ты книг сроду не читал. Просто подбираешь длинные слова в чьем-нибудь мозгу.
– Пропусти рюмашку, – не унимался папуля и вдруг как заорет. Я услыхал смешок дедули.
– Крадешь мудрость из умов людских, а? – сказал дедуля. – Это я тоже умею. Сейчас я в своей кровеносной системе мгновенно вывел культуру возбудителя мигрени и телепортировал ее тебе в мозг, пузатый негодник! Чумы нет на изверга! Внемли мне, Сонк. В ближайшее время твой ничтожный родитель не будет нам помехой.
– Есть, дедуля, – говорю. – Ты в форме?
– Да.
– А малыш?
– Тоже. Но действовать должен ты. Это твоя задача, Сонк. Вся беда в той… все забываю слово… в том урановом котле.
– Значит, это все-таки он, – сказал я.
– Кто бы подумал, что хоть одна душа в мире может его распознать? Делать такие котлы научил меня мой прародитель; они существовали еще в его времена. Поистине, благодаря им мы, Хогбены, стали мутантами. Господи, твоя воля, теперь я сам должен обворовать чужой мозг, чтобы внести ясность. В городе, где ты находишься, Сонк, есть люди, коим ведомы нужные мне слова… вот погоди.
Он порылся в мозгу у нескольких человек. Потом продолжил:
– При жизни моего прародителя люди научились расщеплять атом. Появилась… гм… вторичная радиация. Она оказала влияние на гены и хромосомы некоторых мужчин и женщин… у нас, Хогбенов, мутация доминантная. Вот потому мы и мутанты.
– То же самое говорил Роджер Бэкон, точно? – припомнил я.
– Так. Но он был дружелюбен и хранил молчание. Кабы в те дни люди дознались о нашем могуществе, нас сожгли бы на костре. Даже сегодня открываться небезопасно. Под конец… ты ведь знаешь, что воспоследует под конец, Сонк.
– Да, дедуля, – подтвердил я, потому что и в самом деле знал.
– Вот тут-то и закавыка. По-видимому, люди вновь расщепили атом. Оттого и распознали урановый котел. Его надлежит уничтожить; он не должен попасть на глаза людям. Но нам нужна энергия. Не много, а все же. Легче всего ее получить от уранового котла, но теперь им нельзя пользоваться. Сонк, вот что надо сделать, чтобы нам с малышом хватило энергии.
Он растолковал мне, что надо сделать.