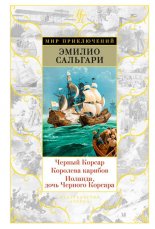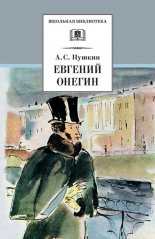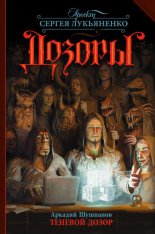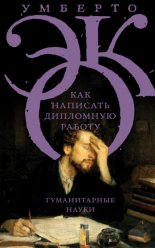Владимир Маяковский: тринадцатый апостол. Трагедия-буфф в шести действиях Быков Дмитрий

© Быков Д.Л.
© Vostock Photo, изображения
© ООО «Издательство АСТ»
Памяти Дэвида Фостера Уоллеса
Если они были настолько глупы, чтобы поддаться его дьявольщине,
то это их дело, и если они не переносят своих великих людей,
то пусть больше их не рождают.
Томас Манн Максимилиану Брантлю (1947)
–Сколько действий может быть в драме?
–Самое большее пять.
–У меня будет шесть.
Валентин Катаев. Трава забвения (из воспоминаний о Маяковском)
Море уходит вспять
море уходит спать
Владимир Маяковский. Неоконченное
Пролог
Христос был за всех нас распят, Пушкин за всех нас убит на дуэли, а Маяковский за всех нас застрелился.
Теперь нам можно этого не делать.
Все три случая укладываются в борхесовскую схему «самоубийства Бога» – один из четырех главных сюжетов мировой литературы. Револьвер Маяковского играет в его культе (существующем до сих пор независимо от советской власти) ту же роль, что крест в христианстве. В этом сопоставлении нет никакого кощунства – «культ» и «культура», в конце концов, слова однокоренные. Евтушенко посвятил этому предмету специальную главу в «Братской ГЭС» – «Револьвер Маяковского». Стихи показательные, в свое время мы о них поговорим, пока же нам важна их символическая судьба. Концовка во всех смыслах убойна:
- тот револьвер,
- испытанный на прочность,
- из прошлого,
- как будто с двух шагов,
- стреляет в тупость,
- в лицемерье,
- в пошлость:
- в невыдуманных —
- подлинных врагов.
- Он учит против лжи,
- всё так же косной,
- за дело революции стоять.
- В нем нам оставил пули Маяковский,
- чтобы стрелять,
- стрелять,
- стрелять,
- стрелять.
Пинать Евтушенко так же модно, как подкусывать Маяковского, поэтому воздержимся от эстетических придирок, но двусмысленность налицо: во-первых, никаких пуль нам Маяковский не оставил, поскольку пуля в барабане была одна. Он неоднократно играл с собой в русскую рулетку, и на этот раз был шанс, что обойдется, но логика судьбы оказалась сильнее случая. Во-вторых, хотел того поэт или нет, у него получилось, что сам Маяковский, завещая потомкам такое же поведение, выстрелил в «тупость, в лицемерье, в пошлость» – то есть убил все это в себе. Роковое несоответствие в том, что Маяковский выстрелил в себя, а у Евтушенко получается, что он завещал стрелять в других. Это опять-таки не кощунство, а бессознательная попытка приспособить культ к новой реальности, к оптимизму ранних 1960-х, – своеобразное обновленчество применительно к Маяковскому, попытка «переиграть в мажоре» его биографию и судьбу. Действительность, как всегда, не преминула подчеркнуть это несовпадение. Сам Евтушенко через сорок лет в стихах «Опять револьвер Маяковского» вспомнил, как во время чтения этой главы из «Братской ГЭС» «вбежала девчонка с пшеничными русыми косами, “Застрелен Джон Кеннеди” дико крича на ходу».
- Свинцовая куколка-пуля,
- ты дура, а жизни владычица.
- Судья только Бог,
- ну а ты самозванка-судья.
- А из револьвера —
- пусть даже Владим Владимыча —
- не надо достреливать пуль
- ни в других,
- ни в себя.
Любопытно, что это стихотворение Евтушенко подражает Маяковскому не только ритмически, но и, так сказать, иконически – оно сознательно или бессознательно отсылает к «Лучшему стиху»:
- Аудитория
- сыплет
- вопросы колючие,
- старается озадачить
- в записочном рвении.
- –Товарищ Маяковский,
- прочтите
- лучшее
- ваше
- стихотворение.
- <…>
- Пока
- перетряхиваю
- стихотворную старь
- и нем
- ждет
- зал,
- газеты
- «Северный рабочий»
- секретарь
- тихо
- мне
- сказал…
- И гаркнул я,
- сбившись
- с поэтического тона,
- громче
- иерихонских хайл:
- –Товарищи!
- Рабочими
- и войсками Кантона
- взят
- Шанхай! —
- Как будто
- жесть
- в ладонях мнут,
- оваций сила
- росла и росла.
- Пять,
- десять,
- пятнадцать минут
- рукоплескал Ярославль.
Все описанное – правда. Вопрос задала ярославская студентка Мария Базанова, ее мемуары опубликованы. Вечер прошел в Волковском театре 21 марта 1927 года. Телеграмму о взятии Шанхая зачитал начинающий поэт, главный редактор газеты «Северный комсомолец» Алексей Сурков, впоследствии автор «Землянки».
Сюжет «жизнь дописывает стихи и производит на аудиторию большее впечатление, чем они сами» в советской поэзии (и мемуаристике) не так уж редок вплоть до воспоминаний Светлова о том, как во время фронтового чтения «Гренады» в концерт вмешалась бомбежка и автор понял, что стихотворение затянуто. Поэзия в советской системе ценностей всегда капитулирует перед жизнью – хотя в реальности побеждает. «Лучший стих» помнят, поскольку это хорошо сделано, а о шанхайском восстании марта 1927 года (уже в апреле утопленном в крови по приказу Чан Кайши) знают сегодня только специалисты. Но для поэта такое вторжение реальности оказывается иногда спасительным: вместо трудного (а для Маяковского в 1927 году он действительно труден) ответа о лучшем стихотворении можно сорвать овацию сообщением об очередном завоевании революции.
В случае Евтушенко жизнь тоже вторглась в поэзию, дописав и переосмыслив поэтическую декларацию. Револьвер Маяковского не удалось сделать символом расправы с другими. Сама судьба этому противится, напоминая об опасности – и ущербности – насильственных решений; точно так же и христианский крест, вопреки всем усилиям старой и новой инквизиции, не удается сделать символом расправ. Маяковский остается великим напоминанием о том, что делать поэту, когда жить и писать дальше становится равносильно предательству; о том, как уничтожить себя, когда уничтожается дело, которому ты служишь. Это не для всех, разумеется, – как и жертва Христа не для всех. Это не для того, чтобы повторять: «Другим не советую», – сказано в предсмертном письме, а любимая книга Маяковского-подростка завершается словами еще более откровенными:
- Тише, тише, шалунишки,
- Пусть меня никто не тронет,
- Ибо только мне, король,
- Уготован этот подвиг.
Так обращался Сервантес к потомкам, дабы не трогали его пера, так, думаю, обратился бы и Маяковский к своему револьверу. И не зря ненаписанную книгу о нем – третью часть трилогии, начатой «Прогулками с Пушкиным» и продолженной «В тени Гоголя», – Андрей Синявский собирался назвать «Новый Дон-Кихот».
Действие первое
Выстрел
Первое вступление
Получилось так, что выстрел Маяковского – главное его литературное свершение. Пастернак: «Твой выстрел был подобен Этне в предгорье трусов и трусих». Цветаева: «Двенадцать лет человек убивал поэта. На тринадцатый год поэт встал и человека убил».
Исчезли штампы «Маяковский – поэт революции», «Маяковский – футурист» и «Маяковский – муж Лили и Осипа Брик» (о конкретном распределении ролей в этом треугольнике исследователи и досужие остряки написали горы текстов, причем серьезные сочинения зачастую смешнее острот, потому что острить-то, в общем, не над чем, никакого сексуального треугольника не было, а жизнь при чужой семье – без всяких эротических коннотаций – довольно обычное дело, как жизнь Тургенева при семье Виардо). На первый план вышла одна социальная роль: Маяковский – тот, кто застрелился. То, что эпоха поставила такой акцент (и это, вероятно, не навсегда), объяснимо: что делать, когда сделать ничего нельзя, когда любое сопротивление обречено, самоубийственно, притом жестоко-самоубийственно, потому что гибель предстоит медленная, унизительная, на посмеяние всем воздержавшимся? «У меня выходов нет»: ясно же, что Маяковский, как и почти все его окружение, был в 1930-е образцовым кандидатом на расправу и сам понимал это. Что делать, когда ничего нельзя сделать? Выстрел Маяковского представлялся оптимальным выходом для тех, кто в самом деле понимал ситуацию, а не знал ее понаслышке. Мы еще расскажем о том, как товарищ Победоносиков, главный персонаж и нагляднейшая персонификация эпохи, вкладывал ему в руку пистолет: русские писатели любят представлять себя в женском образе, полагая, вероятно, что так на них уж точно не подумают. Зоя Березкина, которая недострелилась, и Поля, отказавшаяся самоубиваться, – два самых точных автопортрета, попытка предсказать, избегнуть, заговорить.
Биография Маяковского, выстроенная им частью сознательно, а чаще интуитивно, – великий, в лучшем смысле традиционалистский текст, ориентированный на хрестоматийный образец Дон Кихота: культ Дульсинеи, немало тяготивший ее саму, презрение к прагматизму, бездомность, безбытность, одиночество, сражения со всеми встречными мельницами (многие из них потому только и уцелели в истории литературы, что на них со всем пылом набросился он), гордое противостояние насмешкам, искание героической гибели.
Судьбу своего поэтического наследия Маяковский отчасти предсказал (не предполагая, разумеется, посмертного культа, учиненного Сталиным пять лет спустя после его гибели): в лучшем случае большинство стихов будут восприниматься как «старое, но грозное оружие». Он был бы искренне счастлив, узнав, что анахронизмом сделалась его сатира, – так сатире и положено, если она действенна, но анахронизмом она сделалась лишь в одном отношении: что было для него патологией, отвратительным исключением из правил, для потомков стало нормой, не стоящей упоминания. То, что выводило его из себя, оказалось неискоренимой и почти уже обаятельной чертой русской жизни: грязь, тупость, воровство, бюрократизм – все это теперь ностальгически мило, ибо на фоне полной расчеловеченности даже такая мерзость глядится трогательным рудиментом. Так Присыпкин в стеклянном, стерильном будущем умилялся клопу. Лирика же – та, которую традиционно считают вершиной его наследия, выделяя один первый том из всего красного тринадцатитомника 1955–1961 годов, – странным образом поблекла. Отчасти это связано с общей девальвацией поэзии, утратой интереса к ней, переходом ее в маргинальный статус – но с любовной лирикой Цветаевой и Пастернака, с натурфилософией Заболоцкого ничего не сделалось, в то время как отыскать читателя, думающего о себе или признающегося в любви словами Маяковского, – задача почти нереальная. Связано это, видимо, с тем, что как раз эта лирика, которую считали аполитичной и вневременной, была предтечей, а впоследствии и частью советского проекта. Титанизм, сверхчеловечность, гиперболизм – все это советская эстетика, черты которой у Маяковского отчетливы уже в 1915 году. Не зря на Первом съезде писателей Горький разделывался с ним: «Говоря о поэзии Маяковского, Н.И. Бухарин не отметил вредного – на мой взгляд – “гиперболизма”, свойственного этому весьма влиятельному и оригинальному поэту».
Через год он уже будет «лучшим, талантливейшим», пока же – «влиятельный и оригинальный» (то и другое звучит не очень-то хвалебно). И вдобавок гиперболизм, который Горький жестоко высмеивает: что это еще за преувеличения? Что за гигантомания? Время требовало винтичности, будничности, – сверхчеловеческий революционный пафос быстро линял; впоследствии советский человек – а постсоветский и подавно – измельчал до крупы, привыкнув отождествлять все великое с большой кровью и жестокими катаклизмами. Он еще может сказать о себе: «С миром державным я был лишь ребячески связан» или «Мне хочется домой, в огромность квартиры, наводящей грусть», – но вряд ли повторит: «Какими Голиафами я зачат, такой большой и такой ненужный?» Во времена «маленьких трагедий» – а чаще «маленьких комедий» – как раз серьезная, интимная лирика Маяковского глядится вопиющим диссонансом: она была по росту потрясателям Вселенной, людям 1920-х и, может быть, 1940-х, но уже в 1960-х адаптировалась до быта, заурядного студенческого нонконформизма. Маяковский – универсальный бунтарь, которого не устраивает мироздание в целом, – никак не вписывается в рамки позднесоветского локального бунта против ржавеющей системы, и даже Бродский с его еврейским скепсисом и римским высокомерием соотносится с Маяковским, как зола с пламенем, что, разумеется, не снижает достоинств «Урании» или «Части речи».
Парадоксальную актуальность сохраняют как раз прикладные тексты Маяковского, которыми его попрекали больше всего: реклама, окна РОСТА, агитброшюры, политические стихи, выпады против коллег. Маяковский открыл тут великое множество риторических приемов, которые применимы к любой теме и пригодны во всякую эпоху. Слоганы, сатира, полемика – все это никуда не девается, и во всех этих сферах поэзия – действительно серьезное оружие. Маяковский им владел виртуозно – ничуть не хуже, а пожалуй, что и разнообразнее, чем традиционным лирическим арсеналом: если любовная его лирика зачастую казалась монотонной даже главной адресатке, то в отыскивании остроумных приемов политической риторики или поэтической полемики он поистине неутомим. Здесь ему нет и не было равных. И этот его опыт – пусть в чисто прикладном смысле, как «поэзия для поэтов» (так сам он определял Хлебникова), – сегодня востребован не меньше, чем тогда.
Так обстоит дело с творчеством, но собственно биография – дружба, вражда, любовь, ссора с временем, утрата среды, смерть – по-прежнему служит образцом истинно поэтической судьбы. Маяковский – классический образец поэта: суеверный до мании, беспрерывно испытывающий судьбу, уверенный в своей проклятости и неуместности, надежный в товариществе, ревнивый, завистливый в лучшем смысле, мнительный, страстный, неуправляемый, истеричный, дисциплинированный до фанатизма, когда дело касается работы, – он воплощает тот же тип гения, что и нелюбимые им эстеты, и сама его жизнь, манеры, словечки – все эстетизировано до предела, временами до гротеска. И те, кто сроду не выучит наизусть ни одной его строчки, те, кому ничего не говорят его циклопические поэмы, фальцет его лирики и бас советской оды, не могут устоять перед главным его творением: идеальной поэтической судьбой, бескомпромиссно выстроенной по высокому романтическому канону.
Так что никаких сплетен, нормальная текстология.
Четыре дня в апреле
Маяковский застрелился примерно в 10 часов 20 минут утра в понедельник 14 апреля 1930-го в своей комнате в Лубянском проезде, д. 3, кв. 12 из пистолета системы «маузер» модели 1914 года номер 312045 патроном калибра 7,65. Исследование бежево-розовой рубашки, купленной, согласно ярлыку, в Париже на площади Мадлен, проводилось 18 октября 1991 года и показало: выстрел был произведен почти в упор, справа налево, левой рукой. Выходного отверстия не было – пуля пробила сердце и легкое и застряла в мышцах спины.
Услышав негромкий, как из пугача, выстрел, актриса МХАТа Вероника Полонская, за четверть часа до этого приехавшая с Маяковским на Лубянку и теперь спускавшаяся по лестнице, бросилась обратно в квартиру. (Некоторые – скажем, В. Радзишевский, – полагают, что он застрелился в ее присутствии, стоя перед ней на коленях; она в ужасе выбежала из комнаты и только потом вернулась.)
Так или иначе, она выскочила оттуда с криком «Спасите!», схватившись за голову. Домработница соседей Маяковского, супругов Большиных, двадцатитрехлетняя Наталья Скобелева и другой сосед, электромонтер Николай Кривцов, вошли в комнату и увидели, что Маяковский лежит на полу головой к входной двери с огнестрельной раной в груди, с открытыми глазами. Кривцов побежал за санитаркой Лидией Райковской, жившей в квартире напротив. Она метнулась в комнату Маяковского, приложила к его груди мокрое полотенце, тут же побежала к себе за камфарой и сделала ему укол. «Он лежал на полу головой к двери, а к окну ногами, между ног – револьвер. Я быстро убрала револьвер на письменный стол и, наклонившись к нему, повторяла: “Владимир Владимирович, скажите что-нибудь… Скажите что-нибудь…” Он делал движения руками и ногами, как будто хотел подтянуться. В открытых дверях стояли соседи, но в комнату никто не входил. Как только я снова приложила полотенце, Владимир Владимирович еще раз потянулся, потом я услышала в груди хрип. Я стала пробовать пульс, но у меня так сильно бился собственный, что он все заглушал. Но один сильный удар я почувствовала. Тогда я поняла, что все кончено…» (из рукописных воспоминаний Райковской, хранящихся у Григория Розинского).
Кривцов от Райковской вызвал скорую, Полонская пошла встречать ее во двор. Врач приехал через пять минут, следом – почти сразу – представители МУРа и участковый милиционер. Врач констатировал смерть и спросил: «Как это случилось?» Скобелева ответила, указывая на Полонскую: «Вот эта гражданка с ним вошла, он был с этой гражданкой». «Я приехала с ним, – возразила Полонская, – и уже ушла, когда он выстрелил. Я вернулась». «Неправда, – сказала Скобелева, – вы оттуда вышли через две секунды после выстрела и закричали “спасите”». В протоколе допроса Скобелевой, который вел следователь Мособлпрокуратуры Сырцов, написано «сикунды», а сама Скобелева названа Скобиной. После этого Полонская спустилась на Лубянку и поймала такси. Она уже сидела в машине, когда следом за ней выбежал заметивший ее отсутствие сосед Маяковского студент-химик Большов. «Я еду в театр, мне надо на репетицию», – сказала ему Полонская. Он попросил ее адрес, она назвала его и уехала во МХАТ репетировать пьесу «Наша молодость», инсценировку романа Виктора Кина «По ту сторону». Вообще получается Хармс: когда Маяковский застрелился, актриса МХАТа выбежала из комнаты и закричала «Спасите!», электромонтер Кривцов вызвал скорую помощь, домработница Скобелева превратилась в Скобину и сказала «вот эта гражданка», бабушка Спиридонова спилась и пошла по дорогам, Круглов нарисовал даму с кнутом и сошел с ума… «Хорошие люди и не умеют поставить себя на твердую ногу». Трагедия Маяковского и есть трагедия футуриста в обэриутском мире: он понял свою неуместность и исключил себя из него. Если бы он читал газетные статьи, которыми его провожали, и доносы осведомителей, выслушивавших писательские сплетни! И особенно протоколы (скажем, допрос домохозяйки Надежды Гавриловой, которая жила в соседней, 10-й квартире и брала у Маяковского белье в стирку: «Бывший муж Брик Осип Максимович был также мужем – зачеркнуто – другом Маяковского»)… «Если бы он видел, что началось после, он бы не застрелился», – повторяла Лиля Брик.
Дежурный следователь Синев и дежурный врач Рясенцев осмотрели квартиру и труп: «Губы, уши, кисти рук темно-синего цвета. На груди на три сантиметра выше левого соска имееться (так!) рана круглой формы диаметром около двух третей сантиметра. Окружность раны в незначительной степени испачкана кровью. Выходного отверстия нет. С правой стороны на спине в области последних ребер под кожей прощупываться (так!) твердое инородное тело не значительное по размеру. Труп одет в рубашку желтоватого цвета с черного цвета галстухом (бантиком)».
Застрелился в бабочке, как и выступал.
Маузер был изъят ОГПУ. В ящиках стола нашлись три пачки денег в банковских упаковках – 1000 рублей и две по 500. В пакете с надписью «Ольге Владимировне Маяковской» лежали 50 рублей. В том же столе – золотой перстень с бриллиантом и подаренное Лилей кольцо: они обменялись массивными золотыми перстнями в 1916 году, на ее перстне «ЛЮБ», на его – симметричные, друг над другом, буквы WM. В пиджаке нашлись еще 63 рубля 82 копейки.
Около двух часов дня тело Маяковского перевезли в Гендриков переулок, на последнюю его квартиру. Туда сразу же приехали чекист Яков Агранов (начальник секретного отдела ОГПУ, в недавнем прошлом любовник неуемной Лили), киноредактор Лев Гринкруг (друг дома с дореволюционным стажем), заведующий Центропечатью Борис Малкин, Александр Родченко с женой Варварой Степановой, редактор «Комсомольской правды» Андрей Троицкий, Сергей Третьяков с женой Ольгой, Юрий Либединский, глава «Жургаза» Михаил Кольцов, потом пришли Семен Кирсанов, Борис Пастернак, Юрий Олеша. Толпились в комнате. Потом их всех попросили выйти, и из комнаты донеслись глухие удары – вскрывали череп, мозг был отправлен в недавно созданный Институт мозга для лабораторного исследования: советская власть еще надеялась искусственно выводить гениев и для этой цели изучала устройство их мозговых извилин.
Вечером в театре Мейерхольда шла «Баня». Перед спектаклем завсектором искусств Наркомпроса Феликс Кон сказал короткую речь. Мейерхольд был в Берлине, Брики – в Лондоне. В девять утра на улице Воровского, ныне опять Поварской, в доме 52 выставили большой красный гроб, в головах укрепили черный креповый квадрат. Уже к половине одиннадцатого в очереди от Воровского до Кудринки стояли три тысячи человек. Начальник 3-го отделения оперативного отдела ГПУ Грундман докладывал: «Из числа присутствующей публики 2–3 % рабочих, 5–7 % интеллигенции, хорошо одетых мужчин и женщин, а остальные – учащаяся молодежь. Стоящие в очереди ведут полушуточные разговоры на отвлеченные темы».
А в 18 часов 15 минут в доме 20 по улице Гороховской, в квартире 38, Елизавета Александровна Антонова, домашняя хозяйка двадцати шести лет, застрелила свою четырехлетнюю дочь и застрелилась сама. На столе остались две записки:
В смерти своей никого невеню. Алек прости не вини. Елизавета.
Прошу любопытных не пускать глазеть на нас. Похороните по граждански, если можно в кремацию. Елизавета.
Рядом на столе лежала «Правда» с сообщением о самоубийстве Маяковского.
Соседка по квартире, домохозяйка Филитис, сообщила, что она на кухне спросила Антонову, читала ли она о самоубийстве Маяковского. Та сказала, что нет, и пошла к себе в комнату. Филитис заглянула к ней и увидела, что Антонова держит револьвер: «Я сказала, что ты делаешь, и в это время она повалилась на диван».
Муж Антоновой служил в редакции «Рабочей Москвы». Как сказано в протоколе, он «по данному делу не допрошен ввиду психического расстройства». Антонову и ее дочь в одном гробу кремировали в тот же день, что и Маяковского. Есть предположение – его высказывает составитель сборника «В том, что умираю, не вините никого. Следственное дело Маяковского» С. Стрижнева, – что запись Маяковского «Дочка» в записной книжке относится именно к ребенку Антоновой. Но в том же 1926 году, когда родилась дочь Антоновой, он узнал о рождении дочери Елены, она же Хелен Патриция Джонс. Трудно допустить, что известие о смерти Маяковского так подействовало на полуграмотную, судя по запискам, жену издательского работника, которую с мертвым поэтом ничего не связывало. Но убивать ребенка и кончать с собой – даже если Маяковский действительно был отцом девочки… Тут какая-то тайна, лишний раз доказывающая его скрытность, тайна едва ли не самая жуткая в его биографии; и ничего мы никогда не узнаем, потому что все кануло, все сгорело. Брик знала, что Антонову будут кремировать в один день с Маяковским, что такова была ее просьба, – и не воспрепятствовала.
На выставке в тот день дежурила Лиля Лавинская, старый его товарищ по ЛЕФу и – гипотетически – мать еще одного внебрачного ребенка: Глеб-Никита Лавинский, ее сын, отличный скульптор-монументалист, был на Маяковского необыкновенно похож. Да и в воспоминаниях Лавинской, там, где речь идет о Лиле, чувствуется слишком личная ревность; Лиля даже возмущалась тем, что этот текст хранится в музее Маяковского. Около одиннадцати муж Лавинской, Антон, позвонил ей:
– Володя застрелился.
– В какой он больнице?! – закричала она.
– Совсем застрелился.
Она вошла в выставочный зал. Там все как ни в чем не бывало рассматривали экспонаты и спорили по углам.
– Товарищи, Маяковский застрелился, – тихо сказала она.
Никто не услышал.
Она повторила громче.
– Слышал я эту первоапрельскую шутку, – сказал кто-то. – Его вчера Роскин видел у Катаева.
Лавинская бросилась в Лубянский проезд.
– Вынесли уже, – сказала ей женщина из небольшой толпы у двери. – Такой большой был…
В семь вечера пришла домой Луэлла Краснощекова, тогда уже Варшавская, – дочь бывшего замнаркома финансов, а тогда – сотрудника Наркомзема Александра Краснощекова, с которым у Лили был в прошлом серьезный роман. Когда Краснощекова арестовали (и вскоре по Лилиным хлопотам выпустили), Луэлла жила в семье Брик, рассматривалась всеми как младшая родственница и Маяковского звала запросто Володей. С утра по дороге в парикмахерскую – вечером предполагались гости – она видела на Лубянке ораторствовавшего с фонарной тумбы Алексея Крученых; вокруг клубилась небольшая толпа. «Совсем Круч с ума сошел», – подумала она. Была потом у зубного врача, и он сказал, что Маяковский вроде опять разболелся. Она позвонила на Гендриков, ответил чужой голос, она попросила Маяковского, трубку положили. Наконец она вернулась домой. Квартира, обычно довольно светлая, почему-то показалась ей сумрачной. Гостей не было.
– Аля, – спросила она отца, – где все? Что ты купил?
– Ты что, ничего не знаешь?
– Опять у тебя ничего не готово, – сказала она и пошла мыться.
– Луэлла, – сказал Аля. – Володя застрелился.
– Ничего не понимаю, – сказала она. – Где Дима?
Дима был его брат.
– Он звонил, они не придут.
– Почему не придут? Что такое?
– Володя застрелился, – повторил Аля.
– А где все? – спросила она. Она так ничего и не могла понять.
– Пойдем на Гендриков, – сказал ее муж.
– Зачем на Гендриков? Почему на Гендриков?!
…Там была толпа, не пройти. Аля кричал: «Пропустите племянницу Владимира Владимировича!» Их провели в квартиру. Луэлла вошла в комнату Маяковского, увидела его и упала прямо у двери.
В это время на Лубянке допрашивали Полонскую. «По приезде в театр репетироваться я не могла и просила чтобы меня отпустили. Ходила во дворе театра и ждала мужа который должен был приехать в 11-ть часов. По приезде его я ему рассказала обо всем происшедшем и позвонила по телефону маме, чтобы она приехала за мной. В-скорости приехала мать, с которой я поехала на ее квартиру – Мал. Левшинский пер. д. № 7, кв. 18, откуда меня и пригласили приехать обратно на Лубянку в квартиру МАЯКОВСКОГО. За все время знакомства с МАЯКОВСКИМ в половой связи с ним не была хотя он (все время – зачеркнуто) настаивал, но этого я не хотела».
Муж Полонской Михаил Яншин три дня спустя писал под наблюдением следователя Сырцова: «Вл. Вл. был самым “джентльменистым” (если так можно выраз.) самым обходительным внимательным вообще более порядочного что ли человека трудно было найти. Это я утверждал гораздо раньше и утверждаю котигорически сейчас. Итак в обществе Вл. Вл. нам было всегда очень приятно бывать. Мне и Норе (моей жене) было приятно бывать часто с человеком душевно сильным и здоровым лишенным всяких “мерехлюндей” и меланхолей, что часто встречалось в среде других людей, нас окружавших. Человек в жизни “пер” один. Шел упорно. Часто В.В. говорил, что у меня нет печати, нет рецензий, нет под держки должной, нет словом тех средств, которые помогают многим людям расти из “ничего”. Меня больше слышат, чем читают обо мне. <…> Товарищи! Не отбрыкивайтесь любовной интрижкой. Не трудно забросать, залягать и заплевать большую сложную трагедию внутренних переживаний Владимира Маяковскаго привесив к ней ярлычек из ТЭЖЕ[1]. Не трудно подмять под себя и топтать молодую еще совсем молодую женщину, спасая собственные шкуры. Я котегорически утверждаю, что никакой любовной интрижки нет и не было. Когда меня спрашивают, а чем вы можете объяснить, то что он включил ее в свою семью в письме, как ни тем что он был с ней в более близких отношениях, т-е другими словами хотят сказать что ведь он же ей платит, так за что же? Я могу ответить только одно, что люди спрашивающие такое или сверх’естественные цыники и подлецы или люди совершенно не знающие большого громадного мужественного и самого порядочного человека Владимира Маяковского».
15 и 16 апреля Полонская играла на сцене МХАТа в только что поставленной Станиславским переделке французской мелодрамы «Две сироты» Деннери и Кормона – в новой редакции Владимира Масса пьеса называлась «Сестры Жерар». Она играла Луизу Жерар, сироту, лишившуюся зрения, разлученную с сестрой и вынужденную заниматься попрошайничеством под надзором профессиональных нищих. Сохранились свидетельства, что играла она с большим подъемом.
После извлечения мозга скульптор Луцкий был допущен в гендриковскую квартиру – снимать маску. Он был неопытен, плохо смазал лицо вазелином, сорвал кожу со щеки и переносицы (отсюда и пошел слух о том, что к Маяковскому был подослан убийца, он сопротивлялся и в драке ему рассекли щеку). После Луцкого приехал Сергей Меркуров, снимавший маски почти со всех великих литераторов. Он все сделал правильно. Шкловский пишет, что некто (уж не он ли сам?) спросил Меркурова, правда ли, что он снимал маску с Толстого.
– Правда, – сказал Меркуров.
– И как?
– Мешала борода.
Олеша вспоминал, как вечером вез гроб Маяковского в писательский дом. Он стоял в грузовике, гроб был свежевыкрашен, к пальцам липла красная краска. Было холодно, и высоко светила маленькая апрельская луна.
Агент «Арбузов» докладывал Агранову:
Сообщения в газетах о самоубийстве, романическая подкладка, интригующее посмертное письмо вызвали в большей части у обывательщины нездоровое любопытство. И народ валом повалил с утра 15/IV на Поварскую.
Разговоры и сплетни среди публики наивны, пошлы, нелепы, и на них останавливаться нет смысла.
Разговоры в литер. – худож. кругах значительны.
Романтическая подкладка совершенно откидывается. В Маяковском произошел уже давно перелом, и он сам не верил в то, что писал, и ненавидел то, что писал.
Лиля дала телеграмму из Берлина с просьбой отложить кремацию до ее приезда, сообщила, что будет 17 апреля.
С утра 17 апреля к Дому Герцена выстроилась громадная очередь – через Кудринскую площадь, через всю Никитскую. Гражданскую панихиду открыл Артемий Халатов, директор ГИЗа, тот самый, который распорядился вырезать портрет Маяковского из апрельского номера «Печати и революции»: в приветствии журнала Маяковский был назван «великим революционным поэтом» – это что еще за титулы?! Речь с балкона сказал Константин Федин. Говорили Авербах, потом Третьяков – он сказал, что неправильно называть это событие панихидой, Маяковский употреблял это слово только иронически. Кирсанов прочел финал поэмы «Во весь голос». Около пяти вечера вынесли закрытый гроб, поставили на грузовик «паккард». За руль сел Михаил Кольцов («Разгрустившийся Кольцов трет калачиком лицо» – из пророческой эпиграммы 1929 года). Водил он плохо, за рулем грузовика сидел впервые, резко рванул и заглох. Его сменили, и в крематорий он приехал («с толпой родственников и знакомых», – ехидно замечает очевидец) на легковой машине.
Из гроба торчали ботинки с железными набойками – они запомнились почти всем, кто стоял в карауле. Корнелий Зелинский вспомнил, как хвастался этими ботинками Маяковский – «Сносу не будет!» – и думал о том, что теперь эти набойки расплавятся в крематории и смешаются с его пеплом. Потом, уже выходя из крематория, он встретился в темноте с Пастернаком, и тот сказал: «Как много было огня – и как мало осталось пепла!»
Точного числа пришедших проститься никто не назвал: ежедневно к Дому Герцена приходили десятки тысяч. Сотрудник ЦИКа Михаил Презент, автор подробного дневника о событиях тех лет, поехал в Кремль к Демьяну Бедному и рассказал ему о прощании. «Хватит, – сказал Демьян, – не то буду завидовать». – «Уже», – ехидно записал Презент.
Такого ажиотажа никто не ожидал. Луэлла вспоминает, что не видела столько людей ни на одной демонстрации. Говорили, впрочем, что Маяковский тут ни при чем: агент «Арбузов» зафиксировал мнение, что если бы выставили гроб серийного убийцы Комарова, который с 1921 по 1923 год угробил больше тридцати человек, причем суммарная выручка составила порядка 30 долларов по тем деньгам, – пришло бы не меньше. Всё просто: тогдашняя жизнь была бедна новостями, о большинстве событий узнавали по слухам, а тут – сенсация. Застрелился главный «их» поэт и рупор, причем от разочарования в «них» же. Плюс любовная интрига. Ужасно интересно. Чувство у большинства было двоякое: с одной стороны – любопытство и даже уважение. Нашелся один, который дал всем понять, что так дальше жить нельзя. А с другой стороны – все-таки злорадство: как весну человечества… рожденную в трудах и в бою… кто не с нами, тот против нас… И пожалуйста – застрелился. Сам же первый показал, что ничего у них не вышло. За рубежом, среди эмигрантов, господствовали те же ощущения, и не сказать, чтобы второе преобладало.
Но вообще аналогия точная. На серийного убийцу пришли бы смотреть по той же причине: подспудное хлестануло наружу. Ненависть и страх зрели, как гнойник, и ненависть была замешена на страхе. Маяковский сделал то, что хотелось сделать всем. Точнее, он это совместил. Выстрелил – потому что сколько можно терпеть? – и умер, потому что винить, в общем, некого. Только себя. Сами, всё сами.
С этого выстрела и начался его культ. О самоубийстве мечтали многие, что и зафиксировал Эрдман в своей главной пьесе, – и многие решались, но преобладающее большинство избрало жалкенькое: «Все строительство наше, все достижения, мировые пожары, завоевания – всё оставьте себе. Мне же дайте, товарищи, только тихую жизнь и приличное жалованье. С первого дня революции мы ничего не делаем. Мы только ходим друг к другу в гости и говорим, что нам трудно жить. Потому что нам легче жить, если мы говорим, что нам трудно жить. Ради бога, не отнимайте у нас последнего средства к существованию, разрешите нам говорить, что нам трудно жить. Ну хотя бы вот так, шепотом: “Нам трудно жить”. Товарищи, я прошу вас от имени миллиона людей: дайте нам право на шепот. Вы за стройкою даже его не услышите. Уверяю вас. Мы всю жизнь свою шепотом проживем».
Маяковский шепотом не умел.
В траурной процессии ехал и «рено» Маяковского, в нем везли Бриков. «Автомобиль покойника вели под уздцы», – хохотал впоследствии Демьян. В Донском крематории в почетный караул первыми встали приехавшая ранним утром Лиля, Осип Брик и Яков Агранов. Лиля многим казалась беременной из-за покроя нового заграничного платья. Говорили, что Полонской она запретила приходить на похороны: «Не омрачайте родным Володи прощание с ним. Ведь они вас считают причиной его смерти». Но даже если бы Полонская ослушалась, они с Яншиным не могли бы поспеть ни на панихиду, ни на кремацию: их весь день продержал у себя следователь Сырцов (как говорили, нарочно, чтобы помешать им проститься с Маяковским: вряд ли, впрочем, возможности Лили простирались так далеко).
Ровно в 7 часов 40 минут гроб по рельсам въехал в печь. Крематорий был экзотикой, посмотреть на сожжение пустили немногих избранных. Демьян Бедный рассказывал, что видел в глазок, как обуглилась голова. На обратном пути он в личном автомобиле с персональным шофером подвез Халатова к ГИЗу и крикнул ему вслед: «Береги теперь меня, я у тебя один остался!»
Стоило стреляться, чтобы Демьян считал себя единственным оставшимся советским поэтом!
Он же потом рассказывал: «Поэт был слабый… Я его недолюбливал, но если он хотел своим выстрелом сделать удовольствие мне, то он ошибся».
Вспоминали разное, выстраивали версии. Говорили, что на диспуте в Доме печати, где обсуждалась «Баня», бывший лефовец Михаил Левидов сказал Маяковскому: «Вы человек конченый», – и тот не возразил. Опубликованная в 1937 году в первом полном собрании Маяковского стенограмма выступления в Доме печати никаких ответов на подобную реплику не содержит, а полная запись утрачена (или вовремя уничтожена, чтобы последний публичный диспут Маяковского не выглядел полным его поражением). В числе причин самоубийства – ссылаясь на предсмертную записку, где упомянут проклятый налог, – называли особенно тяготившие его визиты фининспектора; предполагали, что если бы налог снимали не раз в году, когда набегает большая сумма, а в несколько приемов, понемножечку, он бы, глядишь, и не застрелился.
Беспризорные пели на мотив «Товарищ, товарищ, болят мои раны»:
- Товарищ правительство, корми мою маму,
- корми мою Людочку-сестру,
- В столе лежат две тыщи,
- их фининспектор сыщет,
- а я себе тихонечко помру.
Говорили, что если бы Маяковский это услышал – не стрелялся бы. Мне же, напротив, кажется, что он счел бы это успехом: слово, которое уходит в народ, – точное слово.
В середине июня Полонской позвонили из Кремля и предложили явиться для переговоров о наследстве. Предварительно она посоветовалась с Лилей.
– Я вам советую от всех прав отказаться, – сказала Лиля. – Вы ведь даже не были на похоронах.
Вероника хотела возмутиться – кто, как не Лиля, отсоветовал ей быть на похоронах? – но промолчала. Во ВЦИКе ее спросили: Владимир Владимирович сделал вас своей наследницей, как вы на это смотрите?
– Вопрос этот сложный, я думала, вы мне поможете разобраться.
– Гм. Ну, может, хотите путевку куда-нибудь?
Полонская была так потрясена, что не нашла ответа. Ее вызывали еще пару раз, но так ни к чему и не пришли, и дело с наследством замяли. Яншин год спустя ушел от нее к цыганке Ляле Черной.
Удивительно, что на смерть Маяковского не было написано почти ни одного хорошего стихотворения; поэтические реквиемы Пастернака («Не верили, считали: сплетни…») и Цветаевой («В башмаках, подкованных железом…») не составляют исключения.
Хотя – что тут удивительного? Все возможные стихи на смерть Маяковского двадцать лет подряд писал он сам – собственно, ничем другим не занимался, периодически только отвлекаясь на всякие «Окна РОСТА».
Да и не было уже в 1930 году ни одного стиля, ни одной литературной манеры, в которой можно было бы написать поэтический реквием. Либо что-нибудь громыхающее на тему «Жизнь продолжается», либо романсовое, особенно ему ненавистное, – «Ни слова, о друг мой, ни вздоха». Но даже на фоне этого общего фальшивого тона стихотворение Ильи Сельвинского являет собой нечто исключительное:
- Я был во главе отряда,
- Который с ним враждовал,
- И значит – глядеть на взорванный вал
- Должно быть моей отрадой.
- Я вел от края до края
- Атаки на каждый холм:
- Недаром последним его стихом
- Была на меня эпиграмма.
- И когда неприятельский вождь,
- Как последней бурею – смертью ахает,
- Я должен был бы сказать: «Ну что ж,
- Труп врага хорошо пахнет».
- <…>
- Д’постойте… О чем бишь я… что ж это такое?
- Маякоша… любимейший враг мой, а?
- Неужели на черный титул «покойный»
- Огневое «товарищ» сменил наш Маяк?
- И стало в поэзии жутко просторно,
- Точно вывезли широченный шкап.
- Из-за какой-то размолвки вздорной?
- Из-за неласкового ушка?
- Что ж это, а? И ты как любой?
- Как же так мир перечеркнули бровки,
- Если ты,
- Владимир
- Маяковский,
- Революции
- первая
- любовь…
- Но я твое пробитое сердце
- Прижму к своему с кровавой корой.
- Я принимаю твое наследство,
- Как принял бы Францию германский король.
Дальше он там обещает объединить, так сказать, их поэтические армии и пустить в общую битву за коммунизм. Господи помилуй, какой он тебе Маякоша?! Да, товарищи, сменил, сменил, так сказать, наш Маяк звание «товарищ» на титул «покойный»; нехорошо, товарищи! Боже мой, каким отсутствием такта, слуха, вкуса, каким самомнением надо было обладать, чтобы объявить себя наследником, к тому же победителем в ранге короля! Бог не Тимошка, видит немножко: Сельвинский, со всей своей одаренностью, с замечательной «Улялаевщиной» – единственным, вероятно, удачным советским эпосом, – оказался забыт еще при жизни и ныне со всеми своими «Пушторгами» и «Командармами» воспринимается как поэтический курьез, да еще предательство Пастернака ему припоминают («Когда толпа учителя распяла, пришли и вы забить свой первый гвоздь», – припечатал Михаил Левин). Посмертная месть Маяковского всем, кто решил, что теперь-то он уж точно не ответит, была ужасна. Есть у него и у мертвого кое-какие возможности…
Сельвинскому сразу стали намекать, что он перегнул палку («Мне сильно влетело от общественности, и, надо сказать, совершенно справедливо», – вспоминал он в 1963 году), – и на это он обиделся окончательно. 5 ноября 1930 года он опубликовал в «Литгазете» «Декларацию прав поэта», совершенно уже за гранью добра и зла:
- Мне противна поза поэта,
- Страдающего бронзовой болезнью
- И вымучивающего поэтому
- Свою биографическую лестницу.
- Меня в ту пору, когда бродят усы,
- Очередной импресарио
- Не выводил на эстраду под уздцы
- В роли дрессированного «зарева»…
- <…>
- А вы зовете: на горло песне!
- Будь ассенизатор, будь водолив-де!
- Да в этой схиме столько же поэзии,
- Сколько авиации в лифте!
Далее автор воздает должное агитке, но время агитки – «пулемета» – прошло: «Требуется биплан, требуется крейсер!» Оценивая собственный поэтический опыт, он скромно замечает:
- Это, брат, не ниже, чем плакатный столб
- С беспредметным гонгом «Вперед, Время!».
- Эпохе прикажешь: «Время, вперед!»
- Раскроешь дверцы калиток…
- А время задом вперед попрет,
- Как Гегель к заре Гераклита.
(Какой ужасно образованный, постигший тонкости диамата лирик! В советской литературе конца 1920-х много было такого философского панибратства – Гегель попер к Гераклиту и наоборот. Маяковский-то диалектику учил не по Гегелю, Сельвинский и тут его превзошел.)
Это было бы даже и пророчеством, пожалуй, если бы такое ракоходное время не получало авторского одобрения и оправдания: иногда, оказывается, надо назад, и долг поэта – обслуживать эти прихоти эпохи, а не переть в единожды избранном направлении: «Не суйся ж быть ее автором, а будь при ней акушером». Слова «Взамен языка диалектики не рычи диалектом жандарма» вызвали ярость Бриков и негодующее протестное письмо Асеева; Сельвинский сдал назад и в книги включал радикально переписанный вариант. Но слово-то не воробей, топором не вырубишь.
И финал, конечно:
- Резолюция ж, товарищи, как покойник:
- Выносят – шумят, а вынесли – забыли.
Намек ясен, и, как ни ужасно, – тут он оказался пророчески прав, как и Бабель, считавший, что Маяковского уже через полгода «замолчат». Вячеслав Полонский – другой литературный враг Маяковского и по странному совпадению однофамилец его последней возлюбленной, – записывал в дневник 2 марта 1931-го: «Это поразительно, как быстро забыли Маяковского. Года еще нет, – а он позабыт, как будто его и не существовало. Был он, нет его – не все ли равно». И хотя в этом дневнике, когда речь заходит о Маяковском, масса грубых, обидных, а то и нарочито унизительных оценок, автор по крайней мере понимает, о ком говорит. И главное – он Маяковского помнит.
Враги-то и помнили его лучше всех – кажется, потому, что не могли отказать себе в удовольствии назвать Маяковского «покойным». Да, помним, да, скорбим – но вспоминаем главным образом для того, чтобы порадоваться: нет больше Маяковского, вынесли шкаф. (Правду сказать – сравнение очень уж нелицеприятное: легче же становится, просторнее, когда вынесли старую громоздкую мебель! Пусто – но как свободно!) И злобится Сельвинский на самом деле по очевидной причине: вот нет Маяковского – а он все равно не первый, не главный, не самый нужный! Он потому и пишет «Декларацию прав поэта», что хочет доказать: нужен, нужен поэт! И этот поэт – Я: Я первый нашел, как надо теперь писать, обозначил поворот эпохи от агитки к эпосу, Я крейсер, дредноут, занял пустующий Олимп и принял наследство… Дудки. Если уж его не надо, то тебя и подавно.
Дневник Лили напечатан только частично, однако записи за 1930 год обнародованы, и в них не заметно особого перехода: и до смерти она его любит, и на него досадует, и после воспринимает как живого. Правда, именно из этого дневника особенно ясно, что она – совсем не то, что было ему нужно в то время: она живет литературными новостями, борьбой (которая свелась теперь к поединку амбиций), сплетнями. А ему хотелось дома – но чувство дома в Гендриковом создавала только домработница Прасковья Кочетова, оставившая о Маяковском пронзительные устные мемуары: суть их сводится к тому, что Лиля Юрьевна никогда ни о ком не заботилась, а Владимир Владимирович – всегда обо всех:
На работу нас принимал сам Владимир Владимирович, все вообще сам делал – деньги на расход выдавал, сам нашел меня у знакомых. Лиля Юрьевна у нас была как гостья. Даже когда гости бывали, Лиля Юрьевна никаких обедов не заказывала, ничего, все он. С утра дает мне деньги на расход, дня на два, иногда на три: ну, по 50 рублей давал, по 75. За все расходы мы платили, все из его рук текло. И сам он нам жалованье платил обеим – по расчетным книжкам, платил всегда точно. <…> Утром беру деньги и еду в Охотный ряд. Колбасу языковую, икру, что он любит, покупаю и еду сюда. Водочку я редко покупала, он ее не пил, а больше у нас шло вино «Ореанда» – белое и красное.
У Лили Юрьевны никакого внимания к нему не было, чтобы вот проводить его, – что он уезжает в дальнюю дорогу, чтобы что-нибудь обеспечить, сделать. Никогда ничего. Вот он встанет, походит, видит – половина двенадцатого, скоро ему уезжать. Она еще не встала. Он стучит ей в дверь: «Лиля – деньги!» Он ей всегда оставлял деньги. А она к нему относилась не очень-то хорошо. Он ее очень любил. Так любил, что я это и не знаю. Цветы ей приносил. Когда он уезжал куда-либо, ему никаких проводов не было. А когда уезжал Осип Максимович один раз при мне по Волге кататься, совсем по-другому было. На мне просто эти шаги отразились. Лиля Юрьевна ни с Владимиром Владимировичем, ни с Осипом Максимовичем не жила, они были просто товарищи. Но, по-видимому, она Осипа Максимовича уважала больше, чем Владимира Владимировича. Она дня за три сказала, что Осип Максимович едет на Волгу кататься, что надо ему белье приготовить.
Ни разу я не видела, чтобы она его поцеловала, никогда он не ночевал у нее, не сидел в ее комнате ночью. На даче как-то один раз она его взяла просто пройтиться. И так он был доволен, что она с ним прошлась! Это удивительно! Я говорю: «Ну, Владимир Владимирович с Лилей Юрьевной прошелся. На такую высоту поднялся!» И в театры она не ходила с ним.
Вот так он ее любил. А она его никогда не согревала теплом.
Здесь его анатомировали. Сколько у нас тазов попортили, кувшинов; вынимали мозг; начали с утра и продолжали работать до половины двенадцатого. А потом повезли и поставили в красный уголок.
Лили Юрьевны не было, она была за границей. Ни слова не поговорила с нами. Приехала. Я думала, что она после него жить не будет, – я-то как предполагала, когда ее не было тут. А когда она приехала, я посмотрела: у нее и горя-то особенно тусклого не было. Осип Максимович тоже не так был расстроен. Никак на них не отразилось особенно.
Но отразилось, конечно.
4.6.30. Приснился сон – я сержусь на Володю за то, что он застрелился, а он так ласково вкладывает мне в руку крошечный пистолет и говорит: все равно ты то же самое сделаешь[2].
7.6.30. Плачу из-за Володи и из-за себя – это то же самое.
9.6. Очень одиноко. Застрелилась бы сегодня, если б не Ося.
Всю ночь снился Володя: я плакала, уговаривала не стреляться, а он говорил, что главное на свете это деньги, что без денег не стоит жить.
И следом: «Жаль, что Володик не увидит новую квартирку!»
Если что и бесит в ее записях, то все эти «автомобильчики», «квартирки» и пр.
Никому ничего от меня не нужно. Застрелиться? Подожду еще немножко.
«Лиля люби меня». Я люблю.
Я абсолютно согласна с политикой Сталина[3].
Соскучилась по Володику, давно очень не видела.
Волосит, люблю тебя. Когда же ты приедешь? До чего же хочется поговорить про Бульку, про больного котенка на дворе, про Гиз, про Кармен. Люблю тебя, Щенит мой, щекастый большелапый.
Вспоминает она о нем – как и бывает при сильной любви – частности, мелочи: целое невместимо, да и слишком невыносимо. Вспоминает его мягкие розовые пятки, блестящие ногти, большие руки.
Базаров так похож на Володю, что читать страшно.
В самом деле похож – Маяковский мечтал его сыграть, и Мейерхольд уже придумал экспликацию первого эпизода: Базаров чертит на доске грудную клетку, рисует мелом сердце, сердце оживает и начинает биться. От Базарова в нем и ум, и неуклюжесть, и застенчивость, и обаяние, и «я над всем, что сделано, ставлю nihil» – конечно, он сам ладил себя по этим лекалам, и ранняя смерть тоже входит в базаровские правила. Главное же – он, кажется, понимал истинный смысл романа: Базаров не умеет жить с людьми и потому обречен. На какой-то миг ему показалось, что есть для Базарова надежда: другая жизнь, радикальная трансформация страны – но очень скоро оказалось, что победой могут воспользоваться только Ситниковы и Кукшины, а его проблема никуда не денется. «Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет…» «И когда это солнце разжиревшим боровом взойдет над грядущим без нищих и калек, я уже сгнию, умерший под забором вместе с десятком моих коллег». Это Тургенев придумал Маяковского (точнее, Маяковский под его влиянием придумал себя), или самый непрочитанный русский классик в самом деле разглядел новый тип? Верю во второе: русская жизнь с неизбежностью порождает новых Базаровых – деловитых, умных, не находящих себе приложения. В сущности, Базаров – новый Печорин, лишенный пафоса, рожденный для великих дел и умирающий от пореза пальца, от ядовитых мелких укусов, от собственного неумения приспособиться к русской жизни. Тут, если хочешь выжить, надо быть Николаем Петровичем, трогательным, конечно, а все же смешным pater familias’oм, играющим на виолончели в глуши Курской губернии.
Ходила по улицам, думала о Володике. Не могу понять, что его нет. Неужели он сознавал, что будет смерть?
Конечно, не сознавал. Для модерниста смерть – художественный акт. Он и жизни не сознавал, ни минуты не жил в собственном смысле, ненавидел все, из чего состоит жизнь. Это обыватели «сознают», а у литераторов есть дела поважнее. Жизнь и смерть, тоже мне. Еще скажите – «кровь и почва».
Ося читает прозу Гейне и в восторге.
Про Гейне будет отдельно в четвертом действии, очень он поче му-то важен для русских тройственных союзов.
Пошляков развелось несметное количество. Поголовная пошлятина – интонацийки, платьишко, литературишка, взаимоотношеньица. Все врут, все всего боятся.
Право, думаешь, что иногда его дух в нее вселялся и писал ее рукой.
Посидела у Володи, убрала комнату.
Мои бесхитростные неприхотливые мечты: 1) Наладить в этом месяце издание 2) Похудеть 3) Сшить несколько новых тряпочек.
Вчера опять звонили какие-то: можно Брик? Ха-ха-ха… почему вы угробили Маяковского?.. и хлоп трубкой.
Приснилось, что плывем – Ося, Володя, Булька и я. Надо переплыть на другой берег. А над землей вертятся и танцуют аэропланы и я боюсь, что они разобьются об землю. На берегу раскрываем чемоданчик – надо что-то зашить Володе. Я ему говорю в шутку – ну что бы ты без меня делал? А Володя так пренебрежительно: просто пошел бы.
Видела во сне Володю – показывала ему каких-то собак.
Осик говорит, что у меня характер совсем Володин. <…> Большевизм, по-моему, – не убеждение, а характер. Убеждение – вещь хлипкая, важна конструкция человека.
Соскучилась по Володиной горячности, по беспокойству, постоянной заботе.
Мы все работаем за Володю.
Ужасно скучно стало без него – и ей, и всем, хотя с 1931 года она уже с Примаковым.
Наследники
И все-таки ученики у него были, и к этой генерации с куда большим основанием можно применить название статьи Якобсона «О поколении, растратившем своих поэтов». Просто обвинять в этом следует не поколение.
Трудно представить, по какой линии можно было наследовать Маяковскому и учиться у него – он сам насмешливо предупреждал: «Не делайте под Маяковского, делайте под себя». Казалось бы, он из тех, кто вешает за собой кирпич: «Эй вы, задние! Делай, как я. Это значит – не надо за мной!» Подражать ему бессмысленно – выходит чистое эпигонство. Но есть одно, в чем он безусловный лидер и что вполне перенимается, – это интимное, иногда иронически-сниженное переживание истории, глубоко личное чувство к революции, к обновившейся Родине (и не к Родине вообще – к имманентности, к месту, где родился). И в этой интимности, в этом одомашнивании великого, в этой патетической и притом насмешливой интонации у него были прямые последователи – двоих он успел заметить и вырастить лично, остальные учились у него заочно.
Вы спросите, конечно: а Семен Кирсанов? Но Кирсанов, в сущности, – очень нормальный человек. Может, потому у него и не получилась поэма о пятилетке, которую он взялся продолжать за Маяковского (дерзновение чрезмерное и бессмысленное, потому что Маяковский собирался писать совсем не о пятилетке; пятилетка – лишь обозначение периода, который закончится без него. Нечто подобное произнес потом Бродский: «Век скоро кончится, но раньше кончусь я». У Маяковского пятилетка имеет лишь тот смысл, что «протопаем по пятилетке дней остаток»: это ближайшая веха, которую он поставил себе пределом). Кирсанов многому научился у Маяковского, форма у него часто вторична, но по сути он замечательный лирик, автор прекрасной и очень страшной «Твоей поэмы», написанной на смерть жены, и замечательной «Поэмы поэтов», где ему удалось виртуозно перевоплотиться в семь разных поэтических индивидуальностей. Люди моего поколения росли на его последней книге «Зеркала», где были пронзительные стихи на смерть жены и на собственную смерть – лучшее, что он написал. Человек он был изобретательный и сентиментальный, гораздо более разнообразный, чем Маяковский, и гораздо менее радикальный.
Нет, главным учеником был не Кирсанов – который мало чему у него научился, а после перехода Маяковского в РАПП грозил соскрести с рук следы его рукопожатий, – и не Лев Кассиль, с которым он в том же 1930-м перестал здороваться и отказывался находиться в одной комнате, а мало кому памятный советский поэт Леонид Равич.
В 6-м номере «Нового ЛЕФа» за 1928 год появился его рассказ в стихах «Безработный». Это произведение весьма удачное – Маяковский не только выловил письмо из самотека, но и опубликовал, прокомментировав: «Вы очень способны к деланию стихов» (добавив: «Если это действительно первое»). Интонация там в самом деле своя, не маяковская, да и сам жанр рассказа в стихах в советской поэзии редок, он требует хождения по весьма тонкой грани между поэмой и прозой, это не просто переписанный в рифму рассказ, а именно особый поэтический нарратив, экономный, со сквозными мотивами, с растущим напряжением, но без лирической неопределенности, той аморфности, которая в поэме почти неизбежна (почему Ахматова и не доверяла этому жанру, считая его отжившим). Равич замечательно нашел интонацию на стыке едкой насмешки и наивного, почти подросткового лиризма, и Маяковский, чей вкус безошибочен, его запомнил сразу и читал друзьям, гордясь по обыкновению чужим больше, чем собственным. Мы частично эту вещь процитируем, потому что она и хороша, и показательна:
- А где-то глухие часы
- На башне высокой завыли.
- Все ушли, как голодные псы,
- И биржу труда закрыли.
- Улица так и гудит.
- А вечер над крышами гордый.
- Мы с Фенькой пошли бродить
- От нечего делать по городу.
- В карманах у нас ни боба.
- Ей шамать охота с похмелья.
- А там на панелях гульба —
- Растратчикам пир и веселье…
- Водят дамы собак на цепке,
- И собаки, как дамы, толсты,
- И парень в новенькой кепке
- Покупает девчонке цветы.
- А Фенька моя пьяна…
- Я чую, что девка тает.
- Для других пахнет весна,
- А для нас она воняет.
- <…>
- Закусила Фенька губу.
- Отодвинулась. Стало ей тесно,
- И зовет ее на гульбу
- Отдаленная пьяная песня.
- Я за нею в потемки пошел,
- Проводил ее до бульвара.
- Будто просо в дырявый мешок,
- В нем насыпаны пьяные шмары.
- Покупают их мясо за деньги
- Люди, гнилые, как пни.
- И голодная добрая Фенька
- Потеряет хорошие дни…
- И такая жальба за подругу,
- Ее глаз мне стало жаль.
- Я за пазуху сунул руку,
- Но не нашел ножа.
- Давеча продал я ножик —
- Хлеба купил, папирос…
- Оглянулся… пропал прохожий
- И Феньку с собою увез.
- А где-то гремящие трубы
- Запели на сто голосов,
- Как будто вошли лесорубы
- В чубатые чащи лесов.
- А в тумане пегом и диком,
- Где глохнет ветровый свист,
- Стоит Петька Великий,
- Безработный кавалерист.
Равич в сопроводительном письме сообщал, что «всё в стихе – правда», но ему не тридцать, а чуть за двадцать (он родился в 1908 году). Маяковский дал совет в «ЛЕФ» стихов больше не слать, «врабатываться в газету», избавляться от лирических штампов и объяснил: «Гонорар высылаем маленький. Но такой же маленький получают и все сотрудники “Нового ЛЕФа”».
Об остальном сам Равич рассказал в мемуарах с претенциозным названием «Полпред поэзии большевизма». В 1928 году Равич был студентом Ленинградского пединститута им. Герцена, жил в общаге (родился в Елисаветграде), о голоде и безработице знал не понаслышке. Стихотворение, посланное Маяковскому, не было, конечно, «первым» – но первым большим, сюжетным. Для начала Равич понес его в «Звезду», где его отверг некий «маститый поэт», сказав, что вещь талантливая, но тема скользкая. Стихами в «Звезде» заведовал на тот момент Николай Тихонов, и такой ответ вполне в его духе. А Маяковский через два месяца напечатал. И ближайшей зимой Равич отправился в Москву – лично встретиться с Маяковским он, конечно, не надеялся, но мало ли. Кроме того, в «Комсомолке» стихами тогда заведовал Джек Алтаузен, Равич его шапочно знал и хотел показать новые стихи. Алтаузен рассказал аяковскому, что вот, мол, приехал ваш Равич, – и передал приглашение зайти: Лубянский проезд, 3, квартира 12.
Равич изумился, но пошел.
В небольшой комнате сидал сам Маяковский в нижней белой рубахе. Он читал газету. Обстановку не помню, но книг было немного, в комнате было темновато.
Хозяин спросил, что мне нужно, и опять уткнулся в газету. Я сказал, что, мол, я приглашен им самим к нему в гости. Он осмотрел меня с ног до головы. Взгляд его, помню, был угрюм и неприветлив. Молчал он почти целую минуту, потом налил в стопку не то нарзан, не то боржом. Мне надоело стоять, думал уйти. Маяковский оторвал глаза от пузырьков и спросил, зачем я пришел.
– Фамилия?
Так спрашивает судья или милиционер.
Я ответил.
– Ах вот оно что! Равич. Почему вы не раздеваетесь? Надо всегда сразу говорить фамилию, а вы молчите. Хотите нарзану, есть хотите?
Голос его стал приветливым. Он зажег лампу на столе.
Все время я смотрел на него и пришел к выводу, что он похож на кузнеца после работы. Вдруг, совсем неожиданно, хозяин встал у стола и тихим голосом, звучащим громко, прочитал из моего стихотворения: «Стоит Петька Великий, безработный кавалерист».
– Это удачно, это хорошо сделано, прочитайте что-нибудь.
Равич прочел своего «Шарманщика», в котором сильно влияние Заболоцкого: «И в облаках зеленой мглы шарманщики, блестя усами, едят рубец и студень с волосами». Еще не вышли книгой, но уже появлялись в печати «Столбцы». Мнения Маяковского о «Столбцах» мы не знаем, он их, вероятно, не заметил, – но раз похвалил «Шарманку» и посоветовал ее печатать, значит, ему эта манера показалась интересной. Он уточнил, что такое «студень с волосами» – «Это самый дешевый, по двадцать копеек килограмм». Потом позвал Равича в ресторан, но тот был слишком горд и независим, да и боялся навязываться на целый день. «Тогда приходите завтра в два в “Комсомольскую правду”. Я вас в автомобиле покатаю». Против автомобиля Равич не устоял и в «Комсомолку» к двум часам пришел. Маяковский пять минут пробыл у редактора, выдумал пару подписей к карикатурам и отправился с Равичем к машине:
– Повезу вас в баню.
Речь шла, само собой, о репетиции пьесы, и Равич восторженно согласился.
Они несколько раз встречались потом, Маяковский был с ним откровенен и даже не обижался на вопросы, которые бы его в другой ситуации взбесили: Равич, как увидим ниже, однажды несвоевременно процитировал «Я люблю смотреть, как умирают дети», – и Маяковский не взорвался, а объяснил. Равич виделся с ним в Ленинграде, когда Маяковский приезжал туда в последний раз в конце марта смотреть «Баню» в неудачной постановке Люце. Он вырос в настоящего, хотя не слишком известного поэта, и прожил недолго – всего сорок восемь лет; написал повести в стихах «Чудесная эпоха» и «Пленира», выпустил несколько сборников, при жизни его почти забыли, но вышедшее в 1966 году избранное – «Возвращение весны» – было замечено: вспомнили о том, что он ученик Маяковского, на которого тогда возродилась мода, и Равич, хоть и посмертно, погрелся в ее лучах. Его тихая ирония, интимная интонация в разговоре о Родине, о блокаде, о смерти, – это и есть линия, по которой он наследовал Маяковскому.
Наиболее одаренным учеником был, конечно, Светлов, но со Светловым Маяковский общался реже. Да и учеником его не назовешь – он к 1927 году сложившийся поэт. Рискну сказать, что в своем поколении Светлов был самым одаренным, самым многообещающим и в каком-то смысле таинственным поэтом: в нем была настоящая иррациональность. Чем пленяет «Гренада»? Почему банальнейший сюжет о гибели красноармейца так действует на читателя, почему так хочется повторять рефрен? А «В разведке»? А «Рабфаковке» – «Платье серенькое твое неподвижно на спинке стула»? Ему, хоть и троцкисту, повезло уцелеть, но, жестоко проработанный в 1928 году, в 1930-е он почти замолчал; в 1950-е и начале 1960-х снова заговорил, но уже безнадежно сорванным голосом. На короткое время к нему вернулись свобода и дар во время войны: тогда он написал «Итальянца» и «Ангелов» – стихи, которые по праву украсят любую антологию русской лирики. Он был поэт с чертами и задатками гения, его ирония и патетика всегда органичны, и, ничему не научившись у Маяковского формально, он всегда был верен его трагическому взгляду на вещи, его глубокому состраданию к чужому одиночеству и беспомощности, а в каком-то смысле – и его самоненависти. И в любви он так же был верен и так же несчастлив, не пережив ухода жены. Конечно, такого масштаба, как у Маяковского, у Светлова нет, но парадоксальным образом он воздействует не слабее; он не новатор, но ведь и Маяковского мы ценим не только за новаторство. Если бы поэтов любили только за это, главным хитом всех времен и народов было бы «Дыр бул щыл».
Так же ироничны, трагичны и полны чувства ранней обреченности были другие лучшие поэты поколения: Николай Дементьев (1907–1935), покончивший с собой в состоянии острого психоза, Борис Корнилов (1910–1938), казненный по ложному доносу, Александр Шевцов (1914–1938), обвиненный в троцкизме и тоже расстрелянный. Этот ученик Багрицкого был талантливее всех на своем литинститутском курсе, в 1934 году издал единственную – и превосходную – книжечку «Голос». В книге этой влияние Маяковского очень чувствуется: «Понимая духом слабо этих дней большой полет, несознательная баба две селедки продает», – но влияние, конечно, не прямое, опосредованное. В чем оно – сразу не скажешь, но опознается мгновенно:
- На планете мимо пашен
- И во все ее концы
- Ходят наши и не наши,
- Ходят дети и отцы,
- Ходят ветры, и мы еле
- Их улавливаем свист.
- На помятой на постели
- Просыпается фашист.
- И лежит (ему не спится)…
- Он готов
- за пятилетку
- Мне
- свинцовую синицу
- Посадить в грудную клетку.
- Он готов, но это хуже
- Для него лишь. Я в ночи,
- Растерзав на клочья лужи,
- Прохожу. Летят лучи
- Фонарей. Бежит аллея…
- Пробежала… Темен вид…
- Красный мрамор мавзолея
- Посреди земли стоит.
- Сон шагает по квартирам,
- Город грузен, город глух.
- Звезды падают над миром
- В виде точки, в виде двух,
- В виде белых, в виде алых,
- Оставляя серый след
- Над страной больших и малых
- Поражений
- и побед.
(Это немного похоже по интонации на «Колыбельную Светлане» другого автора 1913 года рождения – Александра Гладкова, который физически выжил, но морально тоже уничтожился, был совершенно раздавлен, хоть и прожил в этом состоянии почти до ста лет.)
Где здесь Маяковский? Вот это: «Звезды падают над миром в виде точки, в виде двух» – его парадоксальное видение вещей и пейзажей, его поздняя прозрачность, до конца не осуществившаяся; он мечтал писать совсем просто – и, наверное, писал бы так. Но главное здесь – глобальность взгляда, планетарность, и чувство хозяина – не только в стране, но в мире: хозяина не по признаку властности, но по чувству ответственности. Шевцов был поэтом колоссального потенциала, и именно поэтому ему было никак не выжить.
И еще один прямой его ученик – Сергей Чекмарёв (1910–1933), не печатавшийся при жизни, открытый посмертно, погибший при загадочных обстоятельствах. Он был выпускником Московского мясомолочного института, по распределению поехал в Башкирию, не пожелал оттуда вернуться, когда получил такое право, и погиб в реке Сурень – то ли утонул, пытаясь перейти ее вброд, то ли был убит кулаками. Некоторые стихи Чекмарёва именно по интонации, «дикции» так похожи на светловские, что не отличишь:
- Ты думаешь: «Письма
- в реке утонули,
- А наше суровое
- время не терпит.
- Его погубили
- кулацкие пули,
- Его засосали
- уральские степи.
- И снова молчанье
- под белою крышей,
- Лишь кони проносятся
- ночью беззвездной.
- И что закричал он —
- никто не услышал,
- И где похоронен он —
- неизвестно».
Но лучшее его стихотворение – «Размышления на станции Карталы» – это уже безусловно собственный голос, и влияние Маяковского – ирония, снижающая пафос, почти самурайское чувство долга, нежность к паровозу и нелюбовь к пассажиру – тут ощущается ясно:
- Поезд стоит усталый, рыжий,
- Напоминающий лису.
- Я подхожу к нему поближе,
- Прямо к самому колесу.
- Я говорю ему: – Послушай
- И пойми, товарищ состав!
- У меня болят от мороза уши,
- Ноет от холода каждый сустав.
- Послушай, друг, мне уже надоело
- Ездить по степи вперед-назад,
- Чтобы мне вьюга щеки ела,
- Ветер выхлестывал глаза.
- Жить зимою и летом в стаде,
- За каждую телку отвечать.
- В конце концов, всего не наладить,
- Всех буранов не перекричать.
- Мне глаза залепила вьюга,
- Мне надоело жить в грязи.
- И как товарища, как друга
- Я прошу тебя: отвези!
- Возьми с собой, и в эту субботу
- Меня уже встретит московский перрон,
- И разве я не найду работу
- Где-нибудь в тресте скрипеть пером?
- Что? Распахиваешь ты двери?
- Но, товарищ, ведь я шучу!
- Я уехать с тобой не намерен,
- Я уехать с тобой не хочу.
- Я знаю: я нужен степи до зарезу,
- Здесь идут пятилетки года.
- И если в поезд сейчас я залезу,
- Что же будет со степью тогда?
- Но нет, пожалуй, это неверно,
- Я, пожалуй, немного лгу.
- Она без меня проживет, наверно, —
- Это я без нее не могу.
- У меня никогда не хватит духу —
- Ни сердце, ни совесть мне не велят
- Покинуть степи, гурты, Гнедуху
- И голубые глаза телят.
- Ну так что же! Ведь мы не на юге.
- Холод, злися! Буран, крути!
- Все равно, сквозь завесу вьюги
- Я разгляжу свои пути.
Маяковский стремился к этой простоте, и это голоса его детей, его прямых наследников – тех, что осуществили задуманное им, нашли ту новую интонацию, чуждую всякого внешнего блеска и громкого пафоса, о которой он говорил Кирсанову осенью 1929 года. Это он – поздний, не осуществившийся, – мгновенно опознается в Корнилове:
- Из лиловой грязи мрака
- лезет смерти торжество,
- и заразного барака
- стены стиснули его.
- Вот опять сиделки-рохли
- не несут ему питье,
- губы сини, пересохли —
- он впадает в забытье.
- Да, дела непоправимы,
- ждали кризиса вчера,
- и блестят, как херувимы,
- голубые доктора.
- Неужели же, товарищ,
- будешь ты лишен души,
- от мельчайшей гибнешь твари,
- от комочка, ото вши?
- Лучше, желтая обойма,
- гибель верную яви,
- лучше пуля, лучше бойня —
- луговина вся в крови.
- Так иль сяк, в обоем разе
- все равно, одно и то ж —
- это враг ползет из грязи,
- пуля, бомба или вошь.
- Вот лежит он, смерти вторя,
- сокращая жизни срок,
- этот серый, полный горя,
- полный гноя пузырек.
- И летит, как дьявол грозный,
- в кругосветный перегон,
- мелом меченный, тифозный,
- фиолетовый вагон.
- Звезды острые, как бритвы,
- небом ходят при луне.
- Всё в порядке.
- Вошь и битвы —
- мы, товарищ, на войне.
Все эти четырехстопные хореи – в том числе и про часового, про то, как «над его ружьем границу переходят облака», – создают совершенно особый, шевцовско-корниловско-светловский мир, пленявший не одно поколение: обязательно ночь, обязательно Гражданская война, степные травы, звезды, пули, ночной ветер, июньская свежесть, когда небо долго не гаснет; свежесть молодости, свежесть смерти. Это все он, его наследие, все то, что он не успел написать; четырехстопный хорей его детских стихов о морях, путешествиях, слонах и львицах, о песнях-молниях и майском ветре. И никто из них не выжил, никто не успел даже осуществиться, – только подхватил их ноту последний ученик Маяковского, шестидесятник Геннадий Шпаликов, единственный настоящий его наследник, покончивший с собой в те же роковые тридцать семь лет:
- Лают бешено собаки
- В затухающую даль,
- Я пришел к вам в черном фраке,
- Элегантный, как рояль.
- Было холодно и мокро,
- Жались тени по углам,
- Проливали слезы стекла,
- Как герои мелодрам.
- Вы сидели на диване,
- Походили на портрет.
- Молча я сжимал в кармане
- Леденящий пистолет.
- Расположен книзу дулом
- Сквозь карман он мог стрелять,
- Я все думал, думал, думал —
- Убивать, не убивать?
- И от сырости осенней
- Дрожи я сдержать не мог,
- Вы упали на колени
- У моих красивых ног.
- Выстрел, дым, сверкнуло пламя,
- Ничего уже не жаль.
- Я лежал к дверям ногами —
- Элегантный, как рояль.
Это он ранний. А вот он поздний:
- Работа нетяжелая,
- И мне присуждено
- Пить местное, дешевое
- Грузинское вино.
- Я пью его без устали,
- Стакан на свет гляжу,
- С матросами безусыми
- По городу брожу.
- С матросами безусыми
- Брожу я до утра
- За девочками с бусами
- Из чешского стекла.
- Матросам завтра вечером
- К Босфору отплывать,
- Они спешат, их четверо,
- Я пятый – мне плевать.
- Мне оставаться в городе,
- Где море и базар,
- Где девочки негордые
- Выходят на бульвар.
Где здесь Маяковский?
А это то, до чего он не дожил. Это тихое отчаяние, прекрасно спрятанное. Но это он: «Они спешат, их четверо, я пятый – мне плевать».
Они продолжали его, и никто из них не выжил, потому что несовместимость с так называемой жизнью – главный его урок.
Сегодня у него учеников нет.
После жизни: 1930-е
Юбилеи поэтических смертей отмечались с не меньшим, а то и с большим размахом, чем годовщины рождений – Пушкин-1937, Маяковский-1940, про Лермонтова-1941 что и говорить, какое «Бородино» гремело! Воздух пахнул смертью, она была всюду. Самое интересное, что вышло к смертельному юбилею Маяковского (не считая замечательных заметок Харджиева в сборнике «Материалы и исследования»), – книжка Виктора Шкловского, написанная, по авторскому свидетельству в инскрипте Сарнову, за десять дней. Там же Шкловский говорит: «Я люблю эту книгу. Она недоговорена».
«Недоговорена» – слабо сказано.
Имитировать Шкловского легко. Авторы неудачных книг о нем только этим и занимаются, а удачных пока не было.
Ранний Шкловский писал короткими – одна-две фразы – абзацами, потому что, по собственной формуле, это «те мысли, которые должны вырасти у читателя». Он говорит тезисами, потому что торопится.
Поздний Шкловский говорит так, потому что умалчивает. Скажет и боится развить. Это не для скорости, а для пунктирности. Происходит имитация себя прежнего, потому что в рамках дозволенного сказать нечего, а недозволенного никто уже не понимает, расшифровывать некому.
Зачем имитировать имитацию?
Так что дальше будем опять по-своему, без шкловщины, одинаково успешно воплощающей как полет мысли, так и ее отсутствие. Книга «О Маяковском» – замечательный пример плавания на Маяковском – пароходе и человеке. Пароход и человек приспособлены под авторские нужды. Шкловский одним из первых понял, что Маяковский теперь на добрых полтора десятилетия стал национальным, народным поэтом. Почему? Потому что уже разоблачен Демьян Бедный и Камерный театр Таирова подвергнут обструкции за постановку «Богатырей». Развенчаны фельетоны «Слезай с печки» и «Без пощады». Реабилитировано все русское, национальное, оно понадобится во время большой войны, о которой в 1940-м кричит все. И Шкловский пишет: «СССР – страна многонациональная. Русский язык – язык Ленина. И Маяковский обладал народной гордостью великоросса». В 1940 году уже положено обладать такой гордостью.
В 1938-м Сергей Третьяков был расстрелян как японский шпион. Имени его в книге нет, но есть ошибки: «Он писал о мире новой прозой и был уже накануне создания романа, но ему мешала теория факта».
Теория факта ему, может быть, и мешала, но сам он так не думал; сверх того, некоторым людям она помогла – русский документальный роман 1920-х и 1930-х преподнес миру замечательный урок, из этого выросли потом американский новый журнализм и «сверхлитература», скажем, Алеся Адамовича. Шкловский – чьи статьи входили в сборник «Литература факта» – в 1929 году доказывал, что роман умер, беллетристика никому не нужна, а вот мемуары, дневники и публицистика выдвинулись из периферии в центр (и был прав – это составляет главное содержание эпохи; возвращение беллетристики было отступлением назад). Теперь оказывается, что Маяковскому мешал кто-то другой. Вообще многие мешали: кинематографисты не понимали, коллеги не ценили. А Шкловский ценил. Он и на выставке выступил. Поскольку Маяковский был «лучшим, талантливейшим», походя сообщается, что отклонения Блока от классических размеров в сторону дольника – это еще не революция в стихе, а революция у Маяковского. Блок – лыжник, который прыгает с трамплина, а Маяковский – птица, его стих крылат. Любой, кто читал дольники Блока, знает, что они и богаче, и многообразнее, и музыкальнее дольников Маяковского, которые, в общем, – и формально, и фактурно, – все выросли из одного блоковского «Из газет», и Шкловский не мог этого не видеть. Но Блок не назывался «лучшим, талантливейшим» – он им просто был, а это другое дело.