Варварин день (сборник) Велембовская Ирина
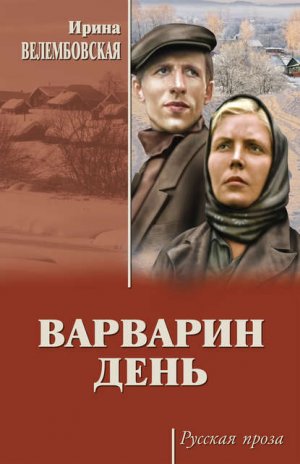
– Хам не хам, а штукарь хороший, – хмуро и озадаченно покосившись на Маришу, сказал Романок. – Неглупо он тут придумал: возьми его в семью…
Мариша молчала. Слезы ее из глаз катились крупные, как дождь в грозу.
– Знаете, что такое Рэм? – вдруг влезла Лидка. – Революция, электрификация, мир. Я в календаре видела.
– Небось хулды-мулды, а Рэма сам себе придумал, – усмехнулся Романок. – Электрификация!.. – Он поглядел на Маришу и понял, что уж хватит: как бы девка не зарыдала в голос.
На ночь Романок сам пошел проверить, заперта ли из сеней дверь на улицу, словно опасался, что сестра убежит.
– Русского, что ли, не найдется? – примирительно сказал он. – А эти, как цыгане, мотаются с места на место. Случись чего, и алиментов не получишь.
Сильва тоже попыталась утешить Маришу – парой шелковых чулок.
– У них только одну петлю поднять надо, – сказала она. – И прекрасно носить можно.
– Спасибо!.. – бросила Мариша. – Не надо мне вашего. Спрячьте.
Утром ветер сменился, сильно потеплело, черным жиром растопилась под солнцем земля, как будто кто-то полил распаханные борозды густым конопляным маслом. У Мариши вязли ноги, влажно горели похудевшие щеки. Она плохо понимала, куда ее посылают, что велят делать, что поднимать, что нести. Она ждала вечера, чтобы побежать к Рэму.
До поселка, где жили рабочие МТС, было побольше трех верст. По самой жуткой весенней грязи, когда ни конному, ни пешему, Мариша пробежала эти три версты за неполные полчаса. В большом кирпичном строении, вокруг которого был все тот же развороченный чернозем, сейчас шло веселье: провожали московских. Десятка полтора парней нестройно кричали под балалайку:
За речи, ласки огневые
Я награжу тебя конем.
Уздечка, хлыстик золотые,
Седельце шито жемчугом!..
Мариша не сразу решилась спросить, где же Рэм. Но парни – народ догадливый.
– Еще вчера домой драпанул твой черенький.
Что было сказать? Мариша настолько растерялась, что улыбнулась и тут же прислонилась к косяку. Ребята поняли, что девка «горит», и насмешничать больше не стали. Лишь только Мариша вышла, балалайка забренчала снова:
На кой мне черт твоя уздечка,
На кой мне хрен твое седло?
Встречный ветер шатал Маришу. Назад она брела, не разбирая дороги. Дважды оставила сапог в грязи и на второй раз заплакала, как плачут в деревне, – не безмолвно, а в голос. Благо, кругом никого не было.
К майским праздникам все обзеленилось, обсохло, прогрелось. Совсем случайно Мариша вспомнила, что в подполе зимует луковичный цветок, что давно пора поставить его к свету. Когда она его достала, на нее как бы с укоризной взглянул бледно-желтый росток: поздно, мол, ты спохватилась!.. Велико ли дело – цветок! Но холод цветочного горшка дошел Марише до самого сердца.
Все эти дни ее поедала самая черная тоска. Куда бы она ни пошла, всюду тоска эта была с ней, словно лежала за пазухой. И все-таки Мариша в свои двадцать два пока еще дремала. Детство и юность, полные нехваток и трудов, житейски рано овзрослили ее, но не дали ходу главному. А то бы она уж на второй день метнулась за Рэмом. Дважды за это время она садилась писать ему письмо, но дважды убеждалась, что складно у нее не получается – ведь почти целых девять лет не брала в руки ни пера, ни карандаша. Она просто боялась, что Рэм над таким письмом посмеется, и тогда только хуже будет.
Когда засеяны были в колхозе свекольные участки, рассажена картошка, Мариша пошла просить, чтобы ее отпустили, выдали ей справку. Но сказать, что есть у нее на примете парень и что она хочет уехать к нему, естественно, постеснялась.
– Кто же летом из колхоза хороших работников отпущает? – сказал ей председатель. – До осени погоди.
С Маришиных щек сбежала последняя краска.
– До осени это долго, – тихо сказала она, – я не могу…
Вода точит камень: в начале июля справку Марише все-таки выдали, и она без прощальных объятий и поцелуев покинула Орловку. Невестка ее была на сносях, волновать ее не следовало, и Мариша постаралась проститься по-хорошему.
– Зря на легкую жизнь надеешься, – хмуро сказал Романок. – Как бы улицу мести не пришлось.
– Ну что же, – как можно спокойнее отозвалась Мариша, – буду мести.
Ей хотелось добавить: «Я у вас тут тоже не золотыми яблочками игралась». Она поглядела брату в глаза и поняла, оба они друг дружке уже совсем чужие. А ведь что раньше-то было!.. Готова была Богу на него молиться, с самых детских лет больше всех его любила и слушалась.
Сестра Лидка все-таки проводила Маришу до автобуса, но целоваться тоже не стала, словно была уверена, что старшая сестра через неделю, а то и раньше явится обратно.
– Ты уж получше учись, Лида, – сказала Мариша.
Та усмехнулась, скосив глаза: сама, мол, к парню едешь, а мне учиться!..
Эту девчонку Мариша нянчила, до трех лет почти не спуская с рук. В это трудно сейчас было поверить, взгляни кто-нибудь на некрупную, страшно исхудавшую за последние месяцы Маришу и на шестнадцатилетнюю Лидку, которая уже обогнала сестру в росте. На Лидке сейчас был васильковый берет, платье «солнце-клеш» с пуговицами по свиному пятаку, подкладные гвардейские плечи. И на щеках плавал горячий, нахальный какой-то румянец.
– Ну что же, прощай, Лида, – сказала Мариша.
Она в последний раз оглянулась на родную Орловку. Деревня, за войну и послевоенные годы лишившаяся всех садов, стояла над яром, вся залитая солнцем, голая, но прекрасная. Ее со всех сторон опахали тракторами, не оставив почти ни одного зеленого лужка. Но сочная, расцвеченная ромашками и голубым цикорием трава росла по межам, по канавам, по заборам, по крутым склонам оврага, везде, куда нельзя было заехать трактором. Эта трава лезла из земли, подгоняемая ярким солнцем и частыми золотыми дождями, и словно просилась под серп и косу. На поле, сбоку от шоссе, выпревала в горячем черноземе кормовая свекла с зеленью, густой, как лопуховые заросли, и зелень эта тоже цедила через себя свежесть и сладость.
– Ты чего это, нянь?.. – удивленно спросила Лидка. – Не плачь, вон автобус идет.
Через час Мариша уже садилась в поезд. Остались позади Ожерелье и Кашира, на подступах к столице пошли трубы, железнодорожные депо и пакгаузы, на которые глядеть после полей и перелесков было просто страшно. Но Мариша, слава богу, ехала в Москву не в первый раз. Адрес, который сказал ей Рэм во время одного из их свиданий, она держала в голове, и чем ближе подъезжала к столице, тем чаще его повторяла.
С Павелецкого вокзала она перебралась на Курский и доехала электричкой до большого и многолюдного подмосковного города. Тут она пошла пешком, держа в правой руке деревянный чемодан с привязанными к нему валенками, а в левой платок, которым поминутно стирала с лица крупный пот – от избытка жары и страшного волнения.
Мариша уже знала, что лучше лишний раз спросить, чем плутать наугад. Поэтому вскоре же нашла нужную улицу и дом. Она долго стояла перед калиткой, ожидая, что кто-нибудь выйдет. Дом вроде бы был полон народа, но никто, как на грех, не выходил. И Мариша толкнула калитку.
В узкой, как коридор, всего с одним окном комнате сидела за столом и пила чай старая женщина в белом платке. Платок этот был повязан не на косячок, как у русских, а двумя углами свободно ложился на плечи. Несмотря на жару, на старухе этой было что-то уж слишком много всего надето.
– Чего тебе надо? – спросила она, не бросая пить чай. Мариша подумала, что тут ее никто не ждет и, возможно, не знают даже, кто она такая. Но она ошиблась.
– Поздно ты ехал! – укоризненно сказала старуха, поглядев на Маришин чемодан и привязанные к нему валенки, которые особенно нелепо выглядели в жару. – Рэмка тебя долго ждал, все почтовый ящик глядел.
Мариша безмолвно стояла, не рискуя даже поставить на пол свой чемодан.
– Меня Рабига звать. Садись, чего стоишь? Чай пить хочешь?
Мариша опомнилась и села. Она смотрела на чернобровое, еще не сильно-тронутое морщинами лицо старухи и видела в нем Рэма. У нее задрожали губы и покатились слезы.
– Зачем плачешь? Парень много, другой найдешь. А Рэмка сейчас далеко, на Север вербовался. Опоздал ты.
– Не отпускали меня, – тихо сказала Мариша. – Прополка…
Старая Рабига допила чашку и опять принялась цедить в нее черный, густой чай. Широкие рукава ее цветного платья покачивались над столом.
– Прополка много будет, любовь один. – И, желая смягчить упрек, добавила: – Так лучше тебе, Рэмка глупый, куда тебя звал? Пять человек один комнат живем, Рэмка свой койка даже нет. Что война наделал, все ломал!..
Мариша невольно представила себе, что ждало бы ее здесь, в этой комнате: возможно, новая кабала, даже если бы эта умница старуха и стала ее жалеть и за нее заступаться. Рэм не должен был всего этого скрывать. Хотя, будь он сейчас здесь, Мариша согласилась бы остаться.
– Куда сейчас пойдешь? – спросила Рабига.
– Не знаю…
– Жалко тебя! Хороший девушка. Зря чай со мной не пил.
Старуха с трудом поднялась, чтобы проводить Маришу до двери.
– Ноги больной. Жидкий нельзя, а я чай пить люблю. Все равно скоро смерть. Только Рэмка жалко, шибко жалко!.. Один внук у меня. Ну, счастливый тебе дорога!
Уже за дверью Мариша подумала о том, что нужно было спросить новый адрес Рэма. Но, видимо, старуха не считала, что Марише следует его знать, а может быть, и сама еще не знала. Во всяком случае, вернуться Мариша не решилась: робость, унаследованная ею от покойной матери, шла за ней повсюду, как тень.
Она вышла на жаркую улицу и направилась обратно к станции. Кто-то остановил ее и спросил, не продает ли валенки. Она не ответила и пошла дальше.
Вечером она сидела на жесткой лавке в набитом битком зале ожидания Павелецкого вокзала. На улице было уже темно, зал освещался плохо. Те, кто сумел захватить место на лавках, спали тяжелым, тревожным сном. Их могли каждый миг разбудить, согнать с места, они рисковали быть обворованными и проесть последний рубль, пока удастся купить или закомпостировать билеты. Но бедствовали здесь не каширские или веневские, которым, в общем-то, до дома рукой подать, а дальние: пензенские, саратовские, ульяновские.
На вокзале Мариша сидела сейчас не потому, что собиралась обратно в деревню. Дорога туда ей была заказана. Она ясно понимала, что вернись она туда, с годами превратилась бы в угрюмую, молчаливую бабу с черными руками, к которой никто уже не посватается, а будут от нечего делать приставать женатые мужики. И так как в деревне каждое слово на слуху и каждый шаг на виду, то Мариша ясно представила себе, что всю жизнь она бы держала ответ перед братом, перед невесткой, даже перед Лидкой. Она вспомнила, как они обошлись с Рэмом, и дала себе клятву не простить.
– Подбери ноги-то, – врываясь в Маришины мысли, сурово приказала вокзальная уборщица, подметавшая под лавками. – Понаехали сюда!
Казалось, еще немного, и она прогонит Маришу с лавки, а тогда попробуй отыщи место, где можно приткнуться. Ясно было, что этой уборщице осточертели все те, за кем приходилось убирать грязь и мусор, хотя это и было источником ее зарплаты. Но, случайно взглянув Марише в лицо, она вдруг спросила:
– А ты не веневская? Ну-ну, сиди!
Иногда человек, который с виду кажется вовсе недоступным, на самом деле только и ищет повода, чтобы поговорить. Так случилось на этот раз. Уборщица, покончив с делами и с ворчанием, пустила Маришу в служебное помещение и посадила пить чай. Мариша, совершенно сраженная непривычным для нее вниманием, все рассказала и не знала, как и благодарить за участие.
– Вот тут у меня яички, – сказала она, раскрывая свой деревянный чемодан, – возьмите, пожалуйста.
Уборщица яички охотно взяла, взамен дала Марише адрес швейной фабрики, которая находилась у Абельмановской заставы. Там одна из ее многочисленных родственниц работала вахтером.
– Давай действуй! Руки есть, работа будет. А парней ты себе еще целую снизку найдешь. Не кривая.
Мариша улыбнулась. А она уже давно не улыбалась.
– Садись на «шестерку», до Новоспасского доедешь, а там на трамвай.
Это для Мариши было слишком сложно. Но она горячо поблагодарила за все наставления и, подхватив свой чемодан, пошла с Павелецкого на Таганку пешком по Садовому кольцу, через Краснохолмский, потом через Яузский мост. Времени в запасе у нее было достаточно.
Глава третья
В один из приветливых, желто-красных сентябрьских дней Мариша присоединилась к огромной очереди, тянущейся к Мавзолею Ленина. Ей очень хотелось побыть подольше на Красной площади, поглядеть на Кремль, на Спасскую башню с часами, бой которых она раньше слышала только по радио. Но велено было не задерживаться и проходить. Только миновав Чугунный мост, возле Балчуга, она все же задержалась и взволнованно поглядела на золотые главы, на стены и башни.
С того памятного дня, когда она бедствовала на Павелецком вокзале, доходил уже третий месяц. В конце июля она вышла на работу. Это была та самая швейная фабрика около Абельмановской заставы, адрес которой так счастливо попал Марише в руки в первый же день в Москве. Прописали ее, правда, временно, но зато она вскоре же получила свой первый в жизни паспорт, для которого сфотографировалась в ближайшем фотоателье. Вышла она не очень похожая, но печать, прижавшая ей правое плечо, удостоверяла, что это именно она, Марина Парфеновна Огонькова, 1929 года рождения, уроженка деревни Орловки. Разве можно было не радоваться?
Общежитие для девчат, куда Маришу поместили, находилось на Симоновском валу, так что на работу можно было бегать пешком, экономя на транспорте. А бегала Мариша по-деревенски быстро. Однажды за ней устремился какой-то незнакомый парень, но так и не догнал.
Волнения и радости этих двух месяцев помогли Марише избавиться от тоски по Рэму. Она о нем думала теперь все реже, хотя и не без прежней нежности, но чаще почему-то вспоминала старую Рабигу. Да еще упорно снилась ей каждую ночь родная деревня, никак от этого нельзя было избавиться. Стоило закрыть глаза – и вот он, зеленый, глубокий яр, полный цветущей таволги, холодный ключ, из которого она дважды в день таскала воду, белый клубничный цвет на не скошенном еще покосе, их дом в три окошка… Но наступало утро, видения эти исчезали, исчезали и сожаления.
Мариша всегда поднималась по-деревенски рано, будь то будний день или воскресенье. По выходным и по праздникам обязательно отправлялась глядеть Москву. Доезжала трамваем до Котельников, а оттуда пешком по всему центру.
На сегодня у Мариши была намечена цель. Побыв на Красной площади, она дошла до ближайшей станции метро и здесь встала в очередь к окошку справочного бюро. Тут она попросила дать ей адрес Валентины Михайловны Селивановой. Красивый и строгий образ этой женщины Мариша носила в себе все эти годы, но ни даты, ни места рождения ее указать не могла.
– Уж будьте так добры! Мы с ней в военном госпитале вместе работали.
Это было еще одним чудом, но Марише дали справку, что Селиванова Валентина Михайловна, рождения тысяча девятьсот одиннадцатого года, проживает совсем рядом, на Большой Полянке, в доме № 19. Предупредили также, что есть в Москве еще одна Валентина Михайловна Селиванова, но уроженка не столицы, а деревни Щербаково Пензенской области, проживающая на улице Красина.
Мариша решила, что ее Селиванова не может быть из деревни. И на всякий случай добавила:
– Которую мне надо, это военврач третьего ранга.
Стоявший в очереди военный заметил:
– Военврачей третьего ранга уже нет. Есть майоры медицинской службы.
– Извините, – сказала Мариша, – я не знала.
Она взяла справку и отошла. Сразу же решила ехать на Большую Полянку.
Оказавшись на Серпуховке, она вдруг вспомнила: ведь она бывала где-то здесь, когда приезжала с Романком, только не с картошкой, а с соленым салом. На Павелецком рынке это сало у них не пошло: поросенок был тощий, и сало вышло желтое, твердое и невкусное. С Павелецкого они перебрались по кольцу на Даниловский. Значит, она, Мариша, была совсем рядом с Валентиной Михайловной, но сердце почему-то ей никакого сигнала тогда не подало…
На Большой Полянке Мариша нашла нужный ей дом. Поднялась на третий этаж, увидела высокую, как ворота, двустворчатую дверь, на которой ничего не было обозначено, что хочешь, то и думай. И дотронулась пальцем до звонка.
За дверью зашлепали туфли, забрякала цепочка, залаяла собака.
«Только бы чулки не порвала», – подумала Мариша. Но косматая, коротколапая собачонка лишь обнюхала ее белые босоножки, пахнущие новой клеенкой.
– Мне бы Валентину Михайловну…
– Валя, это к вам!
Прошло с полминуты. Мариша замерла в ожидании, что вот сейчас из комнаты строгой, четкой походкой выйдет к ней военврач Селиванова в белом халате поверх диагоналевой гимнастерки, в начищенных до блеска сапогах, собранных гармошкой на плотных икрах. Мариша в те памятные времена любовалась этими сапогами, они были тонкие, хромовые.
Но Селиванова появилась не из комнаты, а из ванной, в широком мохнатом халате, сырая, красная, с чалмой из полотенца на голове и с папиросой в зубах. Лицо ее пополнело, но было по-прежнему красиво. Мариша отметила все тот же склонный к придирке взгляд, с которым Селиванова по утрам входила в палаты.
– Здравствуйте, товарищ военврач третьего ранга, – тихо сказала Мариша.
Та вглядывалась в нее и как будто не узнавала.
– Огонек!.. Неужели это ты? – проговорила она.
– А кто же? – радостно сказала Мариша. – Я, конечно!..
В комнате у Селивановой они сели на кожаный, исцарапанный собачьими лапами диван. Та же собачонка, которая встретила Маришу у входной двери, сейчас выплясывала по дивану, обнюхивала то Маришу, то мокрые волосы хозяйки.
– Макар, перестань, фу! Иди на кухню!
Макар, поразив Маришу своей дисциплинированностью, тут же прекратил озорничать и ушел.
– А ты прекрасно выглядишь, Огонек! – сказала Селиванова. – У тебя вполне столичный вид.
Мариша уже несколько подпортила свои добрые льняные волосы шестимесячной завивкой. Но комплимент Селивановой показался ей искренним, поэтому очень приятным. И она сама с той же мерой искренности стала рассказывать о своем деревенском житье-бытье, о том, что заставило ее в конце концов эту деревню покинуть.
Селиванова как будто была тронута.
– Ах, ты, бедняжка!.. Ну, как говорится, нет худа без добра.
Из коридора старческий голос оповестил:
– Валя, у вас убегает чайник.
Пока Селиванова была на кухне, Мариша разглядывала обстановку. Мебели и других вещей в комнате было очень много. Вещи все неплохие, даже дорогие, но вот сказать, чтобы здесь царил такой уж порядок, как этого когда-то требовала от палатных санитарок сама Селиванова, то этого не было: пахло окурками, рассыпанной пудрой, и собачонка, видимо, тащила много грязи на лапах.
Только начали пить чай, Селиванову позвали к телефону. Мариша опять долго сидела одна, потом к ней на колени взгромоздился появившийся из кухни Макар. Это ей пришлось не очень по душе: у них в деревне никто собак на колени не пускал.
Наконец Селиванова вернулась. Подошла к главному: спросила, что Мариша делает в Москве. Та рассказала, что вот уже два месяца, как устроилась на швейную фабрику около Абельмановской заставы. Сначала работала подсобницей, а теперь поставили утюжить готовую женскую одежду: платья, сарафаны, юбки, костюмчики… Работа нетяжелая, правда, летом сильная жара в цехе от утюгов. А живет в общежитии на Симоновском валу. На семь человек комната.
Селиванова задумалась.
– Знаешь, я могла бы взять тебя к себе в клинику. Только, пожалуй, хрен редьки не слаще. На твоей фабрике ты еще в ударницы выйдешь, а тут только с больных научишься хапать. Пей чай.
Мариша пила и украдкой поглядывала на дверь: не войдет ли кто-нибудь? Неужели Валентина Михайловна жила совсем одна? В разговоре та не помянула ни разу ни о муже, ни о детях. Мариша и сама не понимала, почему неудобно прямо об этом спросить. Но вот язык не поворачивался задать вопрос не старой еще женщине, где ее муж: убили, ушел к другой?
Селиванова как будто догадалась, о чем думает Мариша. Нахмурилась и сказала каким-то намеком:
– С Макаром сложно: целый день один.
В комнату заглянула старушка, которая открыла на Маришин звонок и потом напомнила Селивановой об убегающем чайнике.
– Валя, простите, нужно не позднее четырнадцатого числа заплатить за квартиру. Я могу это сделать сама, если вы оставите мне деньги.
– Не оставлю, – сказала Селиванова. – Пусть устранят течь над ванной. На меня сегодня не столько из душа текло, сколько с потолка.
В голосе прозвучали прежние селивановские ноты. Мариша невольно поджалась и даже подумала, не пора ли уходить.
– Познакомьтесь, Екатерина Серапионовна, – уже другим тоном обратилась Селиванова к старушке, указывая на Маришу. – Моя однополчанка. Вам тоже полезно было бы послушать, как поживают выходцы из колхозного крестьянства. А то мемуары все какие-то строчите.
Старушка не успела обрадоваться предложению познакомиться. Последняя фраза Селивановой, видимо, обидела ее, но она нашла в себе силы, чтобы удалиться с достоинством.
Марише стало очень жалко старушку. Ко всем образованным людям она по-прежнему испытывала уважение. Ко всем кроме своей невестки-учительницы, которая, как теперь понимала Мариша, была не очень-то образованная.
– Ну, я пойду, Валентина Михайловна, – сказала она. – Большое вам спасибо!..
Селиванова взглянула на нее пристально, словно хотела понять, не обидела ли она чем-нибудь и Маришу. Возможно, Селиванова знала за собой эту способность сражать словом.
– Ты еще придешь? Подожди минутку!..
Она вытащила какой-то чемодан и щелкнула замком. А когда повернулась к Марише, то та в первый раз увидела на лице у бывшего военврача третьего ранга какое-то смущение.
– Ты только не обидься, Огонек… Я думаю, тебе это не лишнее будет. Возьми.
Мариша, пораженная, глядела на ярчайшее шелковое платье, которое мяла в руках Селиванова. За что?.. Ведь она чужой человек. Всего три месяца проработали вместе в госпитале. И то, разве Мариша работала? Ее взяли, потому что пожалели. Спасибо, что Селиванова ее узнала, не позабыла.
– Можешь не благодарить, – сказала Валентина Михайловна и закурила, чтобы покончить с неловкостью. – Я за него немке пятьсот граммов масла отдала. Она даже всего триста просила… Так сказать, трофеи.
Что-то осталось в Селивановой суровое и грозное, не позволившее Марише сейчас отблагодарить ее поцелуем или предложить услуги – убраться, постирать. Она только сказала тихо, с прежней своей еще детской интонацией:
– Дай вам Бог здоровья, Валентина Михайловна!
Селиванова усмехнулась.
– Ладно, Огонек, иди. А то я после ванны совершенно разваливаюсь.
Мариша простилась и вышла на лестницу, прижимая к груди селивановский подарок. Такого платья она не видела даже во сне, а Селиванова рассталась с ним, как будто это была какая-нибудь старая юбка десятого года носки. Да еще и смутилась, как будто боялась, что Мариша не возьмет. Для Мариши это было большим открытием в характере бывшего военврача третьего ранга.
В новом платье она показалась своим соседкам по комнате. На тех заграничное платье необычайного покроя с плиссированными рукавами и подолом произвело заметное впечатление. А комендантша сказала:
– Одень пенек, будет как ясный денек. Шифон. У меня до войны такое было.
Маришу не обрадовало сравнение с пеньком, но обижаться всерьез у нее оснований не было.
Через некоторое время она снова отважилась пойти на Большую Полянку. Ей очень хотелось чем-нибудь услужить Валентине Михайловне, а заодно и той старушке, ее соседке, которая, судя по всему, тоже была человеком одиноким.
На негромкий Маришин звонок теперь дверь открыла сама Селиванова. Лицо у нее было напудрено, ярко накрашены губы. Одета она была в синий шерстяной костюм с высокими плечами и большими острыми бортами. В петличке белела красивая шелковая ромашка.
– Заходи, заходи, Огонек. Но у меня всего полчаса: я ухожу в театр.
Макар суетился и скулил, чувствуя, что сегодня вечером он останется один. Лакированные туфли хозяйки вызывали у него активный протест, он пробовал царапать их лапой.
– Если хочешь, можешь у меня переночевать, – сказала Селиванова. – К двенадцати я вернусь. Посиди с Екатериной Серапионовной. Неплохая старуха.
Мариша решила остаться. Екатерина Серапионовна напоила ее чаем. Чашечки, из которых они пили, были страшно тонюсенькие, весили не больше кленового листа. Этих чашечек у Екатерины Серапионовны осталось всего несколько, но она не пожалела их подать. Значит, посчитала Маришу достойной гостьей.
– Книжек у вас сколько, – сказала Мариша, – вот бы почитать!
– Пожалуйста. Что вы любите?
Мариша должна была признаться, что читала совсем мало.
Некогда, да и где в деревне книжки возьмешь? Старушка была очень удивлена.
– Разве у вас там не было библиотеки?
– В районе только. Я раз зашла…
– Ну и что же?
– Дали мне книжечку… Стала читать, да что-то не поняла.
Екатерина Серапионовна была тронута Маришиной искренностью.
– Я найду для вас что-нибудь подходящее, – обещала она.
Так странно, непривычно было Марише слышать, что кто-то обращается к ней на «вы». Тем более такая культурная старушка в золотых очках с черным шнурочком.
– А вы сами тоже книжки пишете? – рискнула спросить она у Екатерины Серапионовны.
– Ну что вы! Для этого нужен талант. А я просто записываю… В жизни было много событий, встреч. Возможно, это даже кому-то и будет интересно.
Селиванова вернулась в первом часу ночи. Бросила на стол измятую театральную программку, на которой Мариша разобрала: «Стакан воды». Устало стащила с ног лакированные туфли, швырнула на спинку стула синий жакет с шелковой ромашкой в петлице.
Мариша решила, что Валентине Михайловне не понравился спектакль, поэтому она и не в духе. Но Селиванова сказала какую-то странную фразу:
– Боже, какие бывают кретины!.. Ну, просто ничего не доходит!
Тогда Мариша догадалась, что Селиванова была в театре не одна. И как бы в подтверждение этого в затихшей квартире резко зазвонил телефон. Селиванова вышла в коридор и взяла трубку.
– Конечно, уже дома, – сказала она. – Вы что, думали, я на улице ночевать буду?
Вернулась в комнату, погасила свет и начала раздеваться.
– Поразительная заботливость! – вдруг бросила она то ли Марише, то ли самой себе. – Лучше бы такси поймал.
Очень скоро Мариша заметила, что ее прихода на Большой Полянке ждут. Поэтому каждое воскресенье аккуратно приходила. Екатерина Серапионовна показывала ей, как раскладывается пасьянс, который Мариша первоначально приняла за гадание. Поручениями ее тут не обременяли, разве что Селиванова просила зайти на рынок и купить морковки для «дуралея», то есть для Макара.
– Сколько у нас в деревне моркови! – сказала Мариша. – А ни одна собака есть не будет.
Так началась первая московская зима, которая ни в чем не разочаровала Маришу: она устроилась на работу, получила московскую прописку, разыскала Валентину Михайловну и познакомилась с Екатериной Серапионовной. Тут, на Большой Полянке, к ней стали относиться как к своему человеку, ничего от нее не скрывали: ни пристрастий, ни слабостей, ни странностей. Мариша не могла не заметить главное: обе ее новые приятельницы очень мало занимались делами сугубо житейскими и обе не терпели праздности. Старушка с завидным прилежанием что-то писала и переписывала, посещала какие-то собрания и вела общественную работу в домоуправлении, а Селиванова даже в воскресенье с утра садилась у телефона и начинала обзванивать медицинские учреждения: кого-то куда-то надо было перевести, кого-то срочно оперировать, срочно достать какие-то лекарства.
– Что же вам совсем покою нет, Валентина Михайловна? – вздохнула как-то Мариша. – Чаю попить не можете.
– Да, – согласилась та, – надо было идти в стоматологи.
Чаю она все-таки выпила, потом заглянула в комнату к соседке.
– А вы почему дома? Ведь на Новодевичьем открывают какой-то мемориал.
Старушка спохватилась, надела шляпу и поспешно удалилась. По Москве она всегда ходила пешком, не любила ни троллейбусов, ни автобусов.
– Примечательная все-таки старуха, – сказала Селиванова. – Единственный сын погиб на фронте, муж скоропостижно умер, – другая бы духом пала. А эта, как видишь, бегает…
Мариша видела, что отношения между Валентиной Михайловной и ее соседкой очень хорошие, что стоит Екатерине Серапионовне занемочь, Селиванова тут как тут. А ведь они даже не дальние родственники, а люди, которых судьба совершенно случайно свела в одной квартире.
Марише шел двадцать третий год, но она была дитя трудных лет и осталась некрупной, на вид почти девчонкой. Это преимущество давало ей возможность утаить годика два-три. И если по деревенским понятиям она была уже «старуха», то здесь, в Москве, ей эта кличка не угрожала.
– Скажите, а почему бы вам не выйти замуж? – как-то спросила ее Екатерина Серапионовна.
Мариша сперва покраснела, потом побелела и ответила тихо:
– Как же выйдешь-то?.. Я ведь тут мало еще кого знаю.
В мае по случаю дня рождения Мариши Екатерина Серапионовна повела ее в филиал Большого театра на «Царскую невесту». Предварительно она разъяснила, кто такой был Иван Грозный, кто такие опричники, как деспотизм царя крушил человеческие судьбы.
– Тем не менее это был великий преобразователь, – добавила Екатерина Серапионовна. – Этого не надо забывать.
– Вам следует выступать с лекциями, – язвительно заметила присутствовавшая при этом Селиванова. – Если будете упирать на то, что для великих преобразований необходимо было каждого третьего сажать на кол, как раз попадете в точку.
Услышав эти слова, Мариша даже испугалась, хотя смысл сказанного дошел до нее далеко не полностью.
– Идите, идите, – уже мягче сказала Селиванова, – опоздаете.
Сидели они далеко, в последнем ряду третьего яруса. Больше восьми рублей за билет Екатерина Серапионовна не могла себе позволить.
Царская невеста была не очень молода и несколько неповоротлива, но голос у нее был просто соловьиный. До Мариши впервые доходил живой, чудесный звук, а не тот, который ей до этого приходилось слышать из радиоприемника. А когда Марфа запела: «В том городе мы вместе с Ваней жили…», Мариша вспомнила свою Орловку, черный огород со множеством грачей, зеленый яр, в котором журчал ключ, и молча заплакала. Молодой боярин Лыков показался ей чем-то похожим на Рэма, и к концу акта слезы потекли сильнее.
Екатерина Серапионовна потрепала своей мягкой ручкой тоже маленькую, но твердую Маришину руку.
– Эти слезы делают вам честь, – сказала она.
В антракте они вышли в фойе, увидели, как у буфетных стоек люди едят бутерброды с копченой колбасой и пьют ситро. Может быть, Маришина спутница смутилась своего безденежья, а может, это действительно было ей не по душе, но она сказала:
– Мне не нравится манера набивать рот в театре.
Они с Маришей отошли и сели подальше от тех, кто ел и пил.
Весна – лучшее в Москве время года, это поняла Мариша. В деревне они, бывало, плавали по полой воде, не могли вытащить ног из черной грязи. Запасы топки подходили к концу, и если тепло запаздывало, то все ходили хрипатые, простуженные, обветренные, собирали каждую сухую травинку, щепку, чтобы истопить печь и обогреться.
А здесь было сухо, тепло, везде чисто выметено. Когда они с Екатериной Серапионовной поздно вечером возвращались из театра, шли через Красную площадь, Марише показалось, что все кругом – сказка: в ушах еще стояло грустное пение, а над Василием Блаженным в фиолетовом низком небе стелилось густое, с кровавым подплывом облако. Замоскворечье светилось из сумерек не уснувшими еще окнами. Все это было очень похоже на ту декорацию, которую человеческой рукой, казалось, нельзя и нарисовать.
Марише хотелось остановиться, замереть и смотреть. Но нужно было поторапливаться, чтобы не обеспокоить Селиванову поздним приходом: часы над Спасскими воротами показывали уже первый час ночи.
Лето в Москве стояло очень жаркое. После деревенского простора Марише все не хватало воздуха, мокло за пазухой и сохли губы.
В один из горячих и пыльных июньских дней она поехала на Большую Полянку. В жарком воздухе плавал запах цветущих лип.
Трамвай, на который Мариша села, звонил громко и нудно, от этого звона становилось еще жарче.
Селиванова была сегодня чем-то явно раздражена. Много курила и разговаривала отрывисто.
Екатерина Серапионовна потихоньку объяснила, почему у Валентины Михайловны неважное настроение. В квартире на Большой Полянке ранее проживал один полярник, который постоянно был в отлучке, – Мариша удивлялась, почему дверь в третью комнату всегда закрыта и жильцов не видно. Теперь на эту дверь был повешен сургуч на веревочке; полярник получил отдельную квартиру в первом жилом высотном здании, а в его комнату должны были вселить какого-то нового жильца. Он бы уже появился, но домоуправление все тянуло с ремонтом.
– Я понимаю Валины опасения, – сказала Екатерина Серапионовна. – Мы ведь уже давно живем в квартире вдвоем. А теперь могут появиться люди, которые не переносят собак.
Мариша привыкла к Макару, и сейчас ей уже странно было, что кто-то может его не переносить.
– Разве что только с кошкой въедут, – сказала она, – тогда конечно…






