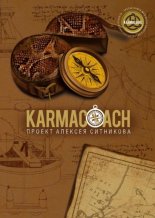Ты никогда не исчезнешь Бюсси Мишель

– Я не очень хорошо себя чувствую. Посмотришь меня?
Диагностика на скорую руку. Потрогала лоб – есть небольшая температура. Нос заложен. Влажный кашель. Горы ему не на пользу. С тех пор как мы приехали, он не вылезал из простуд и бронхитов. Я оставляла на тумбочке запас лекарств и выдавала точные предписания. Вернувшись, проверяла, все ли он принял. Настоящая мамочка.
Воспользовавшись тем, что я наклонилась к нему, он попытался задержать меня.
– Ну побудь хоть пять минут.
– У меня нет времени. Меньше часа на то, чтобы поесть, и снова на работу.
Разочарованный Габриэль скорчил недовольную гримасу.
– Потом поем. Я поздно завтракал.
На тумбочке, среди таблеток и флаконов, я заметила включенный планшет. Наверное, опять все утро играл в какую-нибудь дурацкую игру или торчал на сайтах купли-продажи, где каждому внушают, будто можно в два счета стать торговым посредником.
Вздохнув, поцеловала его и направилась к двери. Мне не хотелось с ним ссориться. Только не сегодня. Мне хватало других забот. Никогда не давать никаких обещаний. И никогда их не требовать. Габриэль вел себя как истинный подросток. Но мне, возможно, попросту не надо было, чтобы он повзрослел, стал серьезным, скучным, предсказуемым, уверенным в себе, независимым, грустным и вымотанным, как все мужчины, придавленные грузом своих обязанностей. Я предпочитала держать дома хрупкую и слабую птичку, даже если жители Мюроля, так редко видевшие Габриэля, могли в конце концов решить, будто я – одинокая и неуживчивая старая дева, заживо похоронившая себя в этой долине. Приманка для всех здешних альфонсов.
– Уже уходишь?
– К сожалению, у меня пациенты до самого вечера… Звони мне, если что.
– Ладно, иди работай.
И Габриэль снова уснул, даже не укрывшись простыней, а я пошла к лестнице.
Я ему соврала. Следующий пациент у меня был записан только на 13:45. А есть мне тоже не хотелось.
* * *
Я поставила машину на давно опустевшей парковке станции Шамбон-де-Неж, у подножия подъемника на гору Жюмель. Теперь здесь буйно цвели подснежники. Сотни белых цветочков – как будто природа развлекалась, создавая иллюзию снежных хлопьев. Ниже лежала деревушка Фруадефон, по прямой три километра, если не петлять вместе с дорогой Д36.
Я свернула на дорожку вдоль реки и пошла через тенистый подлесок, стараясь держаться подальше от колючих кустов и хватаясь за самые близкие к берегу ветки. Вода в реке почти не поднялась, можно было перебраться через нее по камням, не замочив ног. На вершинах не было снегов, которые обычно ее питают до конца зимы. Сиротский ручеек, которому легко преградить путь, устроив запруду из трех булыжников.
Однако возле деревушки над речкой перекинут широкий каменный мост. Всего одна арка, но величественная, на фоне десятка домов с черными гранитными стенами и закрытыми ставнями, прачечной, источника и двух ферм чуть ниже, справа и слева от дороги.
Одна из них – ферма Амандины. Вернее, раньше там была ферма. От нее остался двухэтажный дом с облупившимися саманными стенами и пустой сарай с дырявой крышей – плохо закрепленный кусок драного пластика хлопал на ветру, ни от чего не защищая. Еще там были засыпанный колодец, каменная скамья с прислоненным к ней велосипедом, перекрученная сетка на четырех колышках вокруг крохотного огородика, валялись несколько ржавых лемехов. Среди всего этого бегали куры, за которыми с подоконников следили тощие кошки.
Прежде я проезжала эту деревушку, не останавливаясь, лишь мельком бросив взгляд на ферму. Пусть первый шаг сделает Амандина Фонтен. Деться ей некуда – в долине нет других врачей, кроме меня. А мне нужен повод навещать ее. Стать ее семейным врачом, который приезжает запросто и входит без стука. Расспрашивает и высматривает, потому что беспокоится о здоровье мальчика.
Даже если Амандина мне не доверяла, она сама ко мне пришла. И попалась в ловушку.
* * *
13:20
Я дошла до источника в дальнем конце деревушки. Никем не замеченная – во всяком случае, я на это надеялась, хотя кто угодно мог меня увидеть сквозь щели рассохшихся дверей или из чердачного окошка. Трудно было определить, покинута ли деревня жителями или ее, напротив, камень за камнем восстанавливают дачники, приезжающие только на лето.
Если немного пригнуться, можно укрыться за источником, он достаточно высок. У воды, вытекавшей из медной трубы и наполнявшей чашу, был странный красноватый оттенок. В краю вулканов это не редкость. В воде, наверное, много железа, это считается полезным для пищеварения, но мне противно было смотреть на покрытые ржавчиной стенки гранитной чаши и застоявшуюся на дне лужицу. Вы уж извините, традиции традициями, а мне потом приходится выписывать пациентам таблетки от желудочных расстройств.
С моего места были видны двор фермы, по которому бродили куры, и входная дверь. Ждать пришлось всего несколько минут, вскоре дверь открылась и появилась Амандина. Я следила, как она идет к огороду, приподнимает пленку, которой накрыты грядки, и, надергав зелени, с трудом распрямляется. Она опять, как в моем кабинете, держалась за живот, но теперь ее еще сотрясал сухой кашель. Амандина быстро вернулась в дом, не закрыв за собой дверь.
Двором снова безраздельно завладели куры.
Я продолжала тупо ждать неизвестно чего, глядя на птиц. Было неловко. А вдруг меня кто-то заметил? Я, конечно, всегда могла бы сказать, что навещаю Амандину и Тома, что я беспокоюсь за свою пациентку, но…
И тут послышались три ноты. Все время одни и те же.
Соль ми фа соль ми фа соль ми фа
Неверные, фальшивые, терзавшие слух.
Казалось, назойливый мотив приближался, он звучал все громче, но нисколько не чище, еще сильнее резал уши. И наконец появился Том. Так вот кто играл! Он направился к скамье посреди двора. Мальчик выглядел таким одиноким, и у него был странно тревожный взгляд – как будто его сбросили в этот двор, как будто он упал с луны или с ракеты и его пугает каждая мелочь… Эстебан смотрел таким же отсутствующим взглядом – казалось, он различал за окном далекую планету, доступную лишь истинным артистам. Но Эстебан был любимым ребенком, окруженным заботой и вниманием. Я прислушивалась к нему, замечала его способности. А Том казался… заброшенным.
Отодвинув прислоненный к скамейке велосипед, он устроился на ней среди квохчущих кур. Я старалась удерживаться от поспешных суждений. Не было никаких оснований предполагать, что с Томом плохо обращаются или что Амандина его не любит. То, что он жил на обветшалой ферме или что мать лечила его сама, вовсе не значило, что его жизнь в опасности.
Соль ми фа соль ми фа соль ми фа
Я наконец распознала аккорды вступления к Wonderwall[3].
Тому предстоит еще немало потрудиться. Талантом, по крайней мере, он сильно уступает Эстебану… На мгновение это меня успокоило, но я тут же спохватилась: Том явно не бывал ни на одном уроке сольфеджио, на ферму точно не приходил учитель музыки, да и вообще – держал ли Том когда-нибудь в руках гитару?
Я прищурилась. Испарения пузырящейся красной воды источника раздражали кожу лица – во всяком случае, мне так казалось. Что-то похожее чувствуешь, если слишком долго сидишь над тлеющими углями костра.
Мне наконец удалось разглядеть инструмент, на котором Том пытался играть.
Он просто подобрал гибкую ветку, стянул ее концы веревкой так, что получилось нечто вроде лука с короткой тетивой, а потом между веткой и веревкой натянул шесть ниточек.
Самодельная гитара. Или, вернее, арфа. А еще точнее…
Лира.
Я закашлялась, рискуя себя выдать.
Лира?
Но нет, это лишь мое воображение превратило согнутую ветку и шесть ниток в подобие античного инструмента богов.
Наверняка мне это почудилось просто потому… потому что Эстебан любил этот инструмент.
Лира-гитара, которую он так и не получил в подарок на день рождения.
Я испугалась – может, я совсем уже схожу с ума и все, что бы ни сделал, что бы ни сказал Том, будет возвращать меня к поступкам и словам Эстебана?
Чуть ли не каждый мальчик теребит струны гитары.
Вот именно – гитары…
Но лиры?
– Тебе пора! – внезапно раздался голос из так и не закрытой двери.
На пороге появилась Амандина с книгой в руках.
Том положил свой инструмент на скамейку, оседлал велосипед.
Мать ничего не сказала ему на прощанье, не пожелала удачи. Даже не переглянулась с ним. Стояла и смотрела ему вслед, улыбаясь так, будто радовалась, что наконец от него отделалась.
Я знала, что не должна так думать. Что невозможно истолковать улыбку, взгляд, жест, а тем более – их отсутствие.
13:25
Я снова увидела Тома, он катил вниз, уже три петли дороги были позади. До школы в Мюроле ему оставалось ехать не больше пяти минут. За это время мне не успеть вернуться к машине, завести ее, снова припарковаться… Расписание во второй половине дня у меня было плотное, но я могла освободиться к концу уроков, а от моего кабинета до школы нет и сотни метров.
Дверь закрылась. Амандина меня не заметила. Я в последний раз окинула взглядом долину. Велосипед Тома уже скрылся за поворотом, ведущим к Мюролю.
8
Мартен Сенфуэн решил повысить передачу еще на одно деление. 52/11. Дальше некуда. Он уже много лет так не гонял. Скорость от 48 до 51 километра в час. На обманчиво ровной площадке кемпинга это настоящий подвиг, он знал кучу мальчишек из клуба «Мон-Дор», которым нелегко было бы за ним угнаться. И он наддал еще.
53 километра в час.
Он сосредоточился на белых полосах шоссе, голова пригнута, тело вытянуто, как скоростной поезд, встречный ветер скользил по нему, так и казалось, что ветер его подхватывает и несет.
Мартен приподнялся на педалях и выжал из машины еще немного. Ему надо было разогнаться по максимуму, перед тем как приступить к последнему испытанию – перевалу Круа-Сен-Робер. Четвертый и последний подъем на сегодня.
Он только что взял один за другим перевалы Банн-д’Орданш, Роше-де-л’Эгль и Круа-Моран, это километров двадцать по подъемам и почти полторы тысячи метров перепада высот. Но лучшее он приберег под конец – самый высокий перевал Оверни, 1451 метр, и вольный ветер, ни одного дерева, чтобы укрыться. Конечно, это не Венту и не Турмале, но чередование пиков ничем не хуже. Он любил эти резкие, быстрые подъемы, длинные петли спусков в другие долины – и сразу же новый перевал.
Особенно сегодня. Ноги – просто огонь! Что на него так подействовало – пирог с ромом или травяной чай? Если он продержится в таком темпе до вершины, перед ветеранским чемпионатом Франции попросит Нектера заготовить целую бочку этого зелья.
Ну, поехали – впереди подъем, десять километров и сорок три виража!
Сколько раз он его одолевал? Он знал, что не надо слишком гнать поначалу, первые километры – самые крутые. Вспомнил Бернара Ино – в 1978 году тот расписался на его бейсболке в Бессе, в начале этапа, а победа тогда досталась этому лузеру Юпу Зетемельку. Кто бы мог подумать, что несколько дней спустя, в Альпах, он выиграет первую свою гонку «Тур де Франс»?
Да, Бернар, овернские перевалы надо уметь укрощать!
Пять делений в обратную сторону. Мартен перешел на 52/17. Только не вставать на педалях, не сейчас, рано ехать стоя, раскачиваясь вправо-влево, еще километр крутого, но ровного подъема. Надо приберечь силы на петли.
Сердце тоже разогналось. 29 километров в час, никогда он так быстро не ехал на этом участке, и ему казалось, что он может еще прибавить скорость. Что он обгонит любого чемпиона! Он лишь на мгновение поднял голову, чтобы полюбоваться линией хребта, зеленой линией без скал и ледников.
Мысли улетели в прошлое. Ему восемь лет, и он помешан на велогонках. Все лето он слушал репортажи с этапов по радио, но сегодня «Тур де Франс» проходит через его края. 12 июля 1964 года – он здесь, на одном из виражей овернского исполина, он это видит и не забудет никогда! Пулидор обгоняет, метр за метром отрывается от великого Анкетиля[4], и нормандец, собрав последние силы, сокращает разрыв – всего на четырнадцать секунд. В тот день Мартен понял, кем он хочет быть: Пупу – или никем!
Первая петля, первое ускорение, всего двадцать метров, только чтобы набрать темп.
Жизнь решила по-другому. Судьба. Он не станет Пупу, он никем не станет. Будет как все. Всего лишь воскресный гонщик в ожидании пенсии, когда сможет быть гонщиком и с понедельника по субботу тоже.
Перед ним был Мон-Дор, за облезлыми вершинами вулканов, которые предстояло обогнуть. Он впервые поднимался на перевал Круа-Сен-Робер зимой. Никогда, за всю свою жизнь, он не видел, чтобы там было так мало снега. В другие годы разве что с шипованной резиной…
Мартен слегка расстегнул молнию. Прямо как летом!
Пупу – или никем…
Два года назад он мог бы стать чемпионом Франции среди ветеранов, если бы так глупо не пропустил вперед ту парочку из Бордо. Он тогда был недостаточно тренированным. Но сегодня… Надо выложиться полностью, начиная с шестнадцатой петли. Уклон не больше 5,7 %, хорошая траектория – может, у него получится удержаться на скорости не меньше 25 километров в час. А может, даже и 28. Никогда еще ноги так легко не ходили.
Что же такое Нектер мог подсыпать в свой чай?
Мартен развеселился от того, что так летел. Он понимал, что ему не стать великим гонщиком, он всего-навсего любитель, но это не мешало мечтать о минутах славы, о победе – хоть раз вскинуть руки на вершине, получить букет победителя…
Перед тем как атаковать последние десять петель, Мартен бросил взгляд на Пюи-де-Дом. Никогда он не будет ни Бернаром Ино, ни Тибо Пино, но он может, по крайней мере, стать Пьером Матиньоном – тот хоть и пришел последним в «Тур де Франс» 1969 года, однако первым тогда достиг вершины самого высокого из вулканов, и сам великий Эдди Меркс[5] не угнался за ним.
Лучшая из историй «Тур де Франс»!
Осталось всего восемь петель. Они самые трудные.
Ветер бил в лицо. Ледяной ветер. И ни одного дома, за которым можно укрыться, последняя пастушья хижина осталась позади, даже коров не видать.
Мартен снова застегнул молнию.
И все же он чувствовал, что может еще прибавить. Обычно у самой вершины молочная кислота сковывала его ноги от бедра до голени. На этот раз они все еще крутились легко, как стрелки «ролекса», хотя сердце колотилось все сильнее.
До вершины оставалось всего триста метров. А потом – весь спуск, на котором можно отдохнуть, отдышаться, успокоить пульс.
Первый кинжал вспорол ему грудь. Первое предупреждение.
Мартен огляделся. Никого. Спешиться сейчас – глупее не придумаешь.
Он ограничился тем, что стал чуть меньше налегать на педали, чуть понизил передачу и поморщился, пожалев об этом.
Скорость теперь снизилась почти до 10 километров в час, и он представил себе, как во время гонки плотная группа обошла бы его перед самой вершиной, а он смотрел бы ей вслед.
Осталась всего-навсего сотня метров.
В сердце впился второй кинжал. От боли Мартен едва удержался на седле и все же чудом выправился, виляя покатил дальше, не понимая, что с ним происходит. Теперь он еле двигался, почти не жал на педали, только чтобы не упасть, старался дышать медленно, ровно, вот преодолеет вершину – и останется только скользить вниз.
Еще один метр.
Третье лезвие – и онемевшие руки выпустили руль. Велосипед повалился набок, у Мартена не хватило сил даже на то, чтобы высвободить ноги из захватов на педалях. Шлем и рама с оглушительным грохотом ударились об асфальт.
Мартен этого уже не слышал. У него не было сил говорить, не было сил подняться, не было сил вытащить телефон из сумки. Он знал, что здесь, на вершине, никто ему не поможет.
Он знал, что сейчас умрет.
Его сердце уже почти заглохло. Он почти перестал дышать.
Что было в этом проклятом чае?
Выиграл бы он ветеранский чемпионат?
Получил бы свой букет?
Это была его последняя мысль.
Получит ли он свой букет на вершине? Маленький крест, украшенный цветами. И короткая надпись.
Мартен Сенфуэн.
Не Пупу и никто.
III. Явление
Пуаро
9
Терраса мэрии была залита ярким солнцем. От нагретого лавового камня шел жар, как от печки. Еще немного – и можно будет вытаскивать шезлонги и раскрывать пляжные зонты. Савина вышла покурить и заодно полюбоваться видом на колокольню церкви Сен-Ферреоль, развалины замка и школьный двор. Она упивалась запахами хвои и жимолости, ее убаюкивали редкие долетавшие до нее звуки: зеленый дятел долбил клювом соседнее дерево, где-то далеко в лесу гудела бензопила, за каким-то окном играло радио…
И вдруг всю дремотную сладость медленно текущего полуденного часа разом смело. Сначала раздался звонок – нечто среднее между пожарной сиреной и церковным колоколом, следом – топот конницы, пятьдесят двуногих пони галопом понеслись со школьного двора: ранцы за спиной, пальто нараспашку, шарфы вразлет, звонкий смех.
Уроки закончились!
Для деревни это час ежедневного выплеска адреналина – час, когда по улицам, мимо как попало припаркованных машин, мчатся дети.
– Нектер, иди сюда, посмотри.
Савина не закрыла за собой входную дверь. До школы нет и пятидесяти метров, и к мэрии, вопя и хохоча, неслась ребятня.
– На что? – откликнулся Нектер.
– Брось ты свои марки, иди сюда!
Секретарь мэрии был в нерешительности. Больше всего на свете он боялся сквозняков. А сейчас приступил к самой деликатной операции: при помощи влажной губки отклеивал марки с конвертов только что полученных писем и, подхватывая их пинцетом, помещал в кляссер. Сегодня ему достались редкие: Пику-ду-Фогу, Кверкфьоль и Альмолонга, они пополнят его уникальную коллекцию, его гордость, сокровище, которое он решил, уходя на пенсию, завещать мюрольской мэрии: десять альбомов, заполненных марками с изображением вулканов со всего света! Нектер Патюрен выискивал по всему миру города и поселки на склонах кратеров. Писал туда – и дожидался ответа… с наклеенной маркой.
– Не могу. Все разлетится.
– Шевелись, говорят тебе.
Коллекционер марок с вулканами – редкая разновидность в разветвленной семье филателистов – не спеша накрыл свое последнее приобретение промокашкой и придавил куском базальта, заменявшим ему пресс-папье. «Да что ж он всегда так копается…» – досадовала про себя Савина.
Наконец Нектер Патюрен вышел на террасу.
– Ну слава богу, – вздохнула социальная работница. – Стой на месте и наблюдай.
Секретарь поглядел на разбегавшихся врассыпную детей. Почти всех он знал. Сын мясника Натан, дальние родственники Жад, Амбр и Энзо, малолетние шалопаи Элиот и Ада – уж за этими надо бы получше приглядывать, – Янис, который прошлым летом чуть не утонул в озере Шамбон…
– Что я должен увидеть?
– Вон там, на стоянке медицинского кабинета.
Нектер прищурился. Машина на парковке. Винно-красного цвета. Довольно элегантная машина, сказал бы он, хотя вообще-то ничего в этом не понимал, маленькая, размером с «Клио» или «Пежо 208». Что за марка? Он присмотрелся. «Альфа Ромео Мито».
– Это машина доктора Либери?
– Ты просто гений! Наклонись и загляни внутрь.
Нектер изогнулся как мог. Ни малейших сомнений, за рулем доктор.
– Ну да, она сидит в машине. И что с того?
– А разве она не должна сейчас принимать пациентов?
– Необязательно. Может, ей надо было уединиться, чтобы послать эсэмэску возлюбленному. Единственная странность, если хочешь знать мое мнение, – то, что она решила заживо похоронить себя здесь. Для своих лет она прекрасно выглядит.
– Спасибо, Нектер, за проявленный такт! – не утерпела Савина.
Секретарь мэрии покраснел и рассыпался в извинениях. Он совсем не это имел в виду. Конечно, в Мюроле женщины тоже красивые, речь не об этом, а собственно, о чем речь? О том, что врачиха сидит одна в машине, когда дети выходят из школы?
– А что тут такого, хочет и сидит, – заключил секретарь, которому не терпелось вернуться к своим филиппинским маркам.
– Я уже давно наблюдаю за ней, – объяснила социальная работница. – Она все время смотрит в зеркало заднего вида. Я не могла понять, что она там высматривает… А теперь знаю.
– И что? Вернее, кого? Отца Яниса? Или Элиота и Нолана? Она западает на спасателей и лыжных тренеров? Ее удивляет, что здесь могут жить красивые мужчины?
– Не валяй дурака. Она шпионит за мальчиком, который вышел из школы. Том, сынишка Амандины Фонтен. Только за ним никто не приходит.
– Ты вообще-то поаккуратнее, она, кажется, вылезает из своей «ламборгини».
Нектер был прав. Они с Савиной едва успели отступить за угол мэрии, оставив после себя легкое облачко сигаретного дыма. Мадди Либери открыла дверцу и, похоже, пряталась за своей машиной. Том был единственным ребенком, оставшимся в школьном дворе. Он стоял около своего велосипеда, вертел головой, размахивал руками, губы его шевелились, как будто он разговаривал с невидимыми детьми.
– И что ты об этом думаешь? – спросила Савина, не сводя глаз с мальчика.
– Что Том всегда был со странностями. У меня такое впечатление, что у него в голове живут несколько человек. Но он мне нравится, и…
– Да я не про Тома, а про докторшу!
Нектер высунулся из-за угла. Конечно же, его седые космы на фоне черного камня совершенно незаметны.
– Ну… она смотрит на Тома… Он ей тоже наверняка нравится.
Савина потянула секретаря назад. Она начинала злиться.
– Нравится? Ты, наверное, шутишь? Ты видел ее глаза? Она смотрит на этого мальчика… как будто это ее сын!
Секретарь, двигаясь со скоростью улитки, исследующей каждую трещинку стены, снова подобрался к углу и покосился на докторшу.
– Ну да… Смотрит как завороженная. И что с того? Она же его не похитит! Она врач. Может, она заметила у Тома какие-то неполадки. Я знаю, что ты опекаешь его маму, Амандину, но она не всегда, как бы это сказать, такая уж…
– Такая уж что?
– Такая уж… заботливая мамочка.
– Можно подумать, ты много в этом понимаешь.
Разговор между Нектером и Савиной уже грозил перерасти в ссору, но в эту минуту на улице, ведущей к мэрии, показалась машина. Она ехала по встречной полосе со скоростью, явно превышающей дозволенные 30 километров в час. Синий фургончик жандармерии остановился посреди улицы, загородив Тома от доктора Либери. Из него выскочили трое жандармов. Один из них, лейтенант Леспинас из бригады Бесса, сказал:
– Савина, Нектер, вернитесь в мэрию и соберите всех сотрудников.
Все быстро зашли в мэрию. Кроме Нектера Патюрена и Савины Ларош, к ним подтянулись Ален Сюше, Жеральдина Жюм, Удар Бенслиман и муниципальные советники Жак Меркер и Сандрина Гули.
Жандармы так спешили, что даже дверь не закрыли за собой.
– Дело в том, что… Мартен… Мартен Сенфуэн… Его нашли на вершине Круа-Сен-Робер. Рядом с его велосипедом. Сердечный приступ. И всё.
Заметив, что дверь мэрии осталась открытой, лейтенант захлопнул ее. Он не хотел, чтобы новость тут же разлетелась по Мюролю.
10
Габриэль, пожалуйста, не перебивай меня, просто выслушай.
Я только что вернулась домой. Машину поставила перед дверью, двумя колесами заехав на тротуар, хотя вдоль дома тянется пустая стоянка на сотню мест. Кинула сумку и пальто на стул. Налила себе рюмку бенедиктина – память о Нормандии – и завалилась на диван.
Восемь вечера, ужин подождет.
Габриэль сидел ко мне спиной, не отлипая от компьютера. Похоже, всю вторую половину дня трудился. Он самостоятельно совершенствовал свой английский. Целый ряд тестов, чтобы определить свой достигнутый, частично достигнутый или пройденный уровень. По его словам, английский сегодня необходим. Чем меньше тебе хочется выбираться из-под одеяла, тем больше нужен язык, который понимают на всей планете. Удаленная работа – это будущее! Она позволяет одновременно сберечь и планету, и свою частную жизнь. Присмотрись к телемедицине, вот увидишь, даже ты к этому придешь.
Может быть…
Уроки английского его явно утомили, но не настолько, чтобы отвадить от экрана. Он влип в MTW-1 – My Tidy World One, – игровой экологический сайт, где каждый игрок действует в виртуальном мире, не загрязняя окружающую среду, может телепортироваться без малейшего расхода энергии, строить хижины из деревьев, которые заново вырастают за ночь, для освещения использовать светлячков и, если захочется, выращивать синие морковки.
Выслушай меня, Габи, выслушай хотя бы сегодня вечером.
Все началось в Сен-Жан-де-Люз, ты был там, Габриэль, все началось с шорт цвета индиго, модель если не редкая, то, согласись, оригинальная – с изображением кита. В крайнем случае я могу поверить, что это была ловушка, которую мне расставили. Понятия не имею, кто мог ее расставить и зачем, но такое возможно, это логичное предположение. Многие люди знали про эти шорты, десять лет назад про них писали в газетах, везде были расклеены листовки с фотографиями Эстебана, объявления о розыске…
Но как объяснить дальнейшее? И прежде всего – ошеломляющее сходство между Эстебаном и Томом. Двойник? Для этого понадобилось бы из сотен тысяч детей выбрать того, кто больше всех похож на Эстебана, и надеть на него такие же шорты. Полная бессмыслица! А остальное? Это родимое пятно? Кто-то дал объявление: «Ищу где-нибудь на планете ребенка десяти лет с таким же в точности лицом, как на приложенной фотографии, и к тому же с темным пятном у паха»? Бред! Да еще пришлось бы добавить, что мальчик любит музыку, может играть на лире и… и ненавидит мед.
Габриэль, может, мне все это снится? Может, я все это выдумала?
Габриэль?
Габриэль!
И тут я заметила у него в ушах беспроводные наушники телесного цвета, скромные и элегантные. Габи меня не слушал, даже не слышал, как я вошла. Может быть, я живу в доме с привидением? Или, наоборот, это я сама стала фантомом и разговариваю теперь только с теми, кого нет, а для остальных уже не существую?
Я на цыпочках вышла из комнаты. Дошла до наружной двери «Мельницы», открыла. Вечер выдался теплый. Лунный серп освещал неровные вершины, каменным зеркалом поблескивал полумесяц кратера. Где-то в темноте стрекотал сверчок – сбитый с толку, позабывший, что зима еще не закончилась.
Я знала, что мне надо было сделать: позвонить единственному живому человеку, способному меня выслушать. Даже если ему совсем не понравится то, о чем я его спрошу.
Достала телефон, помедлила, но, вспомнив про эгоизм Габриэля, отмела последние доводы совести. Извини, Габи, но у красавца доктора Ваяна Балика Кунинга есть все, чего ты лишен. Он трудолюбивый, внимательный и понимающий. И это нисколько не умаляет нежности, которую я к тебе испытываю, да чего там – любви… но мне необходим он!
* * *
– Алло, доктор?
– Мадди! Какой сюрприз! А вы теперь не называете меня Ваяном?
– Называю.
– Ну так расскажите мне про вашу новую жизнь в Оверни.
– Позже, Ваян. Обещаю, я вам напишу. Я… у меня к вам конкретный вопрос.
Ваян не упустил случая поиронизировать:
– Валяйте, спрашивайте. Я так и думал, что вы не к человеку обращаетесь за помощью, а к психотерапевту.
Ваян по-прежнему в меня влюблен или ломает комедию? Не нашел ли он мне замену после моего отъезда? Красивые пациентки не такая уж редкость.
– Ваян, вы решите, что я помешалась, но… мне надо, чтобы вы рассказали мне про реинкарнацию.
Мой собеседник молчал.
– Не то чтобы я в это верила. Ничего подобного, уверяю вас. Мне просто хочется разобраться в основах. И я подумала, что вы должны это знать, потому что вы…
– Родом с Бали, вы это имели в виду? (По тону Ваяна я догадалась, что он обиделся.) По-вашему, если я родом с Бали, значит, непременно индуист? А раз индуист, значит, верю в карму, дхарму и нирвану. Мадди, вам не кажется, что это слишком упрощенный вывод?
Ваян, пожалуйста, не надо, я не хочу сейчас слушать эту песенку франко-балийца, обращенного в рационализм.
– Я просто хочу знать основные принципы, для меня это важно.
– Хорошо, раз вы так настаиваете. Но имейте в виду, что я буду говорить с вами как человек, а не как специалист. Я покинул Бали и стал психиатром именно для того, чтобы уйти от этих верований, или, другими словами – чтобы идти иным путем, не тем, которой был, как считалось, мне предназначен.
– Понимаю. Слушаю вас, Ваян.
– Ваян… – повторил он. – Вот с этого и начнем. Вам известно, что означает это имя?
У меня было несколько предположений, и я не знала, на чем остановиться. Мудрый? Серьезный? Милый? Умный? Красивый? Влюбленный?
– Все балийцы, – продолжал он, не дав мне времени выбрать, – то есть около шести миллионов людей на этой планете, носят одно из пяти имен. Имя Ваян или Путу получает первый ребенок в семье. Второго назовут Кадек, третьего – Ниоман, а четвертого – Кетут.
Я ничем не рисковала:
– Значит, вы были первенцем?
– Даже и этого не было. В семьях, где детей больше четырех, начинают все сначала, и пятого ребенка снова называют Ваян, точнее – Ваян Балик, это можно перевести как «Возвращение к Ваяну», и так далее… И, раз уж я так разоткровенничался, могу вам еще открыть, что мой старший брат Ваян умер за три года до моего рождения, а значит, с точки зрения моих родителей, я – одновременно и я… и он. Я догадываюсь, что такого рода растворение личности нелегко понять, глядя с Запада.
– Да нет… Мне кажется, можно…
Ваян немного помолчал.
– Так вот, Мадди, отвечаю на ваш вопрос. Да, реинкарнация присутствует в повседневной жизни балийцев, как и у всех индуистов и вообще у преобладающего большинства мужчин и женщин, живущих в Азии. Каждый родившийся ребенок несет груз своих прежних жизней. Например, когда я появился на свет, мои родители обратились к медиуму, желая узнать, на кого из своих предков я похож. У нас на Бали и фамилий нет, родители выбирают их в соответствии с нашими прежними жизнями, от которых будут зависеть наши вкусы, способности и будущая профессия. Помимо того что я разделил имя с умершим старшим братом, за два дня до моего рождения дальний родственник умер от желтухи. «Кунинг» на языке балийцев означает «желтый».
Я не смогла удержаться от смеха. Мне представилось монохромное убранство кабинета Ваяна: желтые ткани, топазовый ковер, диван цвета маиса…
– Извините.
– Не извиняйтесь, мне больше нравится, когда вы смеетесь, чем когда поддаетесь этим суевериям. Заметьте, я их не критикую, они помогают миллиардам людей на земле смириться со смертью. И ничто, совершенно ничто не доказывает, что это неверно. Точно так же, как ничто не доказывает, что это правда.