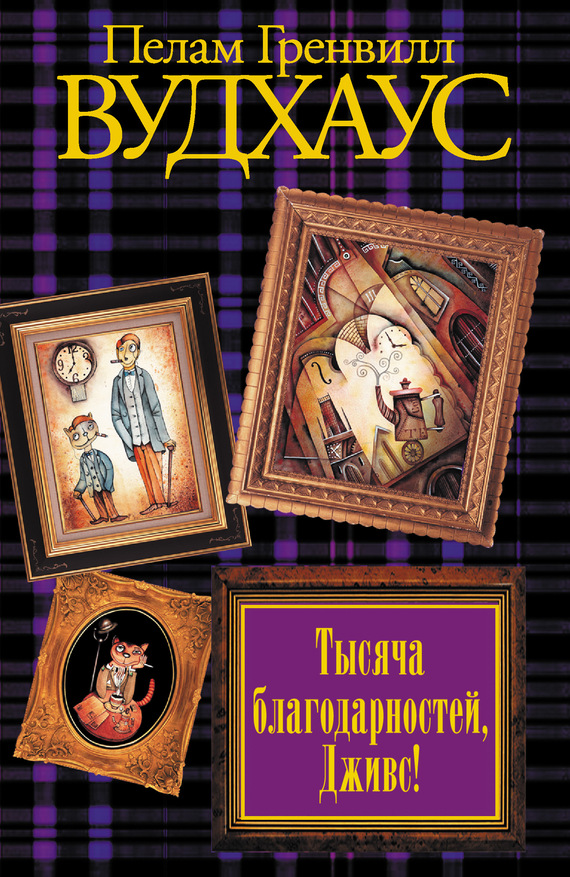Черная линия Гранже Жан-Кристоф

– Ну, когда как. В выходные…
Жак уловил странный запах. Что-то кисловатое, перебивавшее духи китайца. Запах страха. Он продолжал:
– Куда ты ездишь?
– На север.
– На границу с Таиландом?
Джимми корчился на своем стуле. Запах усиливался. Молекулы тревоги парили в воздухе. Реверди настаивал:
– Почему именно туда?
– Чтобы… чтобы ловить бабочек.
– Что за бабочки?
Джимми не ответил.
– Такие маленькие киски, хорошенькие, тепленькие? – предположил Реверди.
– Что? Я… я не понимаю, что вы хотите сказать… это абсурд.
Китаец, дрожа, закрыл свой портфель. Жак уставился на его толстые ручки, и вдруг перед ним встала картина: тот же толстяк, только помоложе, мастурбирует в папашиных вольерах, среди бабочек, скарабеев, скорпионов, тихонько получает удовольствие под жужжание насекомых. Представив себе это зрелище, он понял, что китаец у него в руках – отныне он стал заложником его интеллекта. Он отчеканил:
– С девяностых годов, когда появился СПИД, малайцы привозят к тайской границе девственниц. Насколько я знаю, девочку можно лишить невинности за пятьсот долларов. Немного для такого богатенького, как ты…
– Вы ненормальный.
Вонг-Фат встал, но Реверди поймал его за запястье и заставил сесть. Жест был настолько быстрым, что охранник не успел даже дернуться. Жак прошептал:
– Скажи мне, что это неправда! Что ты каждый уикенд не ездишь искать себе девчушек. В Керох, Танах-Хитам, Кампонг-Калай. За это стоит заплатить. Еще бы: какое удовольствие потрахать этих малышек, без презерватива!
Китаец молчал. Его глаза бегали, как будто он искал убежища на полу. Реверди медленно взял его за руку и мягко сказал:
– Ты не должен ни о чем сожалеть, Джимми.
Китаец поднял глаза. По его щекам катились крупные слезы.
– Знаешь эту фразу из «Риндзай Року»? «Если встретишь Будду, убей его; если встретишь своих родителей, убей их; если встретишь своего предка, убей предка! И только тогда ты получишь избавление!» Ты должен все принимать. Никогда не стыдись, понимаешь?
Он увидел, как в зрачках Джимми блеснул огонек надежды. Вот за чем он пришел сюда: он хотел приобщиться к злу.
Жак выждал минуту в полной тишине, чтобы дать ему перевести дух, потом заговорил опять:
– Теперь моя очередь.
Китаец заерзал на стуле. Он выглядел, как человек, которому наконец разрешили сойти с раскаленных углей.
– Встань и зайди мне за спину.
После длительных колебаний Вонг-Фат повиновался. Охранник выпрямился; он внимательно наблюдал за сценой. Джимми сделал в его сторону успокаивающий жест.
– Посмотри на мой затылок.
Он чувствовал прерывистое, сдавленное дыхание человека, стоящего за его спиной. Он чувствовал едкий, вязкий запах его пота. И в то же время он наслаждался сухостью собственной кожи. Она не выделяла влагу. Его стриженные ежиком волосы не склеивались. Он принадлежал к минеральному миру.
– Что ты там видишь?
– Я… след.
– Какой след?
– Полоску. Вроде шрама, где не растут волосы.
– Какой формы этот шрам?
Молчание. Он догадывался, что китаец, склонившись над его затылком, тщательно подбирает слова.
– Я бы сказал… как петля, спираль.
– Садись обратно.
Джимми вернулся на свое место, он выглядел спокойным. Реверди заговорил своим самым внушительным тоном – так он говорил на своих курсах дайвинга:
– Это не шрам. Не в том смысле, который ты имел в виду. Наружной раны не было. Это облысение.
– Облысение?
– После психологического потрясения в каком-то месте черепа волосы больше не растут. Кожа сохраняет следы травмы.
– Какой… какой травмы?
Реверди улыбнулся:
– Этого я тебе сегодня не скажу. Ты просто должен понять, что, когда я был ребенком, со мной кое-что случилось. После этого потрясения я и храню этот рисунок, запечатленный на моей коже. Петлю, напоминающую хвост скорпиона.
Китаец сидел разинув рот от изумления. Его кадык больше не двигался, он забывал сглатывать слюну.
– Любой другой отрастил бы волосы, чтобы закрыть эту метку. Но не я. Ослабляет только та рана, которую ты скрываешь.
Китаец не сводил с него глаз. Он часто моргал, словно его слепила лампа.
– Моя рана – это не признак слабости. И не увечье. Это знак силы, и весь мир должен увидеть и принять его. Никогда ничего не прячь, Джимми. Ни своих желаний, ни своих грехов. Твой порок, твоя страсть к девственницам – вот след, который ты оставишь в мире.
Реверди снова сделал паузу – Джимми был в восторге. Потом, звякнув своими цепями, он произнес уже менее торжественным тоном:
– Если хочешь быть моим другом, изгони стыд из своего сердца. И прекрати говорить со мной этим снисходительным тоном. Не объясняй мне законов твоей страны. Ты еще ходить не умел, а я уже погружался с рыбаками-контрабандистами у Пенанга. И главное, никогда больше не говори со мной о невменяемости.
Жак крикнул:
– Warden! (Охранник!) – и закончил мягко, словно протягивал собеседнику вскрытый плод манго: – Можешь унести сигареты. Я не курю.
10
Он не нашел в своей библиотеке того, что искал.
Теперь он решил попытать счастья в архивах «Сыщика».
Это гигантское помещение напоминало лабиринт. Издательская группа, владевшая журналом, выкупила архивы старых изданий, относящихся еще к началу двадцатого века. Глядя на коридоры, заставленные металлическими шкафами, можно было подумать, что здесь хранятся страховые контракты или досье управления социального страхования. На самом деле створки этих шкафов скрывали значительную часть человеческих преступлений – убийств, изнасилований, инцестов. Здесь хранились все мыслимые и немыслимые гнусности, тщательно рассортированные по годам, номерам и категориям.
Марк часто приходил сюда поработать, особенно когда вел рубрику «Черные досье истории», посвященную преступлениям прошлого. Помимо архивов как таковых, там имелась рабочая комната, где стояли несколько столов и автомат, продающий кофе. Настоящая библиотека.
Однако ключевым элементом любого поиска считался «домашний» архивариус Жером – создавалось впечатление, что его купили вместе с архивами. Никто не знал его фамилии. Этот человек разговаривал так, словно сам пережил все процессы и расследования, сведения о которых хранились тут. Он не забывал ни одного имени, ни одной даты. Внешность его была карикатурной. Без возраста, без каких-либо особых примет, он в любое время года натягивал на себя несколько свитеров, один на другой. Этакий слоеный пирог из шерсти и нейлона. Услышав вопрос Марка, Жером без колебаний направил его по нужному пути.
Марк хотел перечитать досье, составленное четырьмя годами раньше одним из коллег. С утра в понедельник, бродя вдоль железных шкафов, он размышлял о прошедших выходных. Ему ни на минуту не удалось отвлечься от мыслей о Жаке Реверди. Человек с навязчивой идеей убийства. Жестокий зверь. Соблазнитель. Бабник. Слова, произнесенные Эриком Шрекером и маленькой камбоджийкой, вертелись у него в голове. Не сомневаясь в их правоте, он все же был уверен, что в настоящий момент никто не знал правды ни об этом человеке, ни о его поступках.
В пятницу он кое-как слепил новую статью, скорее развивавшую тему камбоджийского дела 1997 года. Но сейчас ему уже казалось, что написать интересный материал или откопать сенсацию для Вергенса будет не так-то просто. В нем нарастало непреодолимое убеждение: Жак Реверди был Воплощением Зла, преследующим тайную цель. Одним из тех редких алмазов, которые Марк так давно разыскивал. Убийцей, поднявшимся, благодаря своему духовному развитию, до понимания сути собственного невроза и способным помочь ему ясно увидеть лик Преступления.
В течение двух дней он сидел взаперти в своей квартире, снова закопавшись в документы. Вырезки из газет, фотографии, биографии, интернет-сайты – он просмотрел все. Он мог наизусть пересказывать целые куски из прочитанного. Но все факты, исследования, комментарии, славословия неизменно относились к «положительному» этапу в жизни Реверди. Что же касается интервью Пизаи, оно было спокойным, как море в штиль.
Вечером в воскресенье, измученный сорока восемью часами бесплодных поисков, он понял, что ему требуется: войти в контакт с убийцей. Любыми средствами вырвать у него интервью.
Только так он мог узнать больше.
В голову ему пришла одна идея, еще не вполне оформившаяся, но явно заслуживавшая внимания. Марк остановился в одном из коридоров: он наконец увидел шкаф, который искал. Отодвинув створку, он вытащил старый номер «Сыщика». Стоя перелистал его и нашел нужную статью.
Речь в ней шла о переписке между заключенными и людьми «с воли». Марк не очень разбирался в этой теме, он знал только, что серийные убийцы получали весьма разнообразную почту: оскорбления, призывы к раскаянию, письма с выражением сострадания, но также и стихи, признания в любви, слова восхищения…
Пробегая глазами статью, он восстанавливал в памяти цифры и факты. Убийца типа Ги Жоржа получал во время суда до ста писем в день. Американские убийцы переплюнули его – они создавали собственные сайты в интернете, где рассказывали о себе (весьма красочный сайт был у Чарльза Мэнсона), или продавали фотографии с автографами, картины, эскизы, стихи и прозу собственного сочинения.
Однако в репортаже говорилось не только о знаменитостях. Все заключенные стремились к контактам с внешним миром. Тюремная переписка представляла собой особую вселенную. Сфера обменов, чаще всего организованных специальными благотворительными организациями. Во Франции действовали «Почта Бове», «Полынный ликер», «Безликая дружба»… Через них пересылались тысячи писем. Проявляя осторожность, организации всегда советовали добровольным корреспондентам пользоваться псевдонимами и давать свой рабочий адрес. Публиковались также бесчисленные мелкие объявления. Например, рубрика «Чувства в тени» еженедельника «Бродяга» размещала просьбы заключенных, желавших найти корреспондента, подружку или родственную душу.
Родственная душа.
Именно эта тема интересовала Марка. Количество романов, завязавшихся подобным образом, не поддавалось исчислению. Чтобы описать ситуацию, достаточно привести две цифры: девяносто процентов писем из мест заключения писали мужчины, а восемьдесят процентов писем с воли – женщины. Очень скоро переписка принимала любовный характер, а иногда получала счастливый финал: бракосочетание по выходе на свободу или прямо в тюрьме.
Порой речь шла о любви.
Порой – просто о сексе.
Писавшим в тюрьму приходилось сталкиваться с порой нескрываемыми, порой лишь угадываемыми между строк фантазиями заключенных. Эпистолярные отношения становились для них эрзацем отношений физических.
Читая это, Марк чувствовал, что его мозг раскаляется добела. Он помнил, что журналист писал о некоторых отклонениях от нормы, связанных с подобной перепиской. Заключенные – легкая добыча; эти закоренелые преступники никому не доверяют, но в то же время они – мужчины, изнывающие от скуки и одиночества.
Он обнаружил забавные случаи. Во Франции одна женщина «распаляла» заключенного своими чувственными письмами, поощряя его к описанию собственных эротических фантазий. Администрация тюрьмы, встревоженная этой порнографической игрой, выяснила, что женщина была замужем. Она писала письма вместе с мужем: эти извращенцы возбуждались, читая ответные послания.
В Соединенных Штатах из такого рода розыгрышей умели извлекать прибыль. Многие заключенные тюрем Калифорнии и Флориды поддерживали любовную переписку, температура которой накалялась от раза к разу. Вскоре они получили письма с предложением прислать им за определенную сумму фотографии, запечатлевшие их корреспонденток «в натуре». Истекая потом и спермой, те платили, рассчитывая получить снимки женщин, с которыми якобы состояли в переписке. На самом деле никаких корреспонденток не существовало: тут действовала банальная порнографическая сеть, управляемая некими хитрецами, которые решили таким образом придать большую пикантность своим стандартным фотографиям – и повысить цену.
Закоренелые преступники.
И одновременно – мужчины, изнывающие от скуки и одиночества.
Марк закрыл журнал и пошел к ксероксу. В ушах у него звучал голосок Пизаи: «Бабник. Если хотите интервью, пришлите своя подружка». Он дошел до аппарата и начал копировать все подряд, страницу за страницей, даже не опуская крышку.
С каждой вспышкой, освещавшей его лицо, его план становился все яснее. И вдруг в голове у него словно прозвучали четыре слога.
Э-ли-за-бет.
Именно это имя он и выберет.
11
На кастингах Хадиджу поддерживало одно: философия.
В часы ожидания, в комнатах, пропахших смесью табака и духов, когда остальные болтали или молились, она мысленно повторяла свои задания. Когда ее вместе с остальными запихивали в комнату без окон и мебели, если не считать нескольких рядов поломанных стульев, она вспоминала три ступени познания Спинозы. Когда ей предстояло просто продемонстрировать свое сложение, она вызывала в памяти диалектику «хозяина и раба» Гегеля. А если ее просили сделать несколько па в кабинете директора кастинга, она думала о воле к могуществу Ницше. В такие моменты способность сосредоточиваться помогала ей забыть, что она представляет собой всего лишь бездушную плоть – и не более того. Даже если эта плоть претендовала на то, чтобы стать самой дорогой в Париже.
Сегодня она размышляла над главой своей диссертации, посвященной запрету инцеста. В книге «Элементарные структуры родства» Клод Леви-Стросс утверждал, что единственной общей чертой между человеческим и животным сообществами, единственной точкой соприкосновения между природой и культурой является именно запрет инцеста. Социальный, но в то же время универсальный закон.
Этот тезис особенно занимал Хадиджу. Дело в том, что этнолог ошибался: казалось, он не принимал во внимание, что древние общества, даже самые просвещенные, поощряли кровосмесительные связи. Например, в египетских династиях браки заключались между братом и сестрой, сыном и матерью. Способ сохранить священную кровь царей. Ей приходили в голову и другие соображения на сей счет, но пока писать было не о чем. Она вздохнула, закрыла книгу и посмотрела на окружавших ее девушек.
Тут собралась привычная компания: «Ассоциация анорексии», «Богемные красотки», «Восточные ласточки»… И как обычно, ее молнией пронзила мысль: какого черта она тут делает? Ответ был простым: деньги. Если тебе двадцать два года, ты происходишь из семьи алжирских арабов, живущей в квартале «Банан» в Женневилье, и, несмотря на рацион, в котором преобладает вермишель, твой рост сто семьдесят девять сантиметров, а вес – пятьдесят семь килограммов, тебе следует, не раздумывая, попытать счастья. При одной мысли о том, что ее бедра или темные глаза могут принести десятки тысяч евро, Хадиджа чувствовала прилив гордости. Такие шансы грех не использовать.
Она машинально листала свой портфолио, оплаченный агентством «Алис», которое финансировало ее предприятие. Совсем не плохие фотографии… Если не думать о той, кто на них изображен. Об этой девушке с матовой кожей и темными кудрями, старавшейся выглядеть естественно на глянцевой бумаге. Впрочем, Хадиджа любила свою внешность. Ее смуглая кожа была подобна шелковистой муаровой ткани, в которую она могла бы задрапироваться, живи она в пустыне. Ей нравилось собственное лицо, необычное, какое-то угловатое; в детстве ее считали дурнушкой, но в ранней юности красота расцвела внезапно, подобно вулканическому острову, вдруг поднявшемуся над однообразной поверхностью моря. Но больше всего ей нравился собственный взгляд, слегка асимметричные глаза с черными зрачками в золотистом ободке, прятавшиеся под необычайно густыми ресницами. Иногда по утрам, глядя на себя в зеркало, она вдруг задумывалась: и как это Париж прежде мог существовать без нее?
Сегодня она испытывала какой-то дискомфорт. Страх перед кастингом? Нет. Она прошла их не меньше тридцати раз и уже давно закалилась. Стеснение перед другими девушками? Тоже нет. Она привыкла к обществу этих великолепных стерв, оценивавших друг друга с первого же взгляда. Тут было что-то другое. Ее будоражило что-то глубинное, что-то подсознательное. Оглядев собравшихся девушек, она остановила взгляд на блондинке с прямыми волосами, в своей неживой красоте напоминавшей анемичного ангела.
Хадиджа подумала о персонажах научно-фантастических книг, искавших другую планету, потому что на их собственной иссякли запасы энергии. Под ангельскими дугами бровей мерцали голубые звезды. Зрачки. Мазок кобальта, наводивший на мысль о царапине, небесной метке.
Он почувствовала, как к горлу все сильнее подступает тошнота. И все из-за этой блондинки. Она разглядела под макияжем тревожные признаки. Синеватые круги под глазами, капли пота на носу, припухшие веки. «Наколотая», – подумала Хадиджа. В двух шагах от нее наркоманка с подергивавшимися губами, смотрящая на нее невидящим взглядом.
Хадиджа отвернулась и попыталась снова сосредоточиться на своей книге, но было уже слишком поздно. На нее нахлынули воспоминания.
Квартал «Банан» в Женневилье.
Крики, заполнившие трехкомнатную квартиру.
Перепуганные призывы о помощи к врачам.
И ее родители.
Их долгая история, отравленная героином.
Наркотики были ее колыбелью.
Постелью, в которой ее зачали.
Она не смогла бы сказать точно, когда и как она все поняла. Это была истина, это была болезнь, мало-помалу открывшаяся ей. В пять лет ей пришлось привыкнуть к нерегулярному питанию, к бесконечному ожиданию в школьном дворе. Ей пришлось приспосабливаться к загадочным часам, регулировавшим жизнь их семьи. Часам с мягкими стрелками, отмерявшим время, движение жизни без всякой логики. Ее родители ужинали в два часа ночи. Они исчезали на много дней и возвращались, чтобы спать двадцать четыре часа подряд.
Но самое главное, ей пришлось приучить себя к страху. К постоянной угрозе скандалов, злобы, побоев. К непредсказуемой и беспричинной жестокости. И к постоянному смутному убеждению, что источник зла находится где-то в другом месте. Взрослея, Хадиджа поняла: причина всех ее бед крылась в «болезни» папы и мамы. Эта болезнь заставляла их делать себе уколы, внезапно выходить из дома по ночам – и иногда неделями оставаться в больнице.
Хадидже было около девяти лет. Ее взгляд на родителей изменился. Она забыла о своих страхах, обидах, молчаливой злобе и ощутила потребность заботиться обо всех вокруг. Побои, оскорбления – это было ужасно несправедливо, особенно в отношении ее младшего, четырехлетнего брата и двух сестер, шести и семи лет, но обвинять в них кого-то она не могла. Ее родители были пленниками, больными людьми и, по сути дела, не настоящими «взрослыми».
Хадиджа взяла дело в свои руки. Будучи старшей дочерью, она смогла упорядочить жизнь семьи, хотя сама никогда никакого порядка не знала. Отныне именно она забирала братика и сестренок из школы, помогала им делать уроки и читала сказки перед сном. Она подписывала их дневники, заполняла анкеты социальных служб, следила за всем, что следовало прочесть или написать дома. И скоро именно она, десятилетняя, стала бегать на другой конец Женневилье за очередной дозой для родителей, подобно тому, как другие дети бегали в булочную за хлебом.
Она стала настоящим экспертом. Особенно в деле приготовления инъекций. Растворить героин в воде. Подогреть смесь, чтобы очистить. Добавить каплю лимонного сока или уксуса, чтобы наркотик лучше растворился. Залить все это в шприц через фильтр, сделанный из куска ваты, чтобы ни одна пылинка не попала. Другие дети учатся печь кексы – она занималась героином. Или иногда крэком.
Она считала себя медсестрой. У нее развилась мания чистоты. Она постоянно драила ванную, кухню, туалет – все места, где текла вода. Она дезинфицировала все спиртом, ухитрялась заранее получать в аптеке запас шприцев. Она знала, куда надо делать уколы родителям. Вены на их руках уже давно затвердели настолько, что не поддавались игле. Шрамы, корки, нарывы – нужно было искать новые места для инъекций. В ноги, под язык, внутримышечно.
Лучшее время начиналось для Хадиджи после одиннадцати вечера, когда все домашние заботы оставались позади. Только тогда она садилась за собственные уроки. И именно это приносило ей настоящее удовольствие. До сих пор она вспоминала свои разноцветные тетрадки, скрип ручки по страницам с голубыми клеточками. Единственная услада ее жизни. Оазис в пустыне кошмара.
Шли годы. Ситуация ухудшалась. В двенадцать лет Хадиджа поняла, что значение слова «наркотик» прямо противоположно значению слова «надежда». С героином можно было только дрейфовать, опускаться, скатываться все ниже и ниже – до самой смерти. Родители все чаще попадали в больницу, оставались там все дольше. К счастью, отца и мать никогда не госпитализировали одновременно. Иначе всех четверых распределили бы по приютам. Когда кто-то из родителей возвращался после очередного курса лечения, наступала короткая передышка. Но болезнь возвращалась, и безумие усиливалось.
С четырнадцати лет Хадиджа вела бой со временем. Еще четыре года, и она станет совершеннолетней. Каждое утро она молилась, чтобы до этого момента предки не окочурились или не спятили окончательно. Она уже навела справки о том, как следует действовать, чтобы получить опеку над братом и сестрами. Она была наготове. Она ни единого дня не сомневалась в том, что все закончится катастрофой. Но она представляла себе постепенное ухудшение, медленное умирание.
Ей довелось пережить светопреставление.
Ей было шестнадцать: через год ей предстояло окончить школу. Все случилось осенью, но и сегодня она не желала вспоминать точную дату. В ту ночь ее кошмарные сны стали явью. Внезапно она почувствовала сильный запах. Запах пожара, преследовавший ее, теперь действительно был тут, совсем рядом. Она открыла глаза и ничего не увидела. Комнату заполнила черная мгла. Не понимая, что происходит, она пробормотала: «Пепельницы», – и в этот момент поняла, что родителей больше нет.
Хадиджа вскочила с постели и, нащупав брата и сестер, спавших рядом с ней, начала трясти их. Их тела казались безжизненными, словно сон перешел в смерть. Хадиджа кричала, била их, поднимала, и ей удалось вырвать их из удушья. Она распахнула окно, приказала им оставаться на месте и дышать, но не двигаться.
Она выбралась из комнаты и оказалась в темном коридоре. Едва касаясь обжигающе горячих стен, она на ощупь шла к «их» комнате. Ее шатало, ее била дрожь, несмотря на жару, но голова оставалась ясной. Она уже не существовала в настоящем времени, она оказалась в будущем. В глубине души она давала себе клятвы никогда не оставлять своих «маленьких».
Действительно ли дверь раскалилась докрасна, как ей вспоминалось? Нет. В ее памяти произошла какая-то деформация. Ведь она открыла дверь ударом плеча и даже не обожглась. Зато внутри, в комнате, пламя плясало бешеными всполохами. Ее отец, сидя в кровати, горел заживо, явно безразличный к огню, пожиравшему его лицо. Его рука, лежавшая на спинке кровати, оставалась неподвижной. Передозировка. Зажженная сигарета сделала все остальное.
Хадиджа поискала глазами мать. И увидела ее, прижавшуюся к мужу, ее волосы трещали в огне. Она подумала про себя: «Они ничего не почувствовали, они не страдали», – и как раз в этот момент их тела рухнули, провалились внутрь кровати, утратили всякую материальность. Может быть, это была всего лишь галлюцинация, сквозь слезы и огонь… И последняя картина, терзавшая ее память: рука отца, отделяющаяся от туловища и падающая на пол, словно горящее полено в глубине очага.
Она пришла в себя на больничной койке, дыша через прозрачную маску. Врач ласково заговорил с ней. Ее сестер и брата спасли, но предстояло еще опознать тела родителей. Она ведь старшая, не так ли? Через два дня перед ней открыли ящик в морге. Они лежали в обнимку: их не удалось разделить. Две черные массы, спаянные расплавившимися волокнами. Пожалуй, даже романтично.
Глядя на эту обугленную кучу, Хадиджа разрыдалась. С ней случился настоящий нервный припадок. Ее увели, стали успокаивать, ей говорили бесконечные слова утешения. Но ее душила ненависть. Копившиеся так долго бешенство и горечь наконец прорвались наружу. При виде неузнаваемых останков злость удвоилась. Они снова ушли от осуждения, от обвинения. Они оставили их одних в целом мире и опять увернулись от ответственности. Подлые сволочи! Она успокоилась в коридоре морга. Она до сих пор помнила голос врача. Только голос, не лицо. Мягкий голос, призывавший ее к спокойствию. Вечно этот поганый тон! И пустые слова.
Она думала, что с двумя чудовищами покончено. Она ошибалась. Психолог предупредил ее: подобный шок – он говорил о «гематоме сознания» – проходит нелегко. Он оказался прав. Она даже не заметила, что сама пострадала от огня. Во-первых, ожоги. На левом предплечье кожа еще долго оставалась грубой и складчатой, как у черепахи. Но, главное, ее словно выжгло изнутри. Каждую ночь пламя возвращалось. Отец смотрел на нее горящими глазами. И его рука падала снова и снова, разбивая ее сны, разрывая ей душу. Никто не замечал, что она горела заживо. Долгие годы Хадиджа была убеждена, что, подобно облученным в Хиросиме, принадлежит к поколению, пережившему атомную бомбардировку; у этих людей произошли изменения в генах, и они могли воспроизводить только раковые опухоли и рожать детей-монстров.
Огонь принес с собой и другие беды. Ей было всего шестнадцать лет: она не могла стать опекуншей над братом и сестрами. Она подала заявление о досрочном признании совершеннолетия: ей отказали. Детей распределили по разным приютам. Хадиджа старалась изо всех сил: каждые выходные она бежала в Трапп, где жил брат, потом в Мелен, где ее ждали сестры. Это не помогло. Через два года, когда ей наконец исполнилось восемнадцать, они стали чужими людьми. Они не признавались в этом друг другу, но каждый понимал, что встречи пробуждают в них лишь тяжелые воспоминания. О побоях. О наркотиках. О пожаре. И о двух палачах, изуродовавших их детство.
Хадиджа предоставила сестер и брата их новой судьбе. Для их же блага. Даже если это могло обернуться злом. Последний раз она видела Самира, своего маленького братика, в зале для свиданий тюрьмы Френ, куда его посадили за взлом в больнице. Во время посещения он рассказывал ей только, что будет участвовать в конкурсе рэпа в тюрьме. Хадиджа не слушала: она смотрела на него и тщетно пыталась найти в этом грубом лице черты маленького Самира, которого так любила, ласкала, защищала – того, у которого вечно не хватало зубов и которого она называла своим «любимым щербатиком». Она ушла, понимая, что больше сюда не придет.
Стена пламени сомкнулась за ее спиной.
Кто-то окликнул ее. Хадиджа заморгала: комната наполовину опустела. Она шла за ассистенткой неуверенно, еще во власти воспоминаний. Кабинет, где проходил отбор, оказался немногим лучше комнаты ожидания: куча картонок, старая мебель, застарелый запах табака.
За железным столом, развалившись на стульях, два парня в бейсболках беседовали вполголоса, рассматривая сваленные перед ними снимки. Они были похожи на двух подростков, изнуренных мастурбацией, перед кучей старых «Плейбоев». Хадиджа молча протянула свой портфолио – она уже давно не тратила слов зря.
Мужчины рассматривали ее фотографии. Она видела только козырьки их бейсболок. На одном красовался символ Нью-Йорка в виде переплетенных «N» и «Y», на втором – логотип пивной марки «Будвайзер». В мире моды, на определенном его уровне, символом надежности считается проявление мещанства. Эквивалент иронии в мире, где отсутствует юмор.
Закончив просмотр, парни захихикали. Хадиджа подскочила:
– В чем дело?
Один из двоих поднял голову: загорелая кожа, трехдневная щетина. Он вытащил один из снимков, вложенных в альбом, и прочел написанное на нем имя:
– Твои фотографии вовсе не так плохи, Кадиджа.
– Ха-ди-джа, – поправила она, подчеркивая первый слог. – Мое имя произносится «Ха-ди-джа».
– Да-да, – пробормотал он, потирая затылок. – Но твой портфолио похож на каталог готового платья…
– Что вам не нравится?
– Постановка кадров, макияж, ты. Все!
Хадиджа почувствовала, что огонь возвращается, потрескивает под кожей.
– Что я должна сделать?
– Сменить фотографа.
– Но это мое агентство…
– Ну, так поменяй и агентство. С бровями ты собираешься что-то делать?
– С бровями?
– Объясняю: есть специальные машинки. Есть воск. Или пинцет для эпиляции. Нельзя же оставлять эти заросли над глазами.
Мужчина не смеялся. В его голосе чувствовалась усталость. Наверное, с утра он унижал уже пятидесятую девушку. Второй по-прежнему листал фотографии, шелестел страницами.
В ее мозгу словно сверкнула молния: она увидела своего отца, лежащего на диване в гостиной, по вечерам он так же шелестел страницами журналов, уставившись в одну точку, ожидая, когда наступит время для очередной дозы…
Эта галлюцинация помогла ей вернуться в обычное состояние – состояние постоянного бунта, поддерживавшее ее, словно титановый каркас. Она улыбнулась и забрала свой портфолио. Теперь, более чем когда-либо, она хотела понравиться им, соблазнить их.
Она одержит над ними победу на их же территории.
Скоро настанет их очередь сгорать от желания.
Их тела превратятся в горящий факел.
12
Проходили дни, а распорядок не менялся.
Пять утра, подъем.
Темно-синяя ночь в слуховом окне. Поднявшись на цыпочки, Жак мог видеть другие строения. В окнах мелькали огоньки. Раздавались первые звуки – люди кашляли, мочились, умывались. Начинался шум, пока приглушенный, пронизанный звяканьем, воркотней, криками. Огромный зверь просыпался.
Шесть часов, свет.
Анемичная вспышка шестидесятиваттных лампочек. Тупая боль под веками. Контрапунктом – шаги надзирателей по коридорам, стук в каждую дверь, беготня по двору. Время, когда подступала тошнота. Жак понемногу осознавал каждый раздражитель, и все они были непереносимы.
Стены, давящие на психику. Удушающая жара. Беготня тараканов вдоль его матраца. И запахи. Несмотря на все попытки поддержания чистоты, Канара загнивала. Каждый камень, каждая плитка, каждая трещина источали влагу. Даже в разгар сухого сезона все предметы хранили память о муссоне.
Добавлялись и другие запахи: моча, дерьмо, пот… Казалось, в этих стенах органические испарения, слившись воедино, усиливались, сгущались. Потом появлялся запах жратвы. Тяжелый, жирный, вялый. Везли завтрак. Но до него предстояло еще несколько испытаний.
Семь часов.
Перекличка.
Тюремная болезнь. Ритуал переклички – по-малайски muster – повторялся пять раз в день. Это была уже не собственно проверка, а заклинание, призванное помешать чьему-то отсутствию или малейшей попытке побега.
Сухие щелчки задвижек. Хлопанье дверей. Глухой звук шагов. Со временем эти звуки становились такими же знакомыми, такими же личными, как биение собственного сердца. Сбор под большой галереей. При виде всех этих людей Жака все сильнее одолевала тошнота. Все в белых футболках, сидящие на земле, напоминающие мятые куски бумаги. Две тысячи заключенных, по группам, по кучкам. Низведенные до номеров.
Семь тридцать.
Национальный гимн под лучами солнца.
Потом наконец завтрак. Заключенные поднимались, разбредались, чтобы снова выстроиться в очередь вдоль здания столовой. Потом муравейник рассыпался по двору – маленькие точки, сосредоточившиеся на утренней похлебке.
Жак пользовался этим моментом, чтобы забежать в душевую. Прихватив свою gayong (пластмассовую коробку с мылом, зубной пастой и всем необходимым для бритья), с полотенцем и сменной футболкой на плече он входил в это помещение, расположенное в трехстах метрах от столовой. В камере у Реверди был свой душ и к этому времени он уже успевал помыться. Но ему нравились это здание без крыши, это мгновение одиночества среди больших цистерн с водой. Здесь он мог удовлетворить свою тягу. Тягу к воде…
Восемь часов.
Распределение нарядов.
Каждую неделю задания менялись. Сейчас, в конце февраля, требовалось очищать решетки и ограду тюрьмы, чтобы потом специально вызванные рабочие могли наложить на них новый слой антикоррозийной краски. «Добровольцы», завязав лица тряпками, скребли, обдирали, шкурили и постепенно покрывались ошметками железа, так что к концу работы почти сливались с металлическими решетками.
Девять часов, конец нарядов.
Открытие мастерских.
Эрик предупреждал: находясь в предварительном заключении, Реверди не имеет права работать там. Он оставался со стариками, больными, калеками. Жара набирала силу. Шли часы, и она становилась неконтролируемой, беспредельной частью существования. Жак устраивался под галереей, оберегая свое одиночество, стараясь не слушать треп других, тараторивших каждый на своем языке. Сплетни, слухи, истории об амоке и криссе – малайском кинжале с изогнутым лезвием, о котором говорили, что он жаждет крови.
В десять часов он приступал к физическим упражнениям.
Разминка. Упражнения для брюшного пресса. Отжимания. Потом гантели: здесь мастерили гири из камней. Как правило, заключенные качают мышцы, чтобы выйти на волю более сильными, более опасными. А зачем это нужно ему? Философский вопрос: он хотел умереть в самой лучшей форме. Кроме того, это позволяло ему наслаждаться настоящим, поддерживать тело в тонусе. Чувствовать силу, затаившуюся под кожей, словно свет, словно священное масло, пропитавшее каждый мускул, каждую частичку его кожи…
Тренировки у всех на виду были полезны еще в одном отношении. Они показывали его физическую силу. Занимаясь, он ощущал взгляды, устремленные на него из окон мастерских. Даже надзиратели уголком глаза наблюдали за этой демонстрацией силы.
Одиннадцать тридцать.
Новая перекличка.
Полдень.
Обед.
Он ел нехотя, без аппетита, но неизменно и очень тщательно подсчитывал калории. Еда здесь превращалась в акт выживания. С помощью Джимми он сумел улучшить свой рацион: каждый день дополнительно то фрукты, то сахар, то молоко.
Два часа дня.
Возвращение в мастерские.
Для него – время сиесты. Самое тяжелое время. Огромные нервные мухи бились о его лицо, нарушая тишину, искали его глаза. Жак, сонный, низведенный, как и остальные, до положения инертной личинки, ложился на землю, уже не отличая мух от людей на белом фоне двора.
Три тридцать.
Новая перекличка.
Номера, поднимающиеся руки, бормотанье… Это действовало гипнотически на всех, кроме Жака. Он пробуждался. Он сердился на себя за то, что позволил себе расслабиться. Теперь он ощущал собственное тело, еще функционировавшее, еще жившее среди всех этих зомби. Не видимая никому машина, работавшая тайно, несмотря на жару, на надзор, на присутствие остальных. Он не умер. И до самой последней секунды его будет переполнять размеренная – и неистребимая – жизненная сила.
Четыре часа.
Ужин.
Начиная с четырех пятнадцати – свободное время. Свободное от чего? По мере того, как жара ослабляла свои тиски, двор оживал. Начиналась тюремная торговля. Кто-то занимался обменом; кто-то выторговывал поблажки у надзирателей; кто-то набирал всякие безделушки в лавчонке, устроенной под навесом. И главное, заключенные торговали наркотиками. Здесь проявлялась внутренняя логика тюрьмы, основанная на полной коррупции. Ты можешь получить все, лишь бы имелись деньги или что-то на обмен. По договоренности с Джимми Реверди получал деньги, но не злоупотреблял ими. Ни транзистор, ни плитки шоколада не могли удовлетворить его желаний. А уж менее всего доза.
Шесть часов вечера.
Возвращение в камеры.
Когда за Жаком закрывалась дверь, он застывал, как будто не верил в происходящее. Неужели он действительно прожил еще один день? Впереди было худшее. Двенадцатичасовая ночь. Взаперти в четырех стенах, ничего не делая. В эти моменты он ненавидел свою камеру. Сейчас она воняла смертью и плесенью сильнее обычного. Его подстерегал подземный мир, невидимый, населенный всякой нечистью, насекомыми и крысами.
В этот вечер он, сам того не желая, бросил взгляд на слуховое окно. Ослепительный свет дня еще проникал через него. Он вспомнил хижину в бамбуковых зарослях. Свою последнюю Комнату. Он вспомнил, как оплошал в своих поисках, поддавшись панике, поддавшись…
В ту секунду, когда в его мозгу всплыло слово «безумие», он упал на пол, словно у него подломились ноги. Он подкатился к стене, пытаясь подавить рыдания. Он отдал бы что угодно, чтобы найти какой-то смысл существования, жизни – хотя бы на несколько оставшихся ему месяцев.
Щелчок замка заставил его поднять голову. Дверь камеры открылась:
– Jumpa!
13
Джимми Вонг-Фат выглядел как обычно. Некоторая небрежность в дорогом костюме, красный портфель и чашка кофе. Жак не мог не признать, что этот толстяк стал его единственным развлечением.
– У меня скверные новости, – начал он. – Я получил первый отчет психиатров из Куала-Лумпура, опрашивавших вас в ходе первой экспертизы. Я возлагал большие надежды на этот отчет, но он для нас неутешителен. По их мнению, психически вы здоровы. Полностью отвечаете за свои поступки.
– Я тебя предупреждал.
Джимми ходил вокруг стола – сегодня он потел меньше, чем прежде. Жак снова был прикован к полу.
– По-моему, вы не понимаете, – прошипел Джимми. – Если я не найду какую-то зацепку, все равно какую, все пропало. Это высшая мера!
Реверди хранил молчание: ему не хотелось повторять то, что он уже говорил. Он предпочел сменить тему:
– Ты принес мои книги?
Вопрос застал адвоката врасплох. После недолгих колебаний он начал рыться в большой сумке, стоявшей возле стола. Реверди решил положиться на китайца: он дал ему доверенность на пользование одним из своих банковских счетов.
Вонг-Фат выложил на стол стопку книг. Жак пробежал взглядом по корешкам: Канджур, Йога-Сутра, «Рубайят» суфиста Маулана…