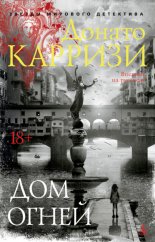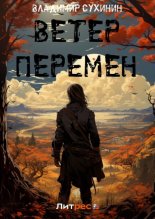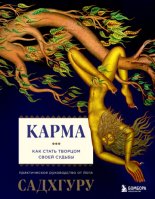Наследие Сорокин Владимир

– Глеб! – одёрнула сына Вера.
– Что-то помнишь, сынок? – спросил сына Телепнёв.
Глеб прочитал нехотя:
– В школе? – спросил Протопопов.
– В школе.
– Звучит красиво, но я не знаю автора.
– Ду Фу, – буркнул Глеб.
– Ду Фу и Ли Во в китайских школах – как в русских Пушкин и Лермонтов, – захрустел огурцом Телепнёв.
– Интересно, молочный Лермонтов великолепен, а Пушкин – не очень, – произнесла Лидия.
– “Евгений Онегин” в молоке хорош! – несогласно тряхнул брылями Телепнёв.
– Хорош! – кивнул Лурье. – Как только слепили – сразу пробировал.
– Вполне, – согласился Киршгартен. – Чего не скажешь о Мандельштаме.
– Дорогие мои! У молока свои законы! Не нравится молочка — читай бумагу!
– Петя, не все читают, – возразила Вера. – Не у всех есть бумага.
– Пусть разорятся!
Телепнёв продолжил, тяжело заходив по веранде:
– Эра milklit уникальна тем, что подняла и воздвигла совсем забытые имена, а многих бумажных гениев утопила! Например, Пригов гениально стоит в молоке! Улитин! Norman Mailer! Wyndham Lewis! А Набоков – плохо! Беккет – плохо! А Кафка – так себе!
– И “Улисс” – так себе, – подхватила Вера. – А “Finnegans Wake” – гениально!
– Гениально! В Дублине был фест по этому поводу, moloko и гиннес рекой лились! Второе рождение! Это невозможно объяснить!
– И не надо, – согласился Протопопов. – Пробируй – и всё!
– Пробируй – и всё!
– Это железный аргумент…
– Переплётчик должен объяснять. – Лидия приблизилась к Киршгартену, глядя с лукавством из-подлобья.
– Он никому ничего не должен, – холодно проговорила Ольга.
– Объяснить можно всё, – ответил Ролан. – Даже Вселенную. Даже Бога.
– A moloko?
– Я этим постоянно занимаюсь! – рассмеялся Киршгартен.
– Но что толку от обоснований? – развёл руками Телепнёв. – Надо плыть в молоке вперёд и не оглядываться. Гребите дружней, дорогие!
– Это тост! – усмехнулся Протопопов.
Они выпили.
– Петя? – Лидия посмотрела на мужа.
– Я? – Лурье поднял брови. – Друзья, как признался уже Пётр, у прозаиков плоховатая память на стихи.
– Неу всех! – пророкотал Телепнёв.
– Ну… сейчас…
Лурье потеребил свою короткую седоватую бороду, прищурился:
- Мой товарищ, в смертельной агонии
- Не зови понапрасну друзей.
- Дай-ка лучше согрею ладони я
- Над дымящейся кровью твоей.
- Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
- Ты не ранен – ты просто убит.
- Дай на память сниму с тебя валенки,
- Нам ещё наступать предстоит.
– Прекрасно! – дёрнул головой Телепнёв.
– Господи, опять про войну! – Вера взялась ладонями за виски. – Сколько можно?! Она же закончилась.
– Верочка, это не про эту войну, про другую.
– Кто автор?
–Ион Деген, – ответил Киршгартен.
– Фронтовик, – сообщил Лурье, беря со стола гренку с форшмаком.
– Фронтовая поэзия должна быть только такой! – заключил Телепнёв и размашисто шлёпнул Глеба по попе. – Не надоело тебе со стариками?
– Не-а.
– Сейчас пойдём есть. – Вера стала гладить сына по голове, но тот отстранился.
– Осталась Ольга, – произнесла Лидия, не глядя на неё.
– Я… да.
– А она стихов не знает! – Глеб зло-насмешливо глянул на Ольгу.
– Уверен, стрелок по банкам? – усмехнулась она.
Подошла к буфету, прислонилась к нему спиной:
- Тихий дух от яблонь веет,
- Белых яблонь и черёмух.
- То боярыня говеет
- И боится сделать промах.
- Плывут мертвецы.
- Гребут мертвецы.
- И хладные взоры за белым холстом
- Палят и сверкают.
- И скроют могильные тени
- Прекрасную соль поцелуя.
- Лишь только о лестниц ступени
- Ударят полночные струи,
- Виденье растает.
- Поют о простом:
- “Алла бисмулла”. А потом,
- Свой череп бросаючи в море,
- Исчезнут в морском разговоре.
- Эта ночь. Так было славно.
- Белый снег и всюду нега,
- Точно гладит Ярославна
- Голубого печенега.
– Хлебников – абсолютный гений! – ударил кулаком в свою ладонь Телепнёв. – Спасибо, Оленька!
– Не ожидала такого от вас, – произнесла Лидия, иронично улыбаясь и глядя на Ольгу.
– Что же вы ждали? – усмехнулась та, стоя у буфета. – Стадлера? Graaaw?
– Ну, Graaaw вы точно читать не стали бы. Это надо рычать.
– Рыка не хватило бы?
– Рык – не ваш диапазон. Низкие частоты.
– Слишком глубоко?
– Скорее – слишком высоко.
– То есть – не доросла?
– Вы доросли до многого, Ольга Павловна, – нарочито-серьёзно проговорила Лидия. – Хлебников! Ух, какая вершина! Продолжайте, продолжайте расти.
– Непременно.
– Продолжайте, продолжайте. Об одном прошу – растите прямо, а не в стиле норильской берёзки.
– А-ха-ха! – зло проговорила Ольга. – Каков намёк! История голубого Марка не забыта?
– Давно забыта! – махнула пухлой рукой Лидия. – Я – о будущем.
– Да нет, милая, вы о прошлом.
– Тема Марка да-а-авно закрыта! – Лидия двинулась по террасе, притопывая. – Дав-но! Дав-но!
– О нет! – угрожающе скрестила руки на груди Ольга. – Такое забыть – не в вашем характере.
– За-быта. За-быта. И за-крыта.
– Не за-бы-та! Норильская берёзка! Если я расту норильской берёзкой, то вы с моей сестричкой растёте двумя болотными хвощами! Милыми такими болотными хвощиками! И оч-чень цепкими! Когтистыми!
– Оля, прекрати, – строго произнесла Вера.
– Которые страстно оплетают не только друг дружку, но и всё, что подвернётся. Марк подвернулся – оплели. Тао Дэхуай – оплели! Теперь, насколько я в теме, – дело за D-N?
– Оля!
– D-N! Там есть что оплетать! – Ольга захлопала в ладоши. – Браво! Норильская берёзка! Oh-la-la!
– Ольга!
– Верочка, прикрой подружку!
– Ольга Павловна, это просто зависть, – проговорила Лидия. – Слишком простая.
– Лидия Андреевна, норильская берёзка болотному хвощу не позавидует!
Телепнёв примиряюще поднял руки:
– Дорогие мои дамы, прошу вас! Очень прошу! Ольга замолчала. Щёки её раскраснелись.
Лицо Лидии наоборот – побледнело и стало сосредоточенно-угрюмым. Она покусывала свою губу.
На террасе возникла неловкая пауза.
– Оля, Вера, я давно хотела вас спросить, – заговорила Таис. – Я антрополог, достаточно неплохо знаю феномен близнецов, интересовалась этим вполне профессионально, даже записки доктора Менгеле про его чудовищные эксперименты с близнецами читала. Я знаю, что близнецы иногда видят один и тот же сон. Об этом есть различные свидетельства. Вы, близнецы Оля и Вера, видели когда-нибудь одновременно один и тот же сон?
Ольга и Вера переглянулись. Ольга усмехнулась и покачала головой:
– Лучше ты.
Вера помолчала немного, потом заговорила:
– Таис, ты задала весьма чувствительный вопрос. Да, мы однажды видели один и тот же сон.
– Если это что-то очень личное, интимное – не рассказывай, просто скажи: однажды это было.
– Я готова рассказать. Нам было девять лет, мы спали в разных домах: я – у бабушки, а Оля с мамой пряталась от бомбёжки в подвале их дома, спала в подвале. Сон такой: я иду по бабушкиному саду, по дорожке, и вижу слизняка на этой дорожке. Жирного такого, малоприятного. И я его давлю ногой. И вдруг из-под сандалии раздаётся голосок: “Не убивай меня, я твой братик!” И я просыпаюсь. Оля видела точно такой же сон.
На веранде снова повисла тишина.
– Ну вот, бывает… – пробормотал Телепнёв.
– Я знаю, что у близнецов это случается, – потянулся мускулистым, поджарым телом Протопопов.
– А братик потому, что у мамы нашей покойной после контузии от взрыва бомбы случился выкидыш. Она ждала сына. То есть – братика, – проговорила Ольга, отталкиваясь спиной от буфета. – Мы тоже ждали братика. И вот, не дождались. А сон увидели.
Все помолчали.
– Вы у нас особенные, – улыбнулась Таис, кладя руку на Ольгино плечо.
– Yessss! – топнула туфелькой Вера. – Особенные! Мы все! А посему нам пора уже за стол! Прошу вас, гости дорогие!
– Да, да! – затряс брылями Телепнёв. – За стол! Немедленно и бесповоротно!
– Но мы забыли Ролана! – произнесла Таис с укором.
– О да!
– Ролан, дорогой!
– Забыли! Эх мы!
– В принципе, я мог бы и пропустить, – заулыбался Ролан.
– Нет уж, дорогой, читай!
– Порадуй нас новеньким!
Ролан сунул руки в карманы белых брюк и покачался на ногах:
– Так… читать вам современную немецкую поэзию я не буду.
– И не надо! – рявкнул Телепнёв.
Ролан прошёлся по скрипучему полу веранды, резко развернулся и встал напротив Ольги:
- От твоей любви загадочной
- Как от боли в крик кричу.
- Стал и жёлтым, и припадочным,
- Еле ноги волочу!
– Не преувеличивай, mein Негг, – сказала Ольга, слегка похлопав его по щеке.
– Дорогой, это простоватенько для тебя, – заметил Телепнёв.
– Это поэзия чистой виты… – Ролан снова покачался на ногах. – Сейчас…
Он резко крутанулся на месте и встал, глядя в открытую дверь на газон с брошенным на нём серебристо-чёрным аэропилем:
- погромово
- пограбило
- погробово
- огромово
- ограбило
- огробово
- громово
- грабило
- гробово
- ромово
- рабило
- робово
- омово
- абило
- обово
- мово
- било
- бово
- ова
- ило
- ово
- во
- ло
- во
- о
– Круто! – хлопнула в ладоши Таис.
– Это точно не Василиск Гнедов, – пробормотал Телепнёв.
– И не Монастырский, – почесал висок Лурье.
– Позже, – возразил Протопопов. – Похоже, это не неофутуризм, а визуальная поэзия Москвы советской. Я их плохо знаю… Сигей, Мальчук? Не помню…
– Альчук, – подсказала Лидия. – Классная поэтесса. “Изящерица” – это её.
– Ещё позже, – ответил Киршгартен.
– Позже?
– Позже. Сильно позже.
– Наше время? – не очень удивился Телепнёв. – Вполне! Так сейчас пишут тоже.
– Конечно, наше время! – хлопнула в ладоши Таис. – Так сейчас и надо писать. И в молоке это встанет… ух! Как Кентерберийский шпиль!
– Скорее, как теллуровый гвоздь.
– Клин! Белым клином – красных бей!
– И наоборот!
– Кто же это?
– Щегшк, – произнесла Ольга, подмигнув Киршгартену.
Ролан кивнул:
– Архип Щегшк.
– Архитектонично, – одобрительно мотанул брылями Телепнёв.
– Имя на слуху, – теребил бороду Лурье.
– Я тоже слышал.
– А я не слышала, – дёрнула плечом Лидия.
– Он откуда?
– Белорус, рос в Самаре, воевал, был ранен шрапнелью, потом переехал, естественно, за Урал.
– В общем – наш!
– Абсолютно!
– Поэзия жива, чёрт возьми!
– Жива, жива. Война её разбудила.
– И мы пока живы…
Протопопов потёр ладони и заглянул в дверь, ведущую в столовую:
– Поэзия жива! И она… многое в нас пробуждает. А не откушать ли нам, Верочка?
– Давно пора! Пойдёмте! Просим!
Все перешли с террасы в столовую.
Там был накрыт стол на восемь персон. Вера взяла в руку мягкую умницу, сжала, и через минуту в столовую вошла Даша в тёмно-зелёном платье с белым передником.
– Даша, мы здесь.
Все стали рассаживаться по местам. Стол был богато и со вкусом сервирован: заливная осетрина, сёмга, сельдь под шубой, осетровая икра, раковые шейки в томатном соусе, паштет из дичи, пирожки, тыква, полная свежих огурцов, всевозможные салаты, венки из цветов и свечи, хрустальная и серебряная посуда.
– Сегодня у нас русский стол, – объявила Вера.
– Прошлый раз был японский, помним, помним, – улыбалась Лидия, усаживаясь.
– А позапрошлый – монгольский. – Таис опустилась на стул рядом с Киршгартеном. – Я помню томлённый в молоке лошадиный желудок.
– Ну вот! Сколько языков, столько и кухонь! – громко заметил Пётр Олегович. – И все они разговаривают с нами!
– Китайский разговор поднадоел, – заметил Протопопов. – Меня уже подташнивает от китайской кухни.
– Ваня, она очень разная, – откинула чёрные прямые волосы назад Таис. – Их всего восемь, и все разные, разные. Есть острые, есть кислые, есть сладкие, есть просто очень простые…
– Знаем, пробовали, – усмехнулся он. – “Борьба тигра с драконом”. Проще не бывает!
– Ролан, ты не переплетаешь китайцев? – спросила Лидия.
– Нет пока. Но готов.
– Du bist ein Riese![34] – пророкотал Телепнёв.
– Nach “Der Mann ohne Eigenschaften” – schon nicht[35].
Даша стала обносить всех квасом и морсом.
– Мне хочется выпить за стиль жизни Телепнёвых, – произнесла Таис. – Обычно пьют за уют дома, за гостеприимство, за радушие, за сер-деч-ность, не люблю это слово, но я хочу выпить за ваш стиль жизни, дорогие Телепнёвы. Мы с Ваней никому никогда не завидовали и, надеюсь, не будем. Но ваш стиль, ваши отношения между собой, ваше пространство дома, космос, который вы создали, ваша L-гармония вызывают у меня зависть. Лёгкую, конечно, лёгкую! Тяжёлая зависть – не для меня, я человек чудовищно счастливый. Я вам завидую, дорогие Петя, Вера и Глеб. Вы живёте стильно. Это дико звучит, но это правда! Стиль – это не модные наряды и интерьеры, не пафос, не blue lodge и не высокомерие. Хотя, конечно, milkscripter – это модная профессия, ничего не скажешь. Оба Петра, Ваня и Ролан – парни модной, хорошо оплачиваемой профессии. Но – стиль! Какой у вас гармоничный и красивый стиль! Я пью не за вас, а за ваш космос!
Она подняла бокал с морсом.
– Прекрасно сказано, Таис! За стиль! За космос Телепнёвых!
С Таис стали чокаться.
– Мы всегда готовы поделиться нашим космосом! – улыбалась Вера.
– Наши галактики распахнуты! – рокотал Телепнёв.
– Ваши галактики – наши галактики!
– И планеты!
– И планеты!
Гости приступили к трапезе. Даша наполняла бокалы.
– Хочу поделиться одной историей, совсем свеженькой, – с аппетитом жуя, заговорил Протопопов. – Её парадоксальность компенсирует её свежесть, и наоборот. И наоборот! Вы знаете, что на смену фронтовой прозе, царствие которой довольно-таки, мягко сказать, прямо скажем… ну… э-ээ… под затянулось, да? пришло наконец время прозы постфронтовой, или, как её уже окрестили некоторые продвинутые умники, milklit’a, прозы голодных тыловиков.
Некоторые из обедающих хмыкнули – кто иронично, кто недовольно.
– Так вот, к моему издателю, Нариману, пришёл один из этих голодных. Вернее, его привели под руки жена и сын. Слепой юноша. Когда ударили ядром по Канску, он был мальчиком. И смотрел на взрыв. В общем, девятнадцатилетний слепой. Принёс роман. Издатель мой – человек толерантный, как вы знаете. “Хорошо, я готов отведать”. Романиста усадили за стол, сын поставил перед ним блюдо, жена влила принесённого в канистре молока. Он стал пахтать, потом лепить. Потом пластовать. И за восемнадцать часов напластовал такую историю: Николай Гоголь просыпается в гробу после летаргического сна. Проснулся в ужасе, естественно, обкакался, описался, потерял сознание. Снова очнулся. И от тотального ужаса, умирая от удушья, стал придумывать роман “Живые души”.
По гостям прошли вздохи разочарования и иронические хмыканья.
– Да, да, – “Живые души”. Умирая и задыхаясь во тьме гробовой, Гоголь стал придумывать этот роман, дабы вымолить себе прощение за сатиру на мир Божий, а заодно компенсировать тот самый кьеркегоровский экзистенциальный ужас, выдвижение в ничто, страх и трепет небытийности, как это точно звучит, Ролан?
– Кажется, Angest, Ваня. Но вообще-то… я не датчанин, а немец!
Все заулыбались.
– По-немецки это просто die Heidenangst.
– Genau! Спасибо, mein lieber Ролан. Вот. И этот слепой парень спахтал и слепил такую историю. Как вам идея?
– Лежит на поверхности. Весьма, – ответил Лурье, спокойно пожёвывая.
Лидия вздохнула:
– Это понравилось бы ушедшему от нас Виктору. Телепнёв выдохнул с усталым недовольством, раздувая щёки:
– Ну вот, Ваня… это… юмореска. Для рассказа в “Moloko Сибири” под Рождество – вполне сойдёт. Творожничек. На роман не тянет. Да и на повесть.
– Вот я так же думал – творожник. Рассказ. Какой роман? Хотя парень слепой, усидчивый, прости меня, Амитофо, жертва войны, несмотря на молодость, пластает профессионально, шестипал и всё такое… Но, но! Нариман показал мне его творог.
– Ты съел? – спросил Телепнёв.
– Не всё, конечно. Пару пластов.
– Ну и?
Протопопов пожал острыми плечами и знакомо изогнул тонкие губы:
– Знаете, что я вам скажу? Это весьма недурно. И я ещё вам скажу кое-что, братья мои молочные: это новое.
Сидящие за столом смолкли, жуя и выпивая.
– А он что, долго смотрел на вспышку? – спросил Глеб.
– Вероятно, – кивнул Протопопов. – Мальчишка, что взять.
– Глупый мальчишка. – Глеб зло оттопырил губу. – И родители дураки, ничего ему не рассказали о ядерке.
– А может, он испугался? – Вера положила руку на плечо сына.
– Если б испугался, сразу бы спрятался, – возразил Глеб.
– Ты в Белокурихе сразу спрятался?
– Ну… не сразу. Но я в пять лет знал, что такое вспышка!
– Вспышки у нас тогда не было видно. Горы нас спасли. А в Канске, дорогой мой сынуля, гор не было, – проговорил Телепнёв. – Ваня, а что значит для тебя – новое?
– Замес, только замес.
– Это ясно, любое искусство – это не что, а как. То есть парень хорошо пахтает?
– Не только хорошо. Он по-другому пахтает. Я увидел там новую зернистость масла. Поэтому его творог другой плотности. И сыворотка — как слеза.
Лурье и Телепнёв переглянулись. Киршгартен невозмутимо жевал.
– Другая зернистость, – проговорила Лидия с осторожностью. – Это звучит как… другой мир!