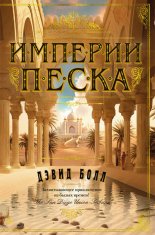Знаки внимания (сборник) Рубинштейн Лев

Поэтому в мире, как вы, возможно, заметили, постоянно происходят различные антироссийские события.
Вот, допустим, в одной из стран бывшей советской империи заведут разговор о запрете коммунистической, а также нацистской символики. Это, чтобы вы знали, антироссийская акция. Ну а какая еще — не антигерманская же!
Или, например, в другой стране примут закон о люстрации бывших советских функционеров и чекистов. Это все против России. А вы как думали?
Или в совсем далекой стране шарахнут ракетой по дворцу маньяка с опереточным обликом, но с совсем не опереточной манерой пострелять с вертолета в живых людей, посмевших продемонстрировать недостаточно восторженные чувства по отношению к слишком уж долгому сидению на их шее заполошного ублюдка.
Это против России, если вы еще не поняли. Типа сказка ложь, да в ней намек.
Или, скажем, в одной балканской стране выковыряют из-под прелой соломы какого-нибудь очередного Гнидко Вшивича, очередного национально ориентированного живодера — бескомпромиссного борца за святое дело этнической стерильности. Да и поведут его под белые по локоть руки в город Гаагу для его личного участия в процессе публичной юридической квалификации его же пламенной деятельности.
Не преступление ли это против человечности? Не надругательство ли над национальным достоинством народа, позорно купившегося на сладкие посулы бесстыжей и бездуховной еврозоны, вместо того чтобы до последнего патрона и последнего куска хлеба отстаивать величие имени сербского?
И конечно же, все это против России. Потому что это удар по традиционной нашей, заскорузлой всемирной отзывчивости, выражающейся, как правило, в снайперски точном выборе всей, какая только водится на планете, мировой швали в качестве объектов любви и сочувствия.
А на кого, как вы думаете, направлены натовские ракеты? Для того они, чтобы в случае чего какой-нибудь полоумный аятолла не вздумал поиграть со спичками? Ха! Не будьте лохами, пацаны. Россия их цель. Только она. И ее ресурсы, конечно же. Ну и духовность, само собой.
Антироссийские вылазки не прекращаются. Потому что Россия — кость в горле. Потому что только она одна стоит на пути окончательного закабаления народов заокеанской закулисой, хищными ястребами Пентагона и алчными воротилами Уолл-стрит.
Но это, так сказать, на уровне сознания. Даже не сознания — риторики. На уровне же подсознания дело, мне кажется, в том, что они, то есть те, кто любые мировые события связывает с тем или иным отношением к ним, сами-то про себя отлично знают, кто они такие и что они такое. А потому и любое ассенизационное мероприятие в любой точке планеты совершенно искренне воспринимается как направленное непосредственно против них. А поскольку они еще и уверены, что они и Россия — это синонимы, то, конечно же, указанные мероприятия носят исключительно антироссийский характер.
Почему здесь столь нервозно реагируют на разговоры о том, что коммунистическая идеология родственна фашистской? Почему возникает столь истерическая реакция на попытки бывших окраин бывшей империи изжить советский морок? Откуда такая пламенная страсть по поводу судьбы памятников, монументов, знаков, портретов, флажков, названий улиц? Почему все то, что в годы советской власти маркировалось как антисоветское, стало восприниматься как антироссийское?
Почему, когда кто-то где-то воспринимает нынешнюю Россию как духовную наследницу колхоза имени Сталина, это вызывает такую нервную реакцию? Если вы, господа-товарищи, и сами считаете так же (а ряд высказываний и поступков некоторых видных политических и государственных деятелей это вполне подтверждает), то чего же обижаться. Это же вроде как хорошо. Вроде как правильно. Держим, мол, не роняем знамя дедов-охранников. Или вы так не считаете и уверены, что Россия давно уже избавилась от коммунистической утопии и отважно присоединилась к семье цивилизованных народов? Тогда тем более — зачем обижаться на дураков? Вот если бы, допустим, англичан кто-нибудь заподозрил в массовой приверженности коммунистическим или национал-социалистическим идеям, как бы среагировал на это среднестатистический англичанин? Правильно, он бы улыбнулся и пожал плечами.
Почему все это? Россия ведь уже вроде как другая страна. Она ведь вроде как уже не СССР. Она уже как бы имеет цивилизованную конституцию. Политическая система уже вроде как не однопартийная. Вроде как имеются в ассортименте различные права и свободы, такие же, как «у них», а то и лучше. Вроде бы рынок и частное предпринимательство. Или это все толстый слой косметики, под которой таится дряблый морщинистый совок? Я, заметьте, всего лишь спрашиваю, хотя ответ мне более или менее известен.
Есть, мне кажется, и еще один мотив этой повышенной мнительности. Очень, надо сказать, грустный мотив. В разное время к России в мире было разное отношение: ее боялись, ее пытались разгадать, ею восхищались, ее ненавидели, ею интересовались. По-разному было.
В наши дни усилиями дорвавшихся до власти унылых ничтожеств Россия стала для мира удручающе неинтересной страной — скучной, безнадежно провинциальной и к тому же не очень полезной для здоровья. Страной, загнавшей саму себя — вроде как в свое время реку Неглинку — в нефтегазовую трубу. И очень скоро может случиться так, что лишь через эту трубу и будет осуществляться зыбкая связь страны с миром.
Если внутри страны и попадаются отдельные особи, искренне верящие, что Путин дал народам России письменность, научил их пользоваться спичками, Интернетом и унитазным ежиком, то во взрослом мире он как был, так и остается мелким дрезденским сексотом без облика и склада, которого Россия, как это ни печально, оказалась достойна.
Как тут не ловить повсюду мнимые знаки внимания? Как тут избежать соблазна принимать все происходящее в мире на свой счет? Ну хотя бы и со знаком минус. Ну хотя бы как.
Что хотелось бы забыть, но не получается
1. День моего четырехлетия, когда я больно укусил одного из гостей, соседского Борю Никитина. За что — не помню. Скорее всего, ни за что. А он, между прочим, подарил мне пистолет и набор пистонов.
2. Девять часов вечера, когда мама «безо всяких разговоров» укладывала меня спать. А они-то все там, за стеной, пили чай с тортом, смеялись. Разумеется, надо мной.
3. Кто-то ужасный, кто прошел однажды прямо за окном, — не человек, не коза, не собака. Прошел, шурша мерзлыми сухими ветками, и исчез куда-то. Заснешь тут, пожалуй.
4. «Детский мир», куда мы поехали с мамой, чтобы наконец-то купить мне матросский костюм. Куда там! Вместо этого почему-то был куплен пестрый колючий свитер. Как я плакал всю обратную дорогу. Как я ненавидел этот свитер, этот магазин, эту маму.
5. Облеванный мною халат врача, залезшего мне в глотку деревянной палочкой.
6. Спичечный коробок с кусочком кала на анализ, непостижимым образом потерянный по дороге в поликлинику.
7. Операция на гланды.
8. Рыбий жир.
9. Молочный суп.
10. Боязнь заснуть и не проснуться.
11. Как я дразнил бабушку за то, что она читает перед сном одну и ту же книжку, причем справа налево, и при этом бормочет себе под нос что-то не по-русски. Это было ужасно смешно.
12. Как соседская дворняжка Булька стащила с меня трусы на глазах Тани Синотовой.
13. Как я выпил полстакана постного масла (думал, что квас) и что было потом.
14. Как по дороге с новогодней елки я съел весь подарок и что было потом.
15. Как мама обещала, что мы поедем в воскресенье на ВДНХ гулять и есть мороженое, но что-то случилось, и мы не поехали.
16. Деревянный конь Сивка, который у Сашки был, а у меня — нет.
17. Бежевый плащ Елены Илларионовны, заляпанный чернилами, которыми я случайно пульнул из водяного пистолета. Уж так вышло.
18. Витька Леонов из соседнего двора, который обозвал меня жидом, на что я ему сказал, что сам он жид.
19. Учительница Марья Васильевна, которая не разрешила мне выйти из класса, и я описался.
20. Завуч Юлия Михайловна, дернувшая меня за ухо так, что пошла кровь.
21. Историк Иван Тихонович, говоривший «лабровраденческое государство» и называвший меня почему-то Гуревичем.
22. Англичанка Анна Павловна по прозвищу Половник, которой я однажды зачем-то подставил подножку, и она упала. До сих пор не понимаю, как это получилось.
23. Субботник, воскресник, сбор металлолома, сдача норм ГТО.
24. Прием в пионеры, прием в комсомольцы, прием у зубного.
25. Вообще школа.
26. Первые литературные опыты.
27. Вторые литературные опыты.
28. Ленин, из-за которого я навсегда рассорился с одной девушкой. Она говорила, что что-то же должно у человека быть святое.
29. Повышенные социалистические обязательства.
30. Песня «Мой адрес — Советский Союз».
31. Песня «Каким он парнем был».
32. Песня «И Ленин такой молодой».
33. Некоторые другие песни.
34. Памятник Дзержинскому, у которого я однажды назначил свидание, забыв, что подойти к нему невозможно. Свидание, понятное дело, не состоялось.
35. Пять часов в очереди за водкой в конце декаб ря 1988 года. Водка нужна на поминки: мама умерла.
36. Пять часов вечера четвертого апреля тысяча девятьсот девяносто шестого года. В чем там было дело, не скажу.
37. Многое другое.
Косвенная речь
Праздник возвращенья
Ну разумеется, радио. Радио, неизбежно висевшее на кухонной стене и не умолкавшее ни на миг, пело и играло нам эти песни с утра и до позднего вечера. Это не было ни искусством, ни культурой, ни поэзией, ни музыкой. Это было чем-то существенно большим — неумолчным фоном повседневности. То есть самой повседневностью, неотделимой от чистки картошки или купания младенца в корыте, коммунальной склоки или запаха маминого борща.
Но и не только радио. Разве ж забудешь одноногого дядю Сережу, которого на все семейные праздники вся квартира зазывала с его трофейным аккордеоном. Это такое было счастье! Для детей особенно. Для взрослых, кажется, тоже. «И пока за тумаанами видеть мог паренек», — пел дядя Сережа, и все ему подпевали. Тогда слова песен знали практически все.
Я тоже пою иногда эти песни. И в детстве, и теперь. И ловлю себя на том, что в своем пении я невольно подражаю не певцам из радиоточки, а дяде Сереже, вносившем в свою певческую манеру слегка дворовые, чуть-чуть приблатненные интонации.
Я думаю, что годы войны были самыми несоветскими годами за всю советскую историю. Это был единственный эпизод, когда практически совпали по большинству пунктов интересы государства и общества, государства и отдельных людей. Все было предельно понятно и ясно: на нас напали, нас хотят уничтожить, мы должны сражаться, чтобы спасти и защитить наши дома и наших родных. Хотя объективно получалось так, что спасали заодно и политбюро, и товарища Сталина, и НКВД, и колхозы, и ГУЛАГ.
Вот и расцвела тогда пышным цветом песенная лирика. И ничего похожего по силе и достоверности не было ни до войны, ни после нее.
О чем эти песни? Да об одном и том же. Они были подчинены единому канону, но не тому ГОСТу, в соответствии с которым производилась большая часть советской художественной продукции, а канону глубинному, фольклорному.
Вот сравните: «Лети, мечта солдатская, к дивчине самой ласковой, что помнит обо мне» — «Всю нежность свою, что в смертном бою, солдат, сберегли мы с тобой, мы в сердце своем жене принесем, когда мы вернемся домой» — «И каждый думал о своей, припомнив ту весну. И каждый знал — дорога к ней ведет через войну» — «Ты ждешь, Лизавета, от друга привета и не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу — к тебе я приеду на горячем боевом коне» — «Чтоб все мечты мои сбылись в походах и в боях, издалека мне улыбнись, моя любимая» — «Мне нелегко до тебя дойти. Ты меня, родная, жди и не грусти. К тебе я приеду — твоя любовь хранит меня в пути» — «Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю — со мной ничего не случится» — «Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви».
Может показаться, что все эти песни на одно лицо. Но они все разные, потому что все они настоящие. А настоящее всегда неповторимо, как походка, как интонация, как тембр голоса.
Вспомните слова этих песен. Вы не найдете там ни Сталина, ни Ленина, ни ВКП (б), ни колхоза-совхоза, ни пятилетки в четыре года — нету там ничего, что бы отдаленно указывало на конкретные реалии агитпропа и Совинформбюро 1940-х годов.
Нету в этих песнях никакой руководящей роли партии и правительства. А есть там другая руководящая роль — руководящая и направляющая роль мужества, разлуки, смертельной опасности, ожидания, верности, любви и надежды. И всего лишь. И это самое «всего лишь» как трогало сердца людей в те годы, так трогает и теперь.
Если попробовать вынуть эти песни из исторического контекста, не будет даже и понятно, в какое время и о каком времени они поются. О чем речь? О чем и во все времена — «о службе морской, о дружбе мужской».
Получается, что речь идет о войне вообще. О той единственной, Троянской. И главными героями, что в той, что в этой войне неизбежно оказываются не маршалы и не верховные главнокомандующие, не Цезари и не Сталины, а все те же вечные и никогда не стареющие Одиссей и Пенелопа. Прямиком из древнего эпоса, чудесным образом помноженного на бесхитростную, почти лубочную эстетику городской окраины, дошли до нас эти вечные, а потому бесконечно трогающие мотивы.
Авторами стихов этих песен, что удивительно, были поэты, прямо скажем, не первого ряда. Многие из них в мирное время производили тягучие и вязкие «споем же, товарищи, песню о самом родном человеке, о самом любимом и мудром — о Сталине песню споем». Но именно эти стихотворцы волей исторических обстоятельств оказались сверхпроводниками, универсальными медиумами фольклорного сознания, радикально очищенного от плотного культурного слоя.
Это были те самые пресловутые «простота» и «народность», что столь естественны, насущны и спасительны в годы освободительных войн и столь крикливы, агрессивны и попросту реакционны в мирное время, требующее от художника интеллектуальной отваги, повышенной рефлексии, беспощадного скептицизма и умения сказать твердое «нет» в ответ на всенародное «да».
В искусстве необычайно важна и насущна уместность высказывания, точечное попадание в конкретный контекст. Предельная уместность, актуальность и точность художественного жеста, безотказно сработавшие однажды, обретают непостижимую способность срабатывать и в других культурно-исторических контекстах. Поэтому мы будем снова и снова перечитывать «Онегина», «Капитанскую дочку», «Анну Каренину», «Трех сестер». Поэтому мы всегда будем петь песни военных лет, каким бы конъюнктурным натискам ни подвергались вновь и вновь война и победа.
Инерция этой внезапно и мощно прорвавшейся свободы тянулась еще и в первые послевоенные годы, но стала все больше и больше противоречить и мешать трескучей «победной» риторике. Этой болотной ряской, впрочем, духовная жизнь общества стала все заметнее и заметнее зарастать уже к концу войны, когда «великое руководство» перестало ходить под себя от страха, слегка поуспокоилось и начало вновь — сначала робко, а потом все уверенней — напоминать людям о том, кто в доме хозяин и кто для нас с вами выиграл эту страшную и великую битву.
Но намек поняли не все. Сразу после войны Исаковский и Блантер сочинили свой шедевр «Враги сожгли родную хату» — трагическую и бесконечно человечную балладу о вернувшемся с фронта солдате. Это была беспощадная инверсия всей предшествующей военно-песенной лирики. Он воевал. Она ждала. Он вернулся. А ее нет в живых. «Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою?»
Вот вам и «жди меня». Вот вам и любовь. И верность. И надежда. «Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд…»
Песню запретили, кажется, почти сразу же, после первого или второго исполнения. Да разве ж такое запретишь!
Откуда мы все вышли
Странный был такой предмет у нас в девятом классе. Назывался «машиноведение». Это потому, что в школах тогда насаждалось «политехническое образование». Через пару лет эта фигня как-то сама собой отсохла, но тогда, в годы развитого волюнтаризма, цвела она пышным цветом. Вот и машиноведение поэтому. Из всего курса я запомнил всего лишь два слова, хотя и, говорят, очень важных, — «допуск» и «посадка». Только не спрашивайте, что это такое, не срамите меня.
На этих уроках, проводимых два раза в неделю, мы занимались чем угодно, но только не поиском различий между допуском и посадкой. А уж такие дикие слова, как, например, «станина», и вовсе пролетали со свистом мимо еще не увядших юных ушей.
Учитель был довольно незлобивый, но нервный — иногда багровел и начинал страшно орать. Его все равно не боялись.
И имя-отчество было у него какое-то мультикультурное — что-то вроде Ивана Моисеевича. Кажется, именно так его и звали.
И выглядел он, изъясняясь в сегодняшних категориях, довольно фриковато: треснутые очки, перекрученный, всегда один и тот же, галстук, выползающие из-под брюк голубые кальсоны, неубедительно крашенные волосы.
И говорил он довольно смешно. Нас, например, приводило в исступленное состояние слово «отверствие». А еще он говорил «шешнадцать миллиметров».
В общем, легко догадаться, что над ним издевались, или, как это называлось тогда на нашем поганом подростковом языке, «доводили». Доводили его со всей доступной нам изобретательностью. Старались, например, с самым невинным видом задать такой вопрос «по теме», чтобы в ответе непременно прозвучало «шешнадцать». Были у нас даже признанные специалисты в этой малопочтенной области.
На его уроках в полный голос разговаривали, пулялись жеваными промокашками, пускали под потолок бумажные самолетики, вальяжно фланировали по классу. Когда он вдруг осознавал, что за шумом и гвалтом он и сам не может расслышать ни единого своего слова про допуски и посадки, он хлопал журналом об стол и вопил срывающимся голосом: «Мы будем заниматься или мы будем дурочку валять?» «Дурочку валять!» — пубертатными петухами отзывалась мужская часть класса, заливаясь безмятежным допризывным гоготом.
Как он все это выдерживал, до сих пор непонятно.
Иногда после коротких приступов нестрашной своей ярости он как-то смущенно спохватывался и говорил тихо, так тихо, что в нескончаемом кошачьем концерте это мог расслышать только я, все десять школьных лет просидевший по причине близорукости на первой парте: «Ребята, ну нельзя же так!»
Если я скажу, что при этих словах я начинал испытывать уколы совести или тем паче пресловутое «щекотание в носу», то мне, скорее всего, не поверят — и правильно сделают. Я, разумеется, и мысли не допускал, что можно и нужно быть не таким, как все. Еще чего!
«Шинель» уже была прочитана мною. И что? А ничего. Все мы еще из нее не вышли. И, в общем-то, не особенно и собирались из нее выходить. Для того чтобы научиться содрогаться от невероятного «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?», мне понадобился не один год.
Все это я пишу, если кто еще не понял, про Гоголя, про Николай Васильича. И к этому мне добавить особенно нечего.
А что наш непутевый Иван Моисеевич был однаж ды избит и ограблен, что с него было снято новое зимнее пальто, что он шел до дому пару километров по морозу в одном пиджачке, что он на месяц-полтора слег с воспалением легких и что это обстоятельство несказанно повеселило и обрадовало наш чудесный 9-й «А», я вовсе не выдумываю. Так и было. По крайней мере могло бы быть.
Шведская сценка
«Ну? — бодро и, главное, предсказуемо спросил меня коллега по редакции, лишь только я вошел туда с ритуальным дьютифришным „Абсолютом“ в руках. — Сейчас небось засядете за путевые заметки?»
И мы с ним тотчас же предались излюбленному занятию — импровизированию советского заграничного очерка, начинающегося, как правило, со слов «Мельбурн (Осло, Гамбург, Нью-Йорк, Карачи) встретил меня проливным дождем». Далее обязательно следовали встречи с «простыми людьми», жадно расспрашивавшими «меня» о жизни в СССР и положении рабочих. Узнав, что с положением рабочих в СССР все о’кей, простые люди горестно вздыхали и сообщали автору, что у них там с положением рабочих даже и близко не о’кей. О чем и просили «меня» рассказать советскому читателю, ни в коем случае не называя их настоящих имен. Автор же, верный данному слову, честно, ничего не перевирая, кроме имен отважных информантов, передавал советскому читателю нерадостные вести о жизни простого люда. Советский читатель, разумеется, верил каждому правдивому слову писателя и его стройной картине мира, где, например, пожилой докер, отогнув ворот спецовки, показывал автору потайной значок с изображением Ленина, отчего у автора наворачивались на глаза непрошеные слезы. Фальшивый блеск витрин там неизбежно служил толстым слоем грима, под которым скрывалась дряблая кожа пресловутой западной демократии. Ну и так далее.
(Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, мой неугомонный коллега ехидно спрашивает, не про «гостеприимную ли шведскую землю» я строчу свой «репортаж». Про нее, коллега, про нее самую. Не мешайте работать.)
В этот раз я действительно вернулся из города Стокгольма, который встретил меня никаким не дождем, а ярким солнцем и ужасно холодным ветром. Там было очень холодно и очень красиво, тем более что окно моего гостиничного номера выходило прямо на залив с качающимися от шквального ветра яхтами.
С «простым людом» пообщаться по душам не пришлось. Попадался в этот раз, как назло, все больше не самый простой люд в лице университетских славистов — как хорошо знакомых, так и не очень.
На второй день имел место вечер с моим участием в клубе, где кучкуются местные гуманитарные люди. Все это мероприятие называлось «Русский вечер». Кроме меня была шведская поэтесса, чье участие мотивировалось, по-видимому, тем, что она сочинила поэму про свою давнюю поездку в Ленинград, где, судя по ее устным свидетельствам, она общалась как раз с пресловутым простым людом. Причем едва ли не вся мужская составляющая этого люда дружно, не сговариваясь, проявляла к ней нескрываемый марьяжный интерес. Будучи девушкой по отношению к себе вполне трезвой, даром что поэтесса, она из этого не стала делать слишком лестных для себя выводов, а просто сообразила, что всему этому люду ужас как хотелось умотать в Швецию, где, как было сказано, блеск витрин неизбежно служил толстым слоем грима.
Еще в «Русском вечере» участвовал ансамбль с двумя певцами: один был натуральный цыган с соответствующим репертуаром, другая — рослая красавица, певшая песенки на идиш. Я этого прекрасного языка не знаю, но, услышав слова «Бессарабия» и «эссен мамалыге», я, кажется, что-то понял.
Среди музыкантов выделялся скрипач — невысокий чернокожий парень в смешной шляпе с узкими полями. Изумил меня не столько его облик, сколько то, что он заговорил со мной на очень неплохом русском. «Вы откуда?» — спросил я его. «С Кубы, — ответил он. — А русский я знаю потому, что закончил Киевскую консерваторию. Потом еще и в Одессе жил». И, радостно засмеявшись, он добавил: «Я кубинский хохол». Как этот кубинский хохол попал в Швецию, я спросить постеснялся.
Такой вот был «Русский вечер». Хотя почему бы и нет. Все-таки «всемирная отзывчивость» — не пустые же слова.
Я, кажется, знаю, почему все эти четыре дня я столь пристально приглядывался и прислушивался к разным забавным мелочам, которые в другое время могли бы и пройти мимо моего внимания. Я думаю, что так выразилась психическая реакция на страшные и мучительные известия из Японии, наваливавшиеся на меня то с экрана телевизора, то со страниц газет. Непонятный язык усиливал впечатление нереального кошмара и чувство бессильного сострадания.
В другое время я мог бы и не обратить внимания на забавный речевой казус, случившийся в разговоре со старинным моим приятелем, филологом-русистом из Гетеборга. Когда я спросил, как поживает его семья, он вдруг меланхолически, как мне показалось, сказал: «На сегодняшний день в Швеции четыре идиота». Не успел я восхититься столь высоким интеллектуальным уровнем шведского населения, не успел я с доброй завистью сказать ему, что всего четыре идиота на всю, даже и не слишком многонаселенную, страну — это очень высокий результат, как он продолжил: «А теперь моя жена…» Тут я впал в легкую панику, лихорадочно пытаясь смоделировать свою дальнейшую реакцию. Но паника была недолгой, потому что он снова продолжил: «А теперь моя жена получила заказ от одного очень уважаемого издательства на новый перевод».
Фу ты, черт, слава богу! Слово «идиот» мгновенно оделось в крепкие кавычки, как реки одеваются в гранитные берега, и незыблемая картина мира, хоть и утратила на миг свои привычные очертания, все же обрела их вновь.
Да и как я мог не догадаться сразу! Все же понятно: его жена — переводчица, она уже перевела на шведский несколько томов Платонова. А теперь вот получила заказ на новый перевод «Идиота». А до этого их было четыре. Кто тут идиот, спрашивается? Не надо мне подсказывать, я сам знаю.
Я поведал об этом казусе своему собеседнику, и он от души повеселился, добавив ради восстановления пошатнувшейся было истины, что идиотов в Швеции все-таки существенно больше, чем четыре. Некоторое время мы померялись масштабами наших национальных идиотизмов и пришли к неизбежному, хотя и печальному, консенсусу: в мире, к сожалению, идиотов больше, чем нормальных людей. После чего отправились на рыбный рынок есть какую-то особенную жареную сельдь.
…А мой редакционный коллега между тем все не унимается. Вот и опять вкрадчиво спрашивает, не собираюсь ли я назвать свой текст «Из стокгольмских тетрадей». А что, мол, скромно и в то же время оригинально. Собираюсь, коллега, конечно же собираюсь, какие сомнения! А если вы такой умный, то придумайте название сами.
В разноголосице хора
Люди друг друга не понимают. Не всегда, но очень часто. И хорошо еще, если это непонимание имеет лишь невинные, анекдотические последствия. Вроде того, что рассказал мне как-то старинный мой знакомый, в студенческие годы подрабатывавший на Мосфильме в качестве статиста.
Однажды, рассказывал этот знакомый, в компании других статистов он привычно предавался процессу коллективного согрева посредством недорогого портвейна в одной из студийных подсобок. В какой-то момент он услышал, как висящий под потолком хриплый репродуктор вдруг громко и довольно торжественно провозгласил емкий и выразительный, хотя и несколько экстравагантный тост. Это было довольно неожиданно, но в целом скорее уместно. Впрочем, очень быстро до него дошло, что это был вовсе не тост. И вообще это было совсем не то, что ему послышалось вначале. Это была всего лишь рабочая команда «Запись дубля!», то есть призыв ко всей массовке быстренько нахлобучить на себя казенные ушанки, фуражки и шапки-пирожки и стремглав мчаться на съемочную площадку с целью правдоподобной имитации народного энтузиазма по поводу зажигательного выступления товарища В. И. Ленина на собрании профсоюза работников московских живодерен.
Это, разумеется, всего лишь анекдот из жизни. Но факт остается фактом: люди друг друга не понимают.
Проблема взаимного непонимания, притом что вроде бы все говорят на одном и том же национальном языке, — одна, по-моему, из ключевых проблем нашей общественной жизни.
Было бы неправильно утверждать, что во все прочие времена в стране и в обществе царило полное благостное взаимопонимание. Нет, конечно. Языковое отчуждение между властью и обществом, а также между отдельными сегментами общества существовало всегда. И разные социальные группы отгораживались друг от друга вполне осознанно, ибо в тотальном государстве это было едва ли не единственным способом хоть как-то оградить пространство своей суверенности. Так, в сущности, проявлял себя врожденный инстинкт самосохранения.
Я уж не буду упоминать о таком очевидном и общеизвестном явлении, как язык воровских сообществ. Но и вполне законопослушные сообщества и группы часто изъяснялись на своей собственной «фене».
Язык власти был один, язык так называемого «народа» — совсем другой, а язык научной или художественной интеллигенции — и вовсе третий.
У власти был сакральный «византийский» язык, где слова не означали, в сущности, ничего. Важно было лишь то, кто и при каких обстоятельствах их произносил. То есть высказывание имело какой-либо смысл только лишь в контексте.
Инструментальные возможности этого языка виртуозно использовал Горбачев. Его речевое поведение никаким образом не было связано с целеполаганием — он на шаманский манер гипнотизировал собеседника. Значение его речей прояснялось, как правило, лишь после того, как происходило то, что являлось их следствием. «Ах вот что он, оказывается, имел в виду!»
Это не было эксклюзивным изобретением советской эпохи. В далекие времена власть тоже изъяснялась будь здоров как. Знакомый историк обнаружил в архиве документ петровского времени, откуда запомнил совершенно непонятное, но вполне шикарное слово (слушайте внимательно) «занепопреблагорассмотрительствующегося». Именно так, в родительном падеже, он его и запомнил. Так — не без труда — запомнил его и я.
В среде интеллигенции находились любители-дешифровщики, умевшие читать речи на пленумах и передовые статьи в партийных газетах и переводить их на человеческий язык. Словосочетание «переводить передовицу» стало чем-то вроде популярной скороговорки, далеко не всеми произносимой с первого раза.
Впрочем, язык самой интеллигенции тоже не был вполне «человеческим». Научная и творческая интеллигенция охотно изъяснялась на вполне «птичьем», заведомо не понятном начальству языке, что выполняло в те годы примерно ту же функцию, что иголки у ежей.
Существовали языки неформальной молодежи, торговых работников, фарцовщиков, диссидентов и потенциальных эмигрантов, где, например, такие переходные глаголы, как «подать» или «получить», легко обходились без объекта.
Но в наши дни, как мне кажется, проблема взаимного непонимания приобрела какие-то почти катастрофические масштабы. Потому что это самое непонимание заметно уже и внутри социальных групп.
Вроде бы все произносят одни и те же слова. Но ты все время чувствуешь, что для тебя и для твоего собеседника они имеют совершенно разные значения, вплоть до прямо противоположных. Или, что еще хуже, они и вовсе не имеют никаких значений, а употребляются лишь инструментально, с целью заполнения пустующих коммуникационных емкостей. Или, допустим, человек что-то говорит, а у тебя все это время вертятся в голове слова из «Палаты № 6»: «Так же вот бывают люди, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди».
Мерцание серьезного и пародийного, столь свойственное постмодернистской эстетике, в нынешнем медиаязыке стало уже не приемом, не выразительным средством, а рутинной нормой. Настолько унылой и тягостной, что ты уже не задаешься законным вопросом, серьезно все это сказано или в шутку. Самое ужасное, что этого, как правило, не знает и сам говорящий. Потому и вопрос «уж не пародия ли он?» стремительно теряет свой извечный драматизм, безвольно повисая в пыльном медийном воздухе.
Еще относительно недавно человек, прочитавший больше двух книг и имеющий хотя бы отдаленное представление о том, что такое литературный стиль и что такое литературная пародия, не мог удержаться от счастливого, освобождающего смеха, прочитав на каком-нибудь из патриотичнейших сайтов такой, например, пассаж: «Во мраке своих подвалов, столь же темных, сколь и их душонки, они строят дьявольские козни, щедрой рукой раздавая налево и направо премии в 30 сребреников за предательство самого дорогого, что может быть у человека, — собственной Отчизны». Но в том-то и дело, что это давно уже не смешно. Более того, то обстоятельство, что слова эти написаны не в начале 50-х годов, а в наши дни, притом вполне серьезно и явно очень молодым человеком, повергает человека с хотя бы приблизительным стилистическим чутьем в экзистенциальное отчаяние.
Сплошь и рядом употребляются слова и конструкции, призванные произвести и иногда производящие (хотя и исключительно на самого говорящего) довольно сильное впечатление, но при этом начисто лишенные какого бы то ни было содержательного наполнения. Однажды я спросил у одного из своих виртуальных зоилов, что в его понимании означает слово «русофобия», каковым он пользовался столь расточительно, как будто вознамерился личным примером подтвердить телерекламный тезис о том, что Россия действительно щедрая душа, и не только в исключительно кондитерском отношении.
Понимая русофобию (как, впрочем, и все прочие «фобии») как тотальную неприязнь ко всему кругу явлений, маркируемых словом «русский», я не могу не прийти к утешительному выводу, что в «русофобы» я решительно не гожусь. Что именно «русского» я не люблю, давайте разберемся? Я не люблю Пушкина, Толстого, Чехова, Зощенко, Платонова, Ахматову, Чайковского? Неправда, люблю. Я не люблю русский язык, литературу, музыку, русских красавиц, множество умнейших и благороднейших русских людей, разнообразнейшую русскую природу? Ничуть не бывало — очень люблю. Или, может быть, я не люблю своих многочисленных друзей и родных? Люблю, и даже очень.
О чем речь-то? Почему это я вдруг русофоб?
Не потому ли, что я действительно не люблю некоторые стороны прошлой и нынешней российской жизни? Не потому ли, что я очень даже не люблю вороватость и бездарность всех уровней власти, хамство и жульничество чиновников, полукриминальное поведение ментов, рабскую прессу, холопское презрение к свободе и к личному достоинству, готовность оправдать любую подлость, жестокость и жульничество, если они не идут вразрез с «линией партии»? Или потому, что я очень даже не люблю агрессивный провинциализм и наступательное мракобесие? Ну не люблю, правда. Да только русофобия-то тут при чем? Вот если мы совместно договоримся под словом «русофобия» понимать именно это, то тогда я буду готов подтвердить, что да, я таки русофоб.
А пока мы об этом не договорились, я могу ограничиться лишь словами одного булгаковского персонажа: «Кароши люблю, плохой — нет».
Но он, этот мой антирусофобский собеседник, ответил с завидной определенностью и поистине римской прямотой: «Что такое русофобия, понимать не нужно».
Ну слава богу! Отлегло, как говорится. А то я все пытался понять, какое все-таки содержание этот человек и некоторые другие добрые люди вкладывают в это загадочное и абсолютно бессмысленное в данном контексте слово. Теперь наконец-то дано исчерпывающее — одновременно глубоко научное и в то же время поражающее лапидарностью определение. Просто не нужно понимать, и все!
Соблазн взять этот убойный полемический прием на вооружение необычайно велик. Мешает лишь то досадное обстоятельство, что человека человеком делает, помимо всего прочего, и категорическая потребность понимать.
После бала
Бала-то, строго говоря, и не было. Телевидение в основном скромно помалкивало. Высшее начальство вовсе не отметилось по этому малозначительному поводу. Памятное событие было отмечено застенчивым полумолчанием.
Я-то лично скорее доволен. Я не большой любитель пышных государственных торжеств с салютами и разливанным морем казенной пошлости, без которых подобные события не обходятся. Мою душу не радуют протянутые через Садовое кольцо растяжки с цитатами. Меня не умиляют задушевные голоса из метрополитеновских репродукторов, топорно интонирующие «любимые строки».
Мне, повторяю, эти празднования не нужны. Я и без того люблю писателя Льва Толстого. Может быть, больше, чем кого-либо, кто писал по-русски, а там есть из кого выбирать.
Но интересно все ж, почему такое молчание?
Говорят, что на Толстого до сих пор дуется солидное и влиятельное учреждение, играющее в наши дни роль идеологического отдела правящей партии и именуемое РПЦ. Может быть, и так. А государство, а общество? Ну, видимо, такое у нас состояние общества, что не до Толстых теперь.
И правда ведь, кому какое дело до того, что сама фигура Льва Толстого — одно из немногих обоснований (чтобы не сказать оправданий) существования экзотического, мягко говоря, исторического явления под названием «Российское государство»? Зачем нам гордиться тем, что «Анна Каренина», «Смерть Ивана Ильича», «Казаки» написаны на том же языке, на котором говорим мы? Зачем нам радоваться тому, что, пока эти книги будут читаться, наш язык будет хоть как-то жить? Зачем нам гордиться тем немногим, что делает Россию конвертируемой, если такая цена за баррель? Да и нужна ли кому-нибудь эта конвертируемость, включенность в мировой контекст? Кому-то да, кому-то нет. Но в наши дни убогая и агрессивная мировая провинция все громче подает голос и встает на дыбы, как выживший из ума цирковой медведь. Да и, скажем прямо, плохо как-то, коряво и неприкольно смотрится этот косматый и бородатый портрет на глянцевой обложке. Нетоварно и негламурно. Неформат, короче.
А государство? А так ли уж нужен нынешнему российскому государству автор «русофобского» «Хаджи-Мурата», вопиюще диссонирующего с великой концепцией «мочения в сортире»? Что делать озабоченному своим силиконовым «величием» государству с такой, например, беспощадной формулировкой: «Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм»?
Советское государство жаловало Толстого не потому, что было столь чувствительно к запредельным высотам художественной выразительности, а потому лишь, что о нем «разговаривал Ленин», потому, что он был назначен «зеркалом русской революции». Его, мягко говоря, непростые взаимоотношения с церковью и государством импонировали советской власти, которая расставалась с прошлым не так чтобы особенно смеясь, а все больше посаживая да постреливая. Но расставалась, расставалась не шутя.
Толстого как «крепкого» реалиста, разоблачителя «всех и всяческих масок» и борца с церковью поливало и удобряло коммунистическое государство, чьей официальной идеологией был «научный атеизм», принявший на наших просторах самобытнейшую форму языческого культа живых и мертвых вождей. А вот толстовство и всяческое непротивленчество ему прощалось так же, как дитю неразумному до поры до времени прощаются разрисованные обои и незнание основ марксизма-ленинизма. Ну не въехал старик в самую передовую идеологию — бывает. Подрастет — поймет.
Советская школа сделала все, что смогла, для того чтобы превратить Толстого в мрачного многословного зануду. Многие, кстати, с этим ощущением так и не справились, с каким бы могучим напором поистине нечеловеческая изобразительная сила его книг ни прорывала не только бетонные плиты «школьной программы», но даже и его собственную жизненную философию.
Может быть, еще и поэтому его посмертная судьба в других странах оказалась счастливее, чем в собственной стране.
А теперь вот державное молчание. Но Лев Толстой для всего мира, а стало быть, и для нас с вами останется Львом Толстым даже и без поддержки государства Российского. Это проблема не Льва Толстого, это проблема Российского государства и российского общества.
Совсем недавно в Германии вышел новый перевод «Анны Карениной». Издание его было приурочено к дате, которую отмечал в эти дни весь цивилизованный мир. Отмечал очень широко, что было особенно заметно в сравнении со скромным молчанием родины. Перевод этот сделала блестящая переводчица Розмари Титце, моя хорошая знакомая. Не удержусь и похвастаюсь тем, что какие-то сложные места она обсуждала в том числе и со мной. Горжусь.
На днях Розмари приезжала в Москву и рассказывала о своей работе над переводом. Очень интересно рассказывала. В числе прочего она сообщила, что ее перевод «Карениной» на немецкий оказался 21-м по счету, и говорила в связи с этим, что задача была особенно сложной — ее перевод должен был заметно отличаться от предыдущих. Судя по реакции читающей публики, раскупившей уже больше половины тиража, ей это удалось.
Ну что ж, 21-й перевод — это хорошо. У нас же, похоже, Льва Толстого так все еще по-настоящему и не перевели. Жаль, но что делать — придется, как это ни трудно, читать и перечитывать его в подлиннике.
Прошу к столу
Детское восприятие пространства существенно отличается от взрослого. Размеры пространства в сознании ребенка прямо пропорциональны числу людей, вещей и животных, одновременно это самое пространство заполняющих. Короче говоря, чем больше народу, тем больше и комната. Чем теснее, тем просторнее.
Это я к тому, что, когда в нашей коммунальной восемнадцатиметровой комнате за стол садилось человек тридцать гостей, комната превращалась в огромный банкетный зал. И как же я это любил! Как ждал! Как вертелся около мамы, одной рукой месившей тесто, а другой вертящей рукоятку мясорубки! Душа жаждала самого деятельного участия в сладком таинстве. «Хорошо, — говорила замученная мама, — когда надо будет украшать салат, я тебя позову. А сейчас иди, ты мне мешаешь». Украшался салат красочным грибом мухомором, сооруженным из очищенного крутого яйца и половинки помидора, по поверхности которого располагались майонезные крапинки. Красота.
Отец, вбегая каждые пять минут в кухню, нервно произносил ритуальное: «Ничего же нет, все же уйдут голодные». Мама говорила: «Хватит! Лучше пойди перелей водку в графин!» Да-да, водка обязательно должна была быть только в графине, и никак иначе: считалось, что водочную бутылку на стол ставят только самые отпетые. Бутылка со скучной казенной этикеткой на праздничном столе — это признак крайней степени социальной неустроенности, морального падения и энтропии.
Потом приходили гости, лунатически кружили по комнате и всячески старались не смотреть на нарядный стол, из соображения приличий опасаясь обнаружить столь же пламенный, сколь и низменный интерес. Потом отец произносил самое заветное. Он говорил: «Прошу к столу!»
И начинался праздник, который навсегда с тобой, даже если ты, достигнув мятежных юных годов, начинал тяготиться им, смотреть на него глазами утомленного скептика, иронически и мудро взирающего на монотонную мещанскую рутину родительского, уже не твоего быта и вообще бытия.
Но это все будет потом. Все то, от чего ты, дурачок, начинал досадливо морщиться спустя несколько лет, воспринималось тогда даже не как должное, а как некое циклически воспроизводимое чудо, вроде как всякий раз внезапно зазеленевшая липа в твоем дворе, как умирающее и воскресающее божество.
«Все налили? Тогда я скажу, если можно». — «Т-ш-ш-ш!» — «Передайте, если не трудно, вон тот салатик…» — «Леночка, пирожки — м-м-м-м! Нет слов, одни эмоции». — «Нет-нет, мне только половинку. Давление». — «А хозяйка присядет за стол хотя бы на минуточку?» — «Бегу, бегу! Я забыла холодец. Вечная история». — «Ну! Между первой и второй…» После первой и второй начиналось сосредоточенное жевание, а я как надежную гарантию незыблемости порядка вещей ждал, когда кто-нибудь произнесет неизбежное: «Товарищи, а вы заметили, что стало как-то очень тихо?» И дожидался. И все благодушно смеялись. И я.
Потом в комнату вносилась, допустим, индейка. Вносилась она почти столь же торжественно, как знамя дружины в актовый зал во время пионерской линейки. Но вносилась она не под горн и барабан, а под традиционный одобрительно-восхищенный вокализ «у-у-у-у-у!», исполняемый сводным хором гостей. В хоре был и солист, играющий роль шута-скептика и не очень искренне восклицающий: «Предупреждать надо было! Не поместится». Помещалось, тем не менее.
Потом, как уже было сказано, началась неизбежная юность. И душа рвалась прочь от отсталого ритуала в сторону мятежной альтернативы. Альтернатива заключалась, как правило, в дерзновенном отказе от салата оливье и трудоемкого холодца в пользу сыра сулугуни и кое-как вымытых пучков кавказской травы с Черемушкинского рынка. Ну, еще антрекоты из кулинарии. Ради того чтобы употребление этого чуда прогресса не было чревато серьезными стоматологическими последствиями, антрекоты перед жаркой надо было лупить смертным боем, вкладывая в этот очистительный процесс всю накопившуюся злобу на постылый советский мир, включающий и мир отчего дома.
А самое главное и судьбоносное — это то, что прямо посреди стола утвердилась во всем своем революционном бесстыдстве бутылка водки.
И так далее. И неуклонно исчезающая из нашего быта привычная, как пленумы ЦК, провизия. И медленное привыкание к совсем непривычным вещам вроде бутылки джина или коробки английского чая, присланным тебе твоим двоюродным братом с оказией из Бостона. И аскетические посиделки времен поздней перестройки, изредка украшаемые неожиданными подарками судьбы («Приезжай, у меня есть четвертинка». — «Ура! Еду. А у меня есть триста граммов сыра»).
И так до нынешних странных времен, когда несколько эпох домашних застолий стремительно уходят даже не в историческую, а в какую-то археологическую перспективу. И звонок по мобильному телефону: «У меня завтра день рождения. Приходи в „Маяк“». И поиски стола подальше от динамика. И каждый ест что-то свое. И каждый пьет что-то свое. И каждый говорит что-то свое. И в общем неоформленном гуле слышится чья-то досада на то, что завтра надо переться на родственный юбилей. Досада, смешанная со стыдным предвкушением человеческой еды и горько-сладкого прикосновения к собственному детству.
Мне четырнадцать лет
Заголовок — это не только цитата из Пастернака, поэта, удивительным образом умевшего профильтровывать глобальные исторические события сквозь груду кое-как накиданных мелочей и пустяков субъективного чувственного опыта. Грозная история не замусоривалась и не облеплялась частными биографическими наслоениями, а выходила, напротив, очистившейся от безысходной пошлости и кислой скуки учебников и брошюр. Выходила живой, дышащей, то есть такой, какой и должна быть история.
Это не только цитата, но и бесстрастная констатация того биографического факта, что в тот день, о котором я вспоминаю, мне было именно четырнадцать лет — чувствительнейший, надо сказать, возраст.
Я помню этот день во всех мельчайших и подчас довольно причудливых подробностях.
Во-первых, была фантастически прекрасная весенняя погода — теплая, сухая и ослепительно солнечная. Если я ничего не путаю, то именно в этот день я впервые в том году пошел в школу без пальто — в одной лишь школьной форме и даже, страшно подумать, без галош.
У школьных ворот я встретил друга Шухова, большого выдумщика. Он сказал: «Погодка-то, а?» Мы с ним были знакомы довольно близко, поэтому продолжения не потребовалось. «Да, — ответил я тоскливо, — хорошо бы как-нибудь это, того… Да только как?» Он тоже неплохо знал меня, поэтому смысл моей косноязычной реплики уловил с ходу. «А я сейчас заболею и отпрошусь», — сказал он не без хвастливости. «Это как это?» Его круглые румяные щеки и веселый, не без шкодливости взгляд с болезненным состоянием его организма увязывались плоховато. «Сейчас покажу», — сказал он и вынул из портфеля желтоватый брикетик мыла «Банного». «Вот смотри — двоюродный брательник научил». И он, послюнив мизинец, густо намылил его, засунул поглубже в нос и энергично в нем повертел. Потом он проделал то же самое и во второй ноздре. «Теперь глаза у меня будут красные, и я буду здорово чихать, вот увидишь».
Мы вошли в класс и сели. Вошла математичка Зоя Корниловна, ужасная, между прочим, стерва. Сидевший слева от меня Шухов напряженно ждал результата, нетерпеливо подергивая носом. «Глаза покраснели?» — спросил он меня минут через десять-пятнадцать, шепотом, разумеется. Я посмотрел. «Да вроде да», — неуверенно сказал я. «Ну ладно», — решительно, но и с некоторой обреченностью прошептал он и поднял руку. «В чем дело, Шухов?» — слегка раздраженно спросила Зоя Корниловна, которая знала Шухова хотя и не так близко, как я, но все же знала. «Я это… плохо себя чувствую», — по возможности умирающим голосом сказал он и в этот же миг, словно по заказу, оглушительно чихнул.
Но он мало того что чихнул. Из его левой ноздри выдулся маленький, но стремительно разрастающийся мыльный пузырь. Сам Шухов поначалу пузыря не заметил, а потому некоторое время продолжал — довольно, признаться, топорно — изображать лицом сен-сансовского лебедя в исполнении Галины Улановой. Пузырь между тем, надувшись до критических размеров, торжественно отделился от шуховского носа и пустился в автономное воздухоплаванье.
Зоя Корниловна, я, весь класс, а потом и сам виновник торжества некоторое время в гробовом молчании наблюдали за своевольной траекторией летающего объекта, гипнотически сверкавшего на жизнерадостном апрельском солнце всеми семью цветами спектра. Тут Шухов чихнул еще раз, что выглядело уже совсем глупо, тем более что в этот раз дело обошлось даже без пузыря.
Впрочем, до освобождающего массового хохота, а также до ритуального посрамления мнимого больного дело дойти так и не успело. Потому что в класс стремительно ворвался завуч Дронов Иван Тихонович. Ну да, тот самый, который вел у нас в пятом, кажется, классе историю древнего мира и говорил «лаброврадельческое государство». Так мы его, естественно, и называли.
Вбежав, он сказал: «Срочно включайте трансляцию». И, ничего не объяснив, убежал в следующий класс. Пузырь, обиженный стремительной потерей к нему всеобщего интереса, беззвучно лопнул, а Зоя Корниловна включила школьную трансляцию. В трансляции что-то, как полагается, потрещало да пошуршало, после чего голос директора Семен Григорьича сообщил нам о том, что человек в космосе и что этого человека зовут майор Гагарин.
С оглушительным кавалерийским «ура» мы выбежали во двор. И к чему в большей степени относилось это «ура» — к человеку ли в космосе или к тому, что по этому случаю отменили занятия, — совсем и не важно. Все эти прекрасные и яростные события, включая погоду и радужный мыльный пузырь — эффектный, хотя и эфемерный предвестник события мирового масштаба, — слились в единый мощный источник нашего еще не замутненного житейскими заботами и тревогами подросткового восторга.
Все остальное будет чуть позже. И абсолютно неформальное, никем не организованное, не контролируемое начальством и вполне деидеологизированное по своему духу массовое ликование на улицах и площадях родного города. И самодельные торопливые плакаты на кусках ватмана с надписями типа «Ура, мы в космосе!!!».
Чуть позже будет и торжественная встреча Юрия Гагарина на Красной площади. И сияющее детской радостью лицо Хрущева. И та немыслимая слава, которая перекрывала даже славу вратаря Яшина или артиста Райкина, а такое совсем недавно и представить себе было невозможно. И поездка по всему миру, очарованному его простодушной улыбкой. И учрежденный Верховным Советом День космонавтики. И новомодные девчачьи прически с двумя смешными хвостиками, немедленно получившие название «Полюби меня, Гагарин». И ремешки для часов с маленькой кругленькой черно-белой фотографией первого космонавта. Эти ремешки держались очень долго — чуть не конца 1970-х годов. Совсем недавно такой ремешок я обнаружил в Берлине на блошином рынке. Но не купил. Может быть, и зря — память все-таки.
Машинка времени
Никакого информационного повода нет. Точнее, есть, но, так сказать, сугубо личный, общественно не значимый, и вообще никакой это не повод, а всего лишь нежданная находка. (Да-да, дорогой взыскательный читатель, я решил начать вполне традиционно, как начинали свои судьбоносные сочинения многие поколения отечественных рассказчиков и очеркистов. И ничего, отлично себя чувствовали, между прочим. Чем мы хуже? Или лучше?)
Короче говоря, в процессе очередной безуспешной попытки привести хоть в какой-то порядок недра своего письменного стола я вдруг вынул из ящика плотную пачку тонкой бумаги черного цвета, которая с одной своей стороны вроде бы ничего особенного, а с другой — неприятно пачкает руки. Сколько лет пролежала, а все еще пачкается — вот ведь делали на славу в старину-то. Для людей постарше, уверен, ничего объяснять не надо, а тем, кто помоложе, полагаю все же нелишним пояснить, что это была пачка копировальной бумаги, или попросту копирки, непостижимым образом пролежавшая в моем столе бог знает сколько лет.
Эта находка немедленно отозвалась пробуждением мускульной памяти. Я сразу же вспомнил все те мелкие телодвижения, какими сопровождались манипуляции с закладыванием этих пачкающихся листочков промеж листков писчей бумаги, заправка всей этой громоздкой и ускользающей конструкции в каретку пишущей машинки…
О машинка, о вожделенная греза моей бедной юности! Как-то так получилось, что у меня ее не было довольно долго. И достать было нелегко, и денег особенно не было. Но мечтать, как говорили тогда, было не вредно и даже полезно. Я и мечтал, тем более что самосознание юного стихотворца казалось не вполне легитимным без вещественного, весомого (во всех смыслах этого слова) атрибута цеховой принадлежности.
Как же, как же! Я отлично помню и никогда не забуду свою первую машинку. Это был дореволюционный «Рейнметалл» — красивый, громоздкий и трескучий, как мамина подруга тетя Оля из соседнего подъезда. Как и тетя Оля, этот шикарный предмет являл собою несомненный центр любой композиции и солировал в любом хоре. Он умел обращать на себя внимание.
Я купил его по дешевке у своей приятельницы Иры С., которая, будучи к тому времени практически профессиональной машинисткой и подрабатывая перепечаткой произведений различных советских писателей, приобрела себе шикарную по тем временам «Эрику», ту самую, что «берет четыре копии», а старенький, но все еще могучий «Рейнметалл» достался мне.
Ира принимала заказы не только от узаконенных писателей, но и от «несоюзных» графоманов — какая ей разница, в конце-то концов, платят, и слава богу. Копии некоторых нетленок она иногда сохраняла для себя, угощая ими своих друзей и знакомых. Был, например, у нее один яркий клиент — вышедший в отставку пожилой генерал, решивший посвятить свой вынужденный досуг литературному сочинительству. Он сочинял пьесы. Пьесы его в основном были про заграничную жизнь. Некоторые места мне запомнились. Ну, например, встреча двух американских миллиардеров. «Мистер Джонс: „Мистер Смит, не хотите ли покушать?“ Мистер Смит: „Спасибо, я покушаю“. (Кушает.)». Чуть погодя мистер Джонс предлагает мистеру Смиту чашечку кофе таким образом: «Не угодно ли кофе? Кофе хороший. Настоящий».
Ну и еще было там много чего волшебного.
Впрочем, мы отвлеклись. Общая стоимость моего «Рейнметалла» увеличилась едва ли не вдвое, потому что такого зверя можно было увезти домой только на такси, причем из Беляева. Но он был привезен, установлен на почетное место и был вполне готов к активному участию в изготовлении шедевров. Забегая вперед, скажу, что если что-то и влияло на постепенное улучшение качества моей словесной продукции, то, к моему глубокому разочарованию, это был не он. То есть не она, машинка.
Но это все потом, а пока я ходил вокруг него, протирал тряпочкой его запылившиеся клавиши и всячески им любовался. Несмотря на связанные с ним расходы, я посчитал все же необходимым устроить в его честь небольшой праздник и пригласил несколько приятелей это дело отметить.
Приятели пришли, приобретение одобрили и стали отмечать. Один из них привел с собой барышню, которую я видел в первый и, к счастью, последний раз. Почему к счастью, станет ясно чуть позднее.
Другой гость явно положил на эту барышню глаз, потому что, будучи в принципе человеком остроумным, в этот раз он шутил довольно топорно и, главное, очень громко. Каламбур, показавшийся ему удивительно удачным, он в течение вечера повторил раз пять, не меньше. Время от времени, поднимая свой бокал, он говорил: «Выпьем же за счастливого обладателя пышущей мошонки!» По-моему, шутка так себе. Но все смеялись, а шутник громче всех.
Барышня же сидела молча и довольно мрачно, незаметно напиваясь «Саперави», которое я закупил в довольно-таки товарных количествах. В какой-то момент она встала, подошла вплотную к виновнику торжества, зачем-то еще и нагнулась над ним и изверглась бурным красным фонтаном прямо на его нежную клавиатуру. Немая сцена. Затемнение.
Много видел на своем веку этот «Рейнметалл», но такому, кажется, оскорблению еще не подвергался. По причине ли своего уязвленного самолюбия или по той, более очевидной, причине, что мокрая тряпочка никак не могла достичь потаенных глубин его тонкого и многообразного организма, он довольно долгое время отзывался на попытку общения с ним отчетливым характерным запахом. А поначалу еще и брызгался, подлец.
Но все проходит. И обиды тоже. И машинка эта, крепкая как кирпич и работящая как мул, прослужила мне верой и правдой много лет, пока не была заменена на что-то более отвечающее эпохе. Потом ушла и сама эпоха, и на моем столе появился мой первый компьютер, по клавишам которого я, привыкший к пишущей машинке, поначалу грохотал с нечеловеческой силой. Потом ушло и это.
Все быстро забывается. Включая то, что много лет составляло вещественный и существенный фон твоего существования. Пишущие машинки, ленты для пишущих машинок, приобретенная по блату пачка финской бумаги, пузырьки с белой замазкой, копирка…
Вертя в руках пачку этой копирки, я долго размышлял, что же мне делать с ней. Куда девать? И не придумал ничего лучшего, чем положить ее туда же, откуда я ее взял.
Где же ты, моя Сулико?
Почему-то вдруг вспомнил. Когда-то я состоял в приятельстве с одной сильно пожилой дамой из «бывших», то есть из старомосковской дворянской семьи.
Вообще в годы моей юности таких милых старорежимных московских старушек было довольно много. Все они, как правило, тихо доживали в коммуналках в районе Бронных улиц, Арбата, Пречистенки, Неглинной, Сретенки, Покровки. Их можно было видеть на бульварах и в скверах, а также в булочных, в молочных и овощных магазинчиках, в приемных пунктах химчистки, в районных библиотеках. Они были узнаваемы по какой-то особой осанке, по манере речи, по стареньким, но элегантным шляпкам, вытертым сумочкам, оплешивевшим муфтам. Они были приветливы и терпимы к чужим слабостям, что и служило во все времена несомненным признаком породы. А некоторые из них были даже и словоохотливы, что меня, любопытного юношу, стремившегося уцепиться хотя бы за мизерный обломок той затопленной Атлантиды, которая звалась Серебряным веком, очень вдохновляло. Они легко и доверчиво шли на знакомства с молодежью, жизнь, интересы и ценности которой, видимо, интриговали в свою очередь и их. В те годы даже мимолетно брошенная цитата из, допустим, Гумилева служила безотказным паролем, пропуском в их заветный затерянный мир.
Они довольно туманно вспоминали о послереволюционном периоде своей жизни, отделываясь полунамеками о сгинувшем в пекле гражданской войны женихе, о покойном муже «без права переписки», о собственных мытарствах — ссылках, а то и лагерях. Но охотно и подробно с разной степенью достоверности рассказывали о детстве и ранней юности. Не без кокетства упоминали о девичьих флиртах и увлечениях. В этих рассказах мелькали в числе прочих и очень даже прославленные имена. В соответствии с распространенным в те годы московским мифом из всех многочисленных объектов этих романтических приключений с наибольшей почему-то частотой упоминались два имени — Рахманинов и Станиславский. Прямо как сговорились.
Они были, повторяю, милы и приветливы, но и капризны необычайно. В магазине «Диета» на Арбате они буквально не давали спуску издерганным очередями и дефицитом продавщицам, требуя от них «сто граммов ветчины, и попостнее, пожалуйста». «Да где же я вам возьму попостнее? — праведно возмущалась продавщица. — Что вот тут лежит, тем вот и торгую!» «А вы уж поищите, сделайте милость», — мягко, но твердо настаивала старушка. И та находила-таки, после чего долго ворчала и укоризненно качала головой.