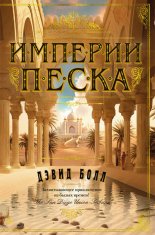Знаки внимания (сборник) Рубинштейн Лев

А та дама, про которую я вспомнил, была женщиной и вовсе необыкновенной. Десять лет лагеря и семь лет ссылки. Зимой ежедневно — лет до восьмидесяти пяти — коньки в авоську и на замерзшие Патриаршие пруды. Летом, весной и осенью — лет до девяноста — долгие гуляния по всему Бульварному кольцу. Сухая и легкая, она ходила стремительно, как будто под парусом, угнаться за ней было не так просто.
В ее рассказах никаких Станиславских с Рахманиновыми не было. Там были другие. Например, Мандельштам, который «всегда забегал к нам во Вспольный (а мы с покойной сестрой жили тогда в первом этаже), когда ему вдруг приспичивало по-маленькому». В это почему-то верилось.
В ее повседневной речи старорежимная институтская церемонность переплеталась, что было вполне объяснимо и, между прочим, по-своему изящно, с лагерными словечками. «В лагере я затеяла сочинять поэму, — рассказывала она, — и даже половину написала. Но все пропало». «Почему же пропало, — спрашивали ее, — начальство отняло?» «Да нет, — просто отвечала она, — блатари, падлы, растащили все на подтирку. Да, в общем-то, и не жалко: поэмка-то, если совсем откровенно, была то еще фуфло».
А еще она рассказывала, как в лагере два раза в год, на Седьмое ноября и на Первое мая, зэкам выдавали по крошечному кубику сливочного масла. «Мы в отличие от всех прочих масло не ели», — говорила она. «Мы — это кто?» — «Ну мы… Ну вы понимаете…» Слово «дворянка» применительно к себе самой она старалась употреблять как можно реже, видимо, из чувства природного демократизма. «Мы масло не ели. Мы им смазывали руки». Позже этот, видимо, ставший бродячим сюжет про масло мне приходилось читать в чьих-то еще лагерных воспоминаниях, и даже, кажется, не один раз, но услышал я его впервые именно от нее.
Однажды она сказала: «Хрущеву я прощаю многое за то, что он освободил миллионы из лагерей. Меня в том числе. Ему это, конечно же, зачтется. А еще мы с ним сходимся в двух вещах». — «Это в каких же?» — «Я тоже, как и он, терпеть не могу абстрактную живопись и тоже обожаю кукурузу, причем во всех видах».
Внутреннее стремление и постоянная готовность найти хоть что-то общее, пусть и максимально поверхностное, между собой и любым другим человеком, даже если этот человек предельно далек от тебя по духу, найти в каждом, даже и в отпетом моральном уроде, даже и в кровавом преступнике, хоть что-то человеческое меня не очень удивило. Она была человеком по-настоящему верующим, и лишь это обстоятельство, по ее собственному убеждению, помогло ей пережить ВСЕ ЭТО без особой деформации внутренней душевной структуры.
Но по юношескому своему безжалостному коварству я все же не удержался и спросил: «А со Сталиным у вас тоже есть что-нибудь общее?» «Вот с ним — нет», — сказала она твердо и заметно потемнела лицом. Но, подумав, все же прибавила: «Хотя почему же? Я, как и он, очень люблю песню „Сулико“».
Она жила очень долго. Когда ей исполнилось 95 лет, она сказала: «Не хотелось бы дожить до ста». — «Почему? Это же интересно». — «Ничего интересного. „Столетняя старуха“ — это, согласитесь, звучит совершенно омерзительно». Она и не дожила до ста — умерла то ли двумя, то ли тремя месяцами раньше.
Триумф Ква-Ква
Ну вот, отгремели салюты, отгрохотали парады, слегка отхлынуло разливанное море горделивой, со скупой слезинкой казенной пошлости, отбарабанили споры по поводу того, что именно следует считать фальсификацией истории.
Праздник закончился. А послевкусие от него осталось, и игнорировать его затруднительно.
Еще накануне шумливых торжеств один из моих друзей, любознательный и неравнодушный человек, обнаружил где-то в дебрях Всемирной паутины яркий образец рекламно-патриотического жанра. И заботливо прислал мне ссылку на него. Документ, скажу заранее, исключительный по силе, убедительности и убийственной наглядности.
Я не могу не привести его полностью. Читайте его внимательно. Вчитывайтесь в каждое слово. В нем, как говорится, нет ничего лишнего. Вот он:
Дискотека «Shine! Ночь Победы»
Этот праздник, такой вымученный и долгожданный, подарили нам когда-то наши бабушки и дедушки. Праздник, гордость за который превращает его в нечто большее, чем просто красный день календаря. Праздник, который просто необходимо отметить особенно. Только 7, 8 и 9 мая, три ночи подряд, Shine! представляет беспрецедентное по размаху празднование Великой Победы.
В самом большом аквапарке России «Ква-Ква» почувствуйте себя настоящим участником событий 65-летней давности, преодолевая крутые склоны горок, проходя через непролазную чащу высоких пальм, проплывая моря-бассейны, сражаясь с волнами, а устав от боя — передохнув за линией фронта с заботливыми go-go-сестрами под задушевные house-мелодии. И конечно, победа не заставит себя долго ждать!
Все понятно, да?
Здесь настолько прекрасно ВСЁ, что даже удивительное само по себе словосочетание «вымученный и долгожданный» кажется вовсе не каким-то особенным, а вполне респектабельным и даже не очень «вымученным», хотя и не слишком «долгожданным».
В общем, «Go-go-братья и go-go-сестры! К вам обращаюсь я, go-go-друзья мои! Вероломное военное нападение… на нашу Ква-Ква» и так далее. Мороз по коже и слезы из глаз.
Разумеется, понятно, что этот документ относится к числу «крайних», что он вовсе не в мейнстриме торгово-патриотического дискурса. Но он весьма симптоматичен в своей непристойной обнаженности.
Мы живем в эпоху катастрофической расшатанности и разбалансированности семантического поля. Слова употребляются не согласно значениям, а в соответствии с теми эмоциями, которые они вызывают или могут вызвать.
А у слов между тем есть значения, и это было бы неплохо знать. Их этимологию — тоже. Я вот заглянул на днях в этимологический словарь Шанского на предмет происхождения слова «Победа». И вот что прочитал: Происходит от др. — русск. «побда», также в знач. «поражение». Ср.: победный, также в знач. «несчастный» (победная головушка). Предположит. от «беда», «бедить».
Это так, всего лишь для примера, всего лишь для того, чтобы показать, что этимология — полезная наука, а словарь — полезное чтение.
Но на данном отрезке исторического времени из всего пучка значений того или иного слова самым, если не единственно «работающим» оказывается то, которое обнаруживает способность к конвертированию в денежные массы.
Поэтому все эти победные сатурналии с танками и самолетами, все эти выполненные в захудалой стилистике 1970-х годов нежнейшие плакаты с трогательными стариками-ветеранами, все эти «помним, гордимся» в нынешней социолингвистической ситуации — всего лишь слоганы и прочие бренды-тренды новейшего времени, где пропаганда осуществляется не силами изнуренных Высшей партшколой идеологов, а борзыми рекламщиками-копирайтерами. Причем отчаянно бездарными, демонстративно ленивыми и тотально безответственными — хоть в профессиональном, хоть в гражданском, хоть в моральном смысле.
И все эти сталины на бортах троллейбусов — это никакие не сталины, а бренды, торговые марки, реальные или потенциальные водочные этикетки.
Водка — один из самых универсальных продуктов национального духа. Поэтому водка «Генералиссимус» с соответствующим портретом на этикетке или водка «Модернизация» с тоже понятным портретом появятся если и не в ближайшее время, то чуть позднее.
А страна будет существовать до тех пор, пока будут существовать — сколь бы ничтожным ни было их число — носители языка.
А под носителями языка я понимаю в данном случае не всех тех, кто повседневно пользуется языком как палкой для выковыривания пищи из-под земли или как простейшим способом запугать одних, задобрить других, заморочить голову третьим или трахнуть четвертых. Носители языка — это люди, все еще способные понимать смысл слов и придавать значение их порядку.
Все по порядку
Недавно барышня-интервьюерша задала мне среди прочих и неизбежный вопрос о том, кто мой читатель, как я его себе представляю. При этом она попросила ответить максимально коротко. Я сказал, что коротко на этот вопрос ответить довольно затруднительно. «А вы все-таки попробуйте», — попросила она. Я попробовал и, озадачив своим ответом не только ее, но некоторым образом и самого себя, сказал: «Мой читатель — это тот, кто умеет читать».
Коротко так и не вышло. Все равно пишлось объяснять. Пришлось сказать, что это только кажется, будто читать умеют все, кто знает кириллические буквы и умеет складывать их в слова. Что, по моим наблюдениям, людей, способных воспринимать текст на уровне не только отдельных слов или словосочетаний, но и цельного высказывания, становится все меньше и меньше. Все меньше и меньше становится людей, умеющих воспринимать индивидуальную интонацию и порядок слов в предложении как содержательную категорию.
И это не только мое наблюдение. Как-то я провел вечер в обществе двух школьных учителей. Словесник жаловался, что большинству нынешних подростков совершенно невозможно объяснить, в чем прелесть, например, прозы Гоголя. Они, видите ли, воспринимают текст лишь с точки зрения конкретного сообщения — информации, внеположной художественным задачам. Им надо непременно знать «о чем». Если это сразу же не понятно, любой текст воспринимается как смертная тоска и вообще отстой.
Математик сказал, что да, с подобной проблемой сталкивается и он. «Как это? — удивились мы со словесником. — Математика же вроде как точная дисциплина. Какой уж там порядок слов?» «Не скажите, — ответил математик. — В последние годы я все чаще и чаще замечаю, что некоторые ученики, причем вовсе не тупые, с большим трудом понимают условие задачи. Им необычайно трудно воспринять смысл более чем одного предложения. Я давно заметил, что условие задачи гораздо легче понимают те, кто читает книжки. А с этим, как я понял, большие проблемы».
Я не учитель. Я автор. И я все чаще замечаю, что очень многие воспринимают любой текст лишь на уровне отдельных слов. Более того, многие всерьез убеждены, что бывают слова хорошие или плохие сами по себе. Мне приходилось слышать что-то вроде того, что бывают «пошлые слова». Под «пошлым» очень часто понимается «неприличное», хотя хорошо известно, что пошлым как раз чаще всего оказывается именно «приличное». Приходилось ли тебе, читатель, слышать нечто вроде того, что «это хороший анекдот, но пошлый»? Я уверен, что да, приходилось. И довольно часто. Хотя, если задуматься над этой расхожей формулой, нельзя не задаться законным вопросом: «Так хороший он или все-таки пошлый?» Что-нибудь одно.
Дело, разумеется, не в том, какие слова используются в тексте. Дело лишь в их уместности в данном контексте. Дело лишь в их точности и мотивированности. Людям, привыкшим воспринимать текст не как осмысленный порядок слов, а как их случайный набор, объяснить это затруднительно. Эти люди из любого текста выуживают лишь слова, кажущиеся им ключевыми, концентрированным содержанием всего текста вообще.
Выбор этих «ключевых» слов или в лучшем случае словосочетаний осуществляется в буквальном соответствии с известной поговоркой «у кого чего болит». «Болит» — в данном случае слово вполне точное, потому что болевые точки у каждого индивида либо социальной группы разные.
Эти слова, служащие столь же простыми, сколь и безотказными источниками эмоционального возбуждения, могут быть самыми разными. Это может быть, например, «Россия», или «Ходорковский», или «патриотизм», или «Сталин», или «жопа», или «евреи», или «Америка», или «сиськи», или «Грузия», или «бог», или «Бог», или «Катынь», или «Сколково», или «аборт», или «гнида», или «Путин», или «православие», или «Олимпиада в Сочи», или «модернизация», или «Народный фронт».
И притом абсолютно игнорируется то важное обстоятельство, что слова употребляются не только в прямых, но и в переносных значениях. И значения слов с разной степенью интенсивности мерцают и колеблются, а то и попросту деформируются в зависимости от слов-соседей.
Вследствие такого «чтения» эти отдельные слова в сознании людей, не умеющих читать, раздуваются до циклопических размеров, застят свет, мутят рассудок и в результате лопаются со страшным шумом и с риском с ног до головы забрызгать окружающих.
Я говорю не о «падении культурного уровня» — еще чего не хватало. Культура во все времена существовала под аккомпанемент разговоров о падении культуры, о смерти искусства и прочих эсхатологических вещах. Но она существовала и существует. И будет существовать — куда она денется. Она, строго говоря, только одна и есть в нашем злополучном отечестве. Она одна — при полном исчезновении политической и общественной жизни — только и держит на своих хрупких плечах это громоздкое нелепое сооружение.
Я говорю не о ней, не о культуре. Я говорю о социальной патологии, принимающей самые разнообразные формы. В том числе и такую причудливую форму, как массовое игнорирование синтаксиса. А история между тем и есть синтаксис. Потому что история — это не набор слов и даже не набор фраз. Это их порядок. Когда рушится порядок слов, рвется и без того хлипкая связь времен.
«Порядок должен быть восстановлен», хотелось бы сказать мне, да ведь набегут, да ведь растащат в разные стороны «порядок», «должен» и «восстановлен».
Но я все равно это скажу. Для тех, разумеется, кто умеет читать.
Косвенная речь
Разговор о цитатах уместно и начать с цитаты. Даже сразу с двух. «Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада». Это Мандельштам. А вот и Анна Андреевна: «Но, может быть, поэзия сама — одна великолепная цитата». Может быть. И даже скорее всего. И даже не всегда великолепная.
Существует особый род цитат, называемых обычно «крылатыми словами». Это цитаты, так сказать, окаменевшие. А просто цитаты, соответственно, суть потенциальные крылатые слова. Что-то вроде того, что если архитектура — это застывшая музыка, то тогда музыка — вроде как жидкая архитектура.
И любые слова, выстроенные в определенном порядке, — это потенциальная цитата. Можно ли, например, словосочетание «мой дядя» считать цитатой из Пушкина? Интересный, как говорится, вопрос.
Цитирование, то есть отсылка к авторитету, как бы придает собственному соображению дополнительную весомость, а то и легитимность. «Ну я-то ладно, я кто такой. А вот так же примерно думал вон кто». Поди-ка поспорь с Федмихалычем, Антонпалычем или Ильфпетровичем.
Не подумайте только, что я противник инструментального цитирования. Напротив даже. Тем более что русская и мировая классика потому и классика, что в свое время она проделала за нас ту самую умственную и нравственную работу, плодами которой мы и пользуемся. А уж кто с пользой, а кто с вредом, это, что называется, зависит.
Читая, перечитывая и обильно цитируя классику, мы всякий раз изумляемся сразу двум вещам: во-первых, тому, что никто по-настоящему ничему не учится и не хочет учиться, во-вторых, тому, что ничего принципиально нового в этом мире не случается — меняется лишь фактура жизни при неизменной ее структуре. Вот вы, допустим, совершенно случайно натыкаетесь на такую фразу: «На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались». И если эта фраза не была бы подписана именем Салтыкова-Щедрина, едва ли бы вы сообразили, что речь там идет о второй половине XIX века, а не о начале XXI.
Цитирование классики не только служит убойным аргументом в споре, а также универсальным паролем для распознавания своих или чужих. Оно как бы обозначает связь времен, пускай и зыбкую. Убеждает, что история наглядна. Напоминает, что не все с нас началось и нами закончится.
Существуют еще и различные этикетные нюансы цитирования, различные более или менее устойчивые приемы внедрения цитаты в ткань собственного высказывания. Если, скажем, цитирующий зайдет с кокетливого «как сказано у кого-то из великих», то мне и сама цитата будет не впрок.
И уж вовсе неконтролируемые судороги отчетливого омерзения вызывают у меня выражения типа «как в подобных случаях говаривал, бывало, такой-то». Особый шик — это когда «такой-то» обозначается посредством имени-отчества, но без фамилии.
Ну да, конечно, прямо так вот и «говаривал». Причем непременно — «бывало». «Чем, типа, меньше, — говаривал он, хаживая в драных тапках по натертому, бывало, паркету своего кабинета, — женщину мы любим, тем, короче, легче нравимся мы ей!» «Ай да такой-то! — время от времени воскликивал он, имея в виду самого себя и весело поигрывая кистями своего халата. — Ай да сукин, как говорится, сын!»
Самое, конечно, страшное, когда цитируемые авторитеты «говаривают» не своими собственными словами, а словами своих персонажей, причем не всегда мудрых и добродетельных. И говаривают они совсем не то, что говаривал бы, бывало, сам автор.
«Мне не смешно, — цитирует время от времени строгий гражданин, ревнитель и добровольный сторож всего высокого и нетленного, — когда маляр негодный мне пачкает», совсем при этом упуская из виду, что про маляра говаривал вовсе не поэт Пушкин, а некий персонаж некоей не очень большой трагедии. Этот персонаж звался Сальери. Ага, тот самый, что под гнетом неразрешимых противоречий между алгеброй и гармонией траванул друга Моцарта, плюхнув в его бокал чего-то вредного для здоровья, для чего ему пришлось не без сожаления распатронить последний дар Изоры.
Цитата в наше время — куда больше, чем цитата. Согласно распространенному взгляду на современную культуру, ее можно рассматривать как уже готовый, законченный текст. Невозможность прямого высказывания, обреченность на цитату — один из главных мотивов современного искусства. Память жанра, память ритма, память стиля — наиболее интенсивно работающие механизмы современной художественной практики. Не только художественное, но и обиходное речевое поведение — это лишь обмен цитатами. Мы цитируем не только тексты, но и интонации, и стили, и типы сознания. Мы и сами в каком-то смысле ходячие цитаты. Это не хорошо и не плохо. Это данность, с которой можно или считаться, или нет. Ее можно пытаться преодолеть, но с ней можно и работать.
Во всех счастливых случаях эта работа бывает вполне продуктивной. В каждом несчастливом случае безудержное цитирование оборачивается пагубной и разрушающей живую и неповторимую душу страстью. Все смеша… Тьфу ты!
Папина «Победа»
Это, может быть, помнят те, кто постарше. Была такая в середине 1950-х годов то ли «крокодильская» карикатура, то ли картина «холст-масло» с остросатирическим сюжетом. Сюжет был такой. Стоит посреди столицы автомобиль «Победа», очень престижный и крутой по тем временам. А рядом, облокотившись на автомобиль и самоуверенно скалясь всеми своими ста двадцатью семью зубами, стоит такой в поперек себя шире буклированном пиджачке, с заморской сигареткой в нерабочих пальчиках, с пышным коком на голове, на ногах «корочки на микропорочке». Одним словом, стиляга, золотая молодежь, тунеядец, маменькин сынок, трутень, «чувак», плесень на здоровом организме нашей славной трудовой и учащейся молодежи. Художественное это произведение называлось «Папина „Победа“».
Юмор там заключался в каламбурном мерцании двух значений слова «победа». Название машины, конечно же. А второй смысл в том, что стилягин папаша — чья «Победа» — относится к фронтовому поколению. Воевал он, значит, воевал, кровь проливал на всех фронтах, победил фашиста, вернулся, понимаешь, потом растил-лелеял свое любимое чадо, потом и «Победу» приобрел на свои трудовые — и вон чего в результате получилось. Тьфу, от людей стыдно! Такая вот, значит, «победа». Э-эх!
А еще мне вспоминается такая словесная игра времен моего детства. Берется какое-нибудь слово, и от него отсекается первая буква. Получается другое слово, которое тоже что-нибудь значит. От него тоже отсекается первая буква. Опять получается слово. И так далее. Следующий этап игры заключался в том, чтобы сочинить небольшой рассказ с использованием этих постепенно укорачивающихся слов.
Помню, что очень подходящим для этого дела оказалось слово «победа». И рассказ получался примерно такой: «Нами была одержана победа. Но мы остались без обеда. С нами приключилась беда. У нас пропала еда. Ты ее украл?» — «Да!»
В детстве я радостно осознавал лишь чисто формальное изящество этой, так сказать, новеллы. Ее глубинный экзистенциальный драматизм дошел до моего понимания лишь спустя многие годы. Так бывает с искусством: художник решает вроде бы чисто формальную задачу, а получается в результате такое, что самому становится страшно.
Это я все к тому, что «победа», которую мы опять собираемся пышно, натужно и весьма истерично праздновать, — это слово-ловушка.
Да, это была великая и жертвенная победа. И отрицать это было бы и безнравственно, и безвкусно. Слово «победа» было оправданным и насущным в период войны — как заклинание, как звезда на горизонте нескончаемых мытарств и страданий. «Наше дело правое — мы победим». Все правильно — победить необходимо. Без этого — смерть.
Вроде бы все правильно. В битве должен кто-то победить. По всем формальным признакам победили мы. Ура.
Но тут-то все только и начинается. И возникает столько вопросов, что не остается ничего лучшего, чем отмахнуться от всех сразу. Для чего победа? Кто от этой нашей победы выиграл? Кому она пошла на пользу, а кому во вред? Что с ней делать? Как жить дальше? Как сделать так, чтобы больше не приходилось побеждать с ТАКИМИ жертвами? Да и вообще, не будет войн — отпадет и потребность в победах.
Культ победы, как и любой культ, вреден и опасен. Но дело-то в том, что государство, подобное сталинскому или нынешнему российскому, только на этом культе и держится.
«Победа» — это ключевое слово в той этической системе, которую исповедует наша власть и идейно обслуживающий ее персонал. Без «побед» им никак. А без войн не бывает и побед.
«Победителей не судят». «Победитель получает все». «Историю пишут победители». Эти звонкие, соблазнительные и при этом глубоко архаичные формулы звучат в контексте реалий и ценностей современного мира мало того что не очень уместно, но и просто аморально. А у нас — в самый раз.
Вот мы и застряли в той самой победе. Вот мы и буксуем в ней, как полуторка в мокрой глине.
Современный цивилизованный мир тоже отмечает этот праздник. Но празднует он не «победу», а наступление мира. Мир пошел вперед. И для него в результате оказалось самым важным не то, кто кого победил. Самым главным и насущным оказалось усвоение уроков этой страшной войны. Важно не то, КТО победил, а кто и что ВЫИГРАЛ. Оказалось, что выиграл в том числе и немецкий народ, убийственным и самоубийственным своим опытом избавленный от смертоносных иллюзий исторической исключительности и национального мессианства.
А мы, как заколдованные, уже которое десятилетие все не можем выйти на свежий воздух из душного кинозала, сомнамбулически уставясь в экран, на котором, кажется, навсегда зависло слово «победа».
Поэтому спустя столько лет эта тема не перестает быть столь болезненно саднящей. А государство и общество неизменно уподобляются ребенку, который не дает зажить болячке на локте, вновь и вновь сладострастно сдирая не до конца засохшую защитную корочку. И поэтому война у нас никогда и не кончается.
Победа — это еще не мир. Победа — это всего лишь финал войны. Это всего лишь часть войны, хотя и заключительная ее часть. Апофеоз. Помните картину «Апофеоз войны»? Вспомнили? Вот и я том же. А сверху там, если помните, вороны. Конечно, вороны — кто же еще.
Суверенный антифашизм
И до, и тем более после войны, которая закончилась вроде как сокрушительной победой самого передового строя, советская власть намертво узурпировала слово «антифашизм», которое с годами приобрело поразительную семантическую пластичность, поистине сказочную способность сужаться или растягиваться до любых пределов и приобретать самые неожиданные, порой даже и малопредставимые формы.
Этот советский «антифашизм», это прекрасное и универсальное изделие № 3, с необозримой широтой и прославленной русской щедростью применяется и в наши дни. Вследствие чего «фашизмом» легко, безо всякого напряга становится любая идеология, любое общественное дуновение, направленное не совсем в ту сторону, куда нацелены соответствующие указующие органы.
Мой немецкий приятель, филолог-славист, изучающий в последние годы язык современной российской прессы, недавно спросил меня: «Я тут в статье одного вашего правого публициста прочитал странное словосочетание — „либеральный фашизм“. Это что? Это так может быть?» «У нас — может», — ответил я с некоторым даже раздражением, причем направленным сразу в обе стороны — на лавинообразно нарастающий отечественный идиотизм, а заодно на традиционную гибельную непонятливость европейского интеллектуала. «У нас — может, — сказал я ему. — Там, где возможна „суверенная демократия“, там может быть и „либеральный фашизм“. И прекрати уже наконец удивляться».
Ну, насчет «удивляться» — это, конечно, я погорячился. Тем более что я и сам никак не привыкну не удивляться. И более того: я твердо знаю, что если я когда-нибудь перестану удивляться, то это и будет означать мою интеллектуальную капитуляцию.
«Они что, Оруэлла не читали?» — не унимался европейский умник. «Читали они Оруэлла, — убежденно сказал я. — Да вот только это чтение их не ужаснуло, как нас с тобой, а очень даже воодушевило. Если хочешь знать, это и есть тайна русской казенной души».
А потому как тут не воодушевиться нашим пламенным антифашистам, когда мелькнет вдруг в новостях такое: «В Эстонии прошел слет ветеранов эстонской 20-й дивизии СС, а также членов Союза борцов за освобождение Эстонии и Общества друзей Эстонского легиона». И кому какое дело до того, что сообщение имело такое вот продолжение: «Неподалеку от места сбора эсэсовцев устроили акцию протеста антифашисты. Они принесли с собой колючую проволоку и фотографии преступлений нацистов… Участники акции приняли обращение к эстонским властям о недопустимости поддержки нацистов». Кому какое дело до того, что в свободной стране может быть и такое, и такое. Кому какое дело до того, что все эти страшные легионеры — доживающие свой век несчастные старики, за свое реальное или мнимое легионерство по полной программе оттрубившие на бескрайних просторах Сибири. Кому какое дело, что вместе с ними дружно трудились их соотечественники, никаким боком не имевшие отношения ни к каким легионерам, а виноватые лишь в том, что товарищу Сталину очень «хотелось кушать».
Но нет! Фашизм поднимает голову в странах Балтии! Мы не можем пройти мимо!
Не для того «мы» спасали Европу не только от Гитлера, но и от зловредной западной псевдодемократии. И ладно бы эти «балты» просто воевали на стороне Гитлера — мало ли кто воевал на этой стороне. Они воевали против своего великого и доброго восточного соседа, принесшего им свет и культуру.
Фашистами, повторяю, у нас теперь принято величать буквально всех, кто так или иначе колеблет «вертикаль». А тут такой подарок судьбы! Легионеры! СС! Само в рот лезет.
«Прибалтийские власти нагло прикрывают сборище нацистов, что говорит об их симпатиях», — гневно, как на митинге в цеху автозавода им. И. В. Сталина в 1937 году, восклицает один из интернетовских активистов антифашистского фронта.
«Голубчик, — скажу я этому активисту в назидание, — никто ничего не прикрывает. Никакое это не сборище нацистов. И ничего это не говорит ни о чьих симпатиях. Успокойтесь, голубчик. Лучше съездите как-нибудь в одну из балтийских стран и посмотрите на месте, много ли там нацизма. Ваши мантры могут иметь хоть какое-то воздействие лишь на тех, кто не читает ничего, кроме газеты „Известия“, не смотрит ничего, кроме программы „Время“, и никогда не выезжал за пределы села Хрюпина, даже если это село усилиями сельской „вертикали“ разрослось до масштабов огромной страны».
Борцы с прибалтийским «нацизмом» в качестве дополнительного аргумента любят упоминать, что при немцах эти самые легионеры очень даже преуспевали в деле окончательного решения еврейского вопроса.
Преуспевали, я в этом ничуть не сомневаюсь. Далеко не все, я уверен, но таких, разумеется, хватало. Но дело-то в том, что таких хватало не только в прибалтийских республиках. В общем-то не такой уж большой секрет, что этому занятию с разной степенью усердия предавались представители самых различных национальных групп нашей великой страны. Пока позолоченные образцы братских народов водили сомнамбулический хоровод вокруг струй фонтана «Дружба народов», некоторые другие, изготовленные из более дешевых материалов, на оккупированных территориях, где их застигла судьба, принимали вполне энтузиастическое участие в масштабном субботнике по наведению расовой чистоты. Безо всяких нашивок СС в основном. Без всякого «легионерства». Для этого благородного труда вполне хватало и скромной нарукавной повязки полицая.
Давно известно, что война — это гадость всегда, даже если ты воюешь за самые светлые идеалы, за дом, за родных, за свободу. Война убивает и калечит не только физически. Она калечит души и вывихивает мозги. Она мобилизует в людях самое в них подлое и темное. Но и самое благородное и геройское — тоже. Это война.
Две мамины тетки погибли в Бабьем Яру, потому что их выдала соседка, с которой они жили душа в душу много лет. А другая тетка в том же Киеве спаслась, потому что соседка сначала долго прятала ее в своем доме, а потом нашла возможность переправить к своим родственникам в деревню, и никто из деревенских (а в деревне ничего не скроешь) ее не выдал.
Было все.
А в 1970-е и 1980-е годы я почти каждый год ездил отдыхать в Эстонию, в маленький рыбацкий поселок на берегу моря. Я снимал веранду у одних и тех же хозяев. В довольно большом доме жила лишь пожилая пара, муж и жена. Они мне напоминали о «Сказке о рыбаке и рыбке». Прежде всего тем, что старик вечно чинил невод, а старуха хотя и не пряла свою пряжу, но зато день-деньской пилила своего мужа. Пилила она его, естественно, по-эстонски, а то, что она его именно пилила, я мог определить по выражению его лица — то виноватому, то раздосадованному.
Старик целыми днями молчал и даже отвечал на приветствия как-то довольно хмуро. Сначала я решил, что он меня за что-то недолюбливает. Потом я понял, что он вообще такой.
Все будние дни он в полном молчании возился с сетями, зато в пятницу вечером от души напивался. Напившись, он запрягал лошадь и со страшным грохотом катал ребятишек по главной улице поселка. Потом возвращался домой, садился на скамеечку и громко пел, причем на удивление прилично. Старуха, проходя мимо, лишь горестно вздыхала. Потом он с бутылью мутного самогона в руке стучался в мою дверь, я его впускал, он садился, наливал в два стакана страшной дряни и на неожиданно чистом русском языке начинал рассказывать про Сибирь. Каждый эпизод своего нескончаемого рассказа, как правило, очень страшный, он заканчивал одинаково: «Ты ни при чем».
Я и сам знал, что я вроде как ни при чем, но взглянуть ему в глаза мне было довольно трудно.
Потом приходила старуха, что-то ему выговаривала и, извинившись передо мной за беспокойство, уводила его спать. Он что-то еще немножко кричал и пел, скорее для порядка, чем по зову души, после чего затихал.
Насколько бы рано ни удавалось мне проснуться на следующий день, он всегда сидел возле своего сарая и в полном молчании штопал сеть. На мое бодрое tere! он реагировал лишь хмурым коротким кивком.
В один из дней кто-то из отдыхающих шепнул мне, что во время войны мой хозяин, тогда еще почти мальчишка, пошел воевать на стороне немцев. Как и многие парни из тех мест. Выбора у них не было. Не за Красную же армию им воевать, если практически в каждой семье кто-нибудь был отправлен по этапу в Сибирь. Ну а потом, после войны, в Сибирь отправился и он.
В ближайшую пятницу все было как обычно. Старик напился, запряг лошадь, покатал детей по улицам поселка, попел, а потом пришел ко мне с заветной бутылью. И снова он рассказывал мне страшные сибирские истории. И снова закончил свое повествование словами «Ты ни при чем». В этот раз я все-таки решился взглянуть ему в глаза и сказал: «Ты тоже».
Мойдодыр
Когда мне было года четыре, родители иногда развлекали мною гостей. Под преувеличенно бурные рукоплескания меня понадежнее устанавливали на табурете, с которого я — без запинки и ничуть не конфузясь — с выражением читал «Мойдодыр». Теперь, кстати, не смог бы полностью. А тогда — пожалуйста. Была еще в моем тогдашнем репертуаре песня «Летят перелетные птицы». Взрослых почему-то страшно забавляло, когда я сообщал городу и миру о том, что мне не нужны ни берег турецкий, ни Африка. Про берег турецкий мне сказать было особенно нечего, а вот Африка была мне хорошо знакома — туда, в соответствии с настойчивым советом все того же дедушки Корнея, детям не полагалось ходить гулять.
Но гвоздем программы был все-таки «Мойдодыр».
И любопытно, что я почему-то долгое время ничуть не задумывался о значении самого слова «мойдодыр», по звучанию напоминавшего мне одно из непонятных, но привлекательных, как и все непонятное, татарских слов, регулярно слышимых мною в нашем дворе.
Чуть позже пришло озарение, и я как-то своим собственным умом допер, что речь идет всего лишь о дырах, до появления которых рекомендуется мыть, тереть и скрести свое бренное неповторимое тело. А душу? Нет, об этих метафизических предметах я еще не умел размышлять тогда.
Эх, дыры, дыры.
Дыра как одна из наиболее емких и универсальных метафор нашей жизни и нашей истории ведет нас, как говорится, по жизни. И пожалуйста, не надо без толку тревожить и без того беспокойный сон венского доктора, ибо, как всем известно, банан во сне вполне может означать лишь себя самого и более ничего. То же и с дырой. Не «та» дыра — другая.
Я хорошо запомнил один из вечеров середины 1980-х годов. Тогда полупризрачные вожди один за другим покидали историческую сцену, не успев даже толком раскланяться, а морок и абсурд окружавшей нас реальности уже воспринимались почти на уровне тактильных и обонятельных ощущений. Мы, то есть два-три моих приятеля и я, сидели на кухне у одного из нас и говорили о том, что нам, в сущности, необычайно повезло. Мы даже, если угодно, можем гордиться тем, что нам выпала непростая, но почетная доля оказаться в самой сердцевине мирового гнойника. И ничего, живы и даже способны рассуждать и, главное, свидетельствовать. И говорили мы, что свидетельствование — это, может быть, и есть та самая миссия, каковая на нас возложена судьбой. И это далеко не самая худшая судьба. И вот ведь, говорили мы, расхаживаем мы как ни в чем не бывало буквально по кромке кратера, и вот сидим мы, беспечно болтая ногами, на самом краешке пресловутой черной дыры. И даже не боимся в нее заглянуть. И, в общем-то, счастливы. Хотя и вот же она — черная дыра.
Через год-полтора началась так называемая перестройка, и черная дыра стала постепенно, но заметно бледнеть. Зато при тускловатом, но уже отчетливом свете дня стали заметны на вытертом до дыр теле государства многочисленные дыры, дырки и дырочки, до поры до времени завешенные портретами вождей и плакатами, сообщавшими очумевшему от бесплодной погони за туалетной бумагой населению, что оно, население, вовсе не население, а — бери выше — народ, и народ этот един с партией. О как!
Очень важно понимать роль дыр в отечественной истории. Очень неправильно эту роль недооценивать. Далеко не все, но многие вещи объясняются именно этой тотальной и неизбывной дырявостью. Потому и не работало никогда в нашей стране то, что обычно называют системой. Государство во все времена пыталось то накачать страну воздухом, и тогда этот воздух со свистом вырывался наружу, то выкачать из страны воздух, и тогда преступный иноземный воздух стремительно врывался в наше пространство.
Сквозь дырки история утекала, но сквозь них же она и втекала.
Роль дырок можно считать столь же роковой, сколь и спасительной.
Вот, например, так называемый железный занавес, как, впрочем, и все остальное в нашей богооставленной стране, тоже был дыряв. Его штопали время от времени, а иногда и очень даже суровыми нитками, а новые дырки возникали в других местах.
Та же история и с глухими заборами, за которыми хоронились от постылого народа его слуги.
Когда «занавес» окончательно превратился в ажурные лохмотья, а высоченные заборы — в совершеннейшее решето, кончилась и советская власть — куда же ей без занавеса. И без забора.
Или взять, к примеру, пресловутую «чашу терпения народного» и патетический вопрос о том, почему она никогда не переполняется. А все потому же. И она безнадежно дырява, эта чаша. Да и не чаша она вовсе, а скорее дуршлаг. Этот вывод не слишком оптимистичен, понимаю. Но что делать, если это именно так?
Веками эта самая чаша может не переполняться, но лишь до той поры, пока ее многочисленные дырки не забьются наконец плотным слоем крови, пота, гноя, мокроты и прочих малоаппетитных выделений нашей небезоблачной истории. И тогда она, чаша сия, все-таки переполняется со всеми, извините за невольный каламбур, вытекающими последствиями. Поэтому — да минует нас…
Да, это бывает нечасто. Зато очень надолго запоминается.
Но запоминается, к счастью, не только это. Но и то, например, как маленький кудрявый мальчик в полосатом костюмчике стоит посреди счастливого, беспечного и шумного праздника на крепком довоенном табурете и с выражением декламирует «Мойдодыр».
Печально я гляжу
Скользя одним глазом по ровной поверхности одной из многочисленных интернетовских перебранок — разумеется, о главном, то есть о судьбах страны и человечества, — я вдруг споткнулся о показавшееся мне необычайно причудливым словосочетание «совки-диссиденты». Казалось бы, налицо явный оксюморон. Впрочем, из контекста стало ясно, что речь тут шла вовсе не о совокупности социальных убеждений, культурных ориентиров и нравственных ценностей, как это могло показаться вначале.
Речь о другом. О возрасте. О возрасте оппонента. Логика понятна: «диссиденты» — это давно, еще при советской власти. А кто провел свои детство, молодость, да и отчасти зрелость в годы советской власти? Ну разумеется, совки, кто же еще. Совки и есть.
Поколенческий шовинизм ничуть не менее глуп, неприятен и идейно бесплоден, чем шовинизм этнический, половой, сословный.
Ничего нет соблазнительнее и вместе с тем нелепее, чем говорить от имени поколения. «Мое поколение выбирает…», «мое поколение не приемлет…» Чушь несусветная. Что может быть глупее и, главное, безответственнее? Ну разве что говорить именем «народа», «нации» и даже профессии. «Мы, физики, любим манную кашу по утрам».
Впрочем, я не совсем прав. Общепоколенческие черты, конечно же, существуют, и спорить с этим было бы странно.
Моему поколению, я считаю, несказанно повезло. Мы были первым поколением советской эпохи, чьи детство и юность не знали ни голода, ни войн, ни массовых депортаций, ни парализующего нутряного страха, каковому почти до конца своих дней были подвержены наши родители.
Краем младенческой памяти я зацепил Сталина, но зато он не успел зацепить меня. Мои школьные годы протекли в хрущевскую пору с ее дозированной, но оглушительной по контрасту с ушедшей эпохой свободой. Свободой, чьи невзрачные семена прорастали в наших детских чувствительных душах с безудержным тропическим буйством.
На волне конъюнктурной хрущевской десталинизации в нас почти директивно внедряли критический взгляд на историю, не подозревая о том, что вслед за плохим Сталиным вполне может последовать плохой Ленин и совсем не безгрешная, мягко говоря, коммунистическая партия — вдохновитель и организатор всех наших побед. Нас заставляли участвовать в диспутах на разные идиотские темы, не подозревая о том, что помимо своей воли развивают в нас недоверие к монологическому типу общественного сознания, без которого не работает никакой тоталитарный режим.
Странная смесь из воспринятого от старших братьев — шестидесятников романтического идеализма и тотального цинизма последующей брежневской эпохи двигала нашими поступками и намерениями.
Некоторые черты, свойственные моему поколению, можно оценивать двояко. Например, в инфантильности, мечтательности и социальной пассивности вроде бы мало приятного. С другой стороны, именно эти черты не позволяли многим сознательно и сладострастно участвовать в откровенных гадостях. Для большинства из нас, выросших на фоне мощного разоблачительно-очистительного пафоса, какие-то вещи были прочно табуированы. Например, служба в КГБ. Поэтому из моего поколения в эту контору шли какие-то уже самые отпетые.
Я помню одну встречу со своими одноклассниками, случившуюся лет через семь после окончания школы. Там собрались очень разные люди — кто-то стал военным, какая-то девочка не скрывала гордости от своих полезных знакомств с богатыми иностранцами, какой-то мальчик делал комсомольскую карьеру и при этом глядел на всех слегка виновато, кто-то собирался в эмиграцию. Но как-то так получилось, что общие воспоминания сыграли роль чего-то похожего на водяное перемирие. Лишь один, а именно тот, с кем девочки на школьных вечерах не хотели танцевать по причине его повышенной потливости, сообщил, что трудится в «органах». Не могу забыть до сих пор ту мгновенно образовавшуюся вокруг него незримую, но плотную полосу всеобщего брезгливого и опасливого отчуждения. Он и ушел довольно быстро, многозначительно сославшись на «дела».
Нелегко им приходилось, я думаю. А в последние годы, глядя на некоторых принадлежащих моему поколению руководящих товарищей, я думаю об этом все чаще и чаще.
Мое поколение в общемировом масштабе — это поколение хунвэйбинов, первых хиппи и молодых западноевропейских бунтарей 1968-го года. В масштабах страны мое поколение тоже можно назвать поколением 1968-го года. Потому что именно в этом году, после разгрома Пражской весны, мое поколение, значительная часть которого была склонна обольщаться «социализмом с человеческим лицом», самым драматичным образом раскололось. На тех, кого чуть позже назвали диссидентами, и на тех, кого еще позже назвали совками. Идейные последствия этого раскола, увы, актуальны и по сей день.
Любить или не любить свое собственное (как и любое другое) поколение глупо и непродуктивно. Но если выбирать между тем и этим, то полезнее, мне кажется, его не любить. Вот и я не очень-то люблю свое поколение. Не то чтобы как-то сознательно, а скорее интуитивно. Во всяком случае, получилось так, что в юные годы большинство моих друзей были существенно старше меня, а в зрелые годы — моложе. И теперь среди моих друзей если и есть ровесники, то их единицы.
Недоверие к собственному поколению и к его коллективным признакам — это здоровая реакция на соблазн слиться в экстазе с очередным фетишем. От собственного поколения не уйдешь. Но чем раньше ты вырастешь из него, тем с меньшей вероятностью ты произведешь на свет какого-либо мировоззренческого мутанта наподобие «совка-диссидента».
Вкусовые ощущения
Примат вкуса — вещь хорошая. Я и сам придерживаюсь его в большинстве случаев. Я тоже привык в своих высказываниях и поступках руководствоваться вкусовыми соображениями и, если угодно, эстетической интуицией, которой привык доверять.
Я часто слышу в последнее время, причем от людей умных, талантливых, тонких и совестливых, что именно соображения вкуса не позволяют им поддерживать нынешнюю российскую оппозицию и что все чаще и чаще они склоняются к известной формуле «Чума на оба ваши дома».
Плохая оппозиция? Кислая и вялая? Налицо убийственный дефицит харизматических лидеров, серьезных нравственных авторитетов, да и просто ярких личностей? Они суетливы и бестолковы? Среди них много дурачков-идеалистов, с одной стороны, и продувных бестий, стремящихся погреть ручки у чужих печек, с другой? Они непоследовательны и с подозрительной легкостью меняют приоритеты? Они циничны и сами не очень-то верят в то, что говорят? Те из них, что смелы и отважны, как правило, истеричны и крикливы? Те, что поумнее, чрезмерно осторожны, чтобы не сказать трусоваты? Многие из них откровенно бездарны и безвкусны? У них нет позитивной программы, и они ничего не могут предложить взамен того, что есть?
Если не со всем, то со многим из этого я, увы, не могу не согласиться. Да, это в значительной степени так.
Впрочем, что ж тут удивительного: нынешняя российская оппозиция симметрична нынешней российской власти.
Во времена СССР водились такие личности, как Сахаров или Буковский, а теперь даже близко таких нет? Так ведь и советская власть, особенно позднего периода, при всей своей запредельно подлой и бесчеловечной природе и при отъявленной стилистической ублюдочности выглядела куда респектабельнее, чем нынешняя. Она была драпирована хотя и сильно потертым, но все же богатым имперским плюшем из «раньшего времени», облицована хотя и потрескавшимся, но все же некогда добротным метростроевским мрамором и обита хотя и сильно облупившимися, но все же полированными дубовыми панелями. Она выглядела дико и безвкусно, но при этом так, что было очевидно, что она рассчитана на века.
Нынешняя власть являет собой пространство, как будто бы обшитое пластиковой, китайского производства евровагонкой, поверх которой, как на детсадовском утреннике, красуется коряво вырезанная из фольги горделивая надпись: «Россия, вперед!» Пол у них покрыт сверкающим сортирным кафелем, а потолок настолько низок, что даже при своем невеликом росте они все никак не могут подняться с колен. Потому и значительная часть населения, охваченная тотальным евроремонтом, воспринимает это недоевропейское недогосударство как нечто очень близкое и понятное.
Какая тут может быть оппозиция? Хорошо еще, что такая, какая есть.
Примат вкуса — вещь хорошая. Проблема только в том, что вкус не у всех одинаков. Поэтому именно соображения вкуса не позволяют мне в унисон моим прекрасным собеседникам призвать чуму на оба дома. И не только они.
Во-первых, я уверен, что оппозиции просто не может не быть. Ибо оппозиция уравновешивает социальный ландшафт. Оппозиция — особенно в социально отрегулированных обществах — это не столько «против», сколько «напротив». Критически настроенный собеседник необходим власти, если, разумеется, эта власть в принципе способна к диалогу. Какая бы она, оппозиция, ни была, она необходима. Без нее угасание общественной жизни просто неизбежно.
Борются не только против, но и за. За свободу, например. За личное достоинство. За права слабых и уязвимых. За городскую среду. За природу. И если государство устроено так, что само утверждение этих базовых ценностей оно воспринимает как борьбу против него, то кто ж в этом виноват. Так помимо собственной воли и попадают в «оппозицию».
И почему это вдруг гражданин должен быть озабочен тем, чтобы власть чувствовала себя предельно комфортно? Не только право, но и обязанность гражданина — следить за руками государства. Это не он должен заботиться о комфорте и покое государства, а государство обязано печься о его комфорте, здоровье и безопасности.
Отсутствие оппозиции не может радовать социально вменяемого человека. Это не признак успешности режима. Это признак его слабости и нежизнеспособности.
Да, дураков много и там и тут. Но я упорно продолжаю полагать не только неприличным, но именно что безвкусным с академической невозмутимостью обсуждать достоинства, недостатки и интеллектуальный уровень того, кого в данный момент на моих глазах мутузят четверо. Сначала надо все-таки за него заступиться. Все остальное потом.
Я часто вспоминаю, как в середине 1970-х годов в одной компании горячо обсуждали свежее, взволновавшее всех событие: один общий знакомый, переводчик и правозащитник, был убит неизвестными в подъезде собственного дома. В разгар бурного и по понятным причинам довольно взвинченного разговора один из присутствовавших — тоже, что важно, переводчик — неожиданно сказал: «А переводчик-то он был так себе». Весьма уместное в данном контексте замечание, не правда ли?
Российская оппозиция, каковой бы она ни была, на сегодняшний день находится в лежачем положении. А не бить лежачего я научился еще в детстве. Во дворе. А кто-то другой, может быть, в том же самом дворе, научился лежачего именно что бить. Бить чем попало. Ну а если не бить, то хотя бы, стоя в сторонке и потирая ручки, приговаривать: «Так его! Еще! Еще!» И эти самые «кто-то» сейчас у руля. А другие такие же любители подкидывать сучки и веточки в веселый костерок аутодафе составляют их надежную социальную базу. Все, увы, довольно просто.
В риторике многочисленных «лоялистов» хорошим тоном считается квалифицировать оппозицию и сочувствующих ей как «маргиналов». Вот уж кого-кого, а меня этим, мягко говоря, не отпугнешь. Я всегда ощущал себя именно маргиналом — если не с гордостью, то по крайней мере безо всякого душевного дискомфорта. Примыкать к силе, к большинству, к социальному или культурному мейнстриму для меня всегда было, что называется, западло. Я всегда и абсолютно сознательно был на стороне творческого меньшинства. И не произошло пока ничего такого уж значительного, что поколебало бы эту мою убежденность.
Уповать на изначальную правоту «большинства» — дело не только глупое, но и ненадежное. В психиатрической лечебнице, например, большинство составляют известно кто. И слава богу, что они там не одни. Что есть там еще и «маргинальное» меньшинство, состоящее из врачей, медсестер, поваров, сторожей, бухгалтеров и всех прочих, кто обеспечивает жизнеспособность, осмысленность и хотя бы относительный порядок функционирования этого печального заведения.
На тему «маргиналов» и «мейнстрима» замечательно, на мой взгляд, высказался однажды, хотя и по несколько другому поводу, Виктор Шкловский: «И нужно не лезть в большую литературу, потому что большая литература окажется там, где мы будем спокойно стоять и настаивать, что это место самое важное». Все правильно: именно спокойно стоять и именно настаивать. И именно самое важное.
Увянувшее поле
Славную лицейскую годовщину я и мои друзья праздновали всегда. Это одна из немногих отечественных дат, не вполне заляпанных официозом.
Когда-то, еще в советские годы, мы с друзьями в один из официальных советских праздников сидели за столом и обсуждали интересную тему — тему альтернативных праздников. Какие могли бы стать общенародными, если бы страна каким-то непостижимым образом стала свободной.
Вариантов, увы, было не слишком много. Собственно, три.
Кто-то предложил 5 марта. Кстати, эта дата и была долгие годы праздником для тех, кто вернулся из сталинских лагерей, для их родных и друзей. Мой приятель и сверстник, который, как и я, хорошо запомнил этот день 1953 года, рассказывал, как под дружный горестный вой соседок по коммуналке он случайно открыл дверь в одну из комнат. Эту сцену он ярко и отчетливо помнит до сих пор во всех деталях. Две сестры-старушки, жившие в этой комнате, в абсолютной тишине и в гробовом молчании, но со счастливыми лицами кружились в вальсе.
Сколько-то лет спустя, когда языки немного развязались, он узнал, что эти старушки были дворянки, что их мужья сгинули в ГУЛАГе, что у одной сын погиб на войне, а сын другой отбывал ссылку в Магадане.
Я, помнится, предложил 19 февраля, день отмены крепостного права. Почему это предложил именно я, отчасти понятно: был в этом и неявный личный интерес, потому что это еще и день моего рождения.
Эту дату в качестве общенародного праздника я бы предложил и теперь. Но теперь эта идея, мягко говоря, не актуальна. Чем дольше мы живем, тем очевиднее, что никуда оно, крепостное право, не девалось. Что оно живет и побеждает, принимая лишь разные формы и обличия, соответствующие информационной и технологической ситуации текущего момента.
Помните, у Чехова?
Фирс. Перед несчастьем тоже было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь.
Гаев. Перед каким несчастьем?
Фирс. Перед волей.
Очень многое, казалось бы, с тех пор изменилось. И Фирс давно уже почил тихой смертью, запертый в пустой барской усадьбе. А отношение к воле как к несчастью воспроизводится во всей неприкосновенности многими и многими поколениями фирсов. Какое уж там 19 февраля, если «дерьмократы-прихватизаторы ограбили народ в лихие 1990-е». Вот настоящий барин придет, он им всем покажет.
Ну и 19 октября, разумеется. День рождения первого непоротого поколения, так и не нашедшего своего применения в стране, где есть счастье, но нет покоя и воли.
Есть неизбывное счастье в пароксизме холопского патриотизма прислониться к силе, к власти, к царю, к барину, к пахану, к дрезденскому подполковнику — к чему и кому угодно, воображая себя придворными, но будучи при этом самой что ни на есть дворней.
Покоя нет, он нам только снится. Да и то не всем и не всегда. А воля — это «несчастье».
Их было немного, тех, к кому обращался в своем посвящении самый прославленный из лицеистов. Но много и не надо. Важно, чтобы всегда были те, кто ощущал бы себя гражданином своего отечества, которое и будет существовать лишь до тех пор, пока будут существовать его граждане. А отечество нам, как было сказано, Царское Село.