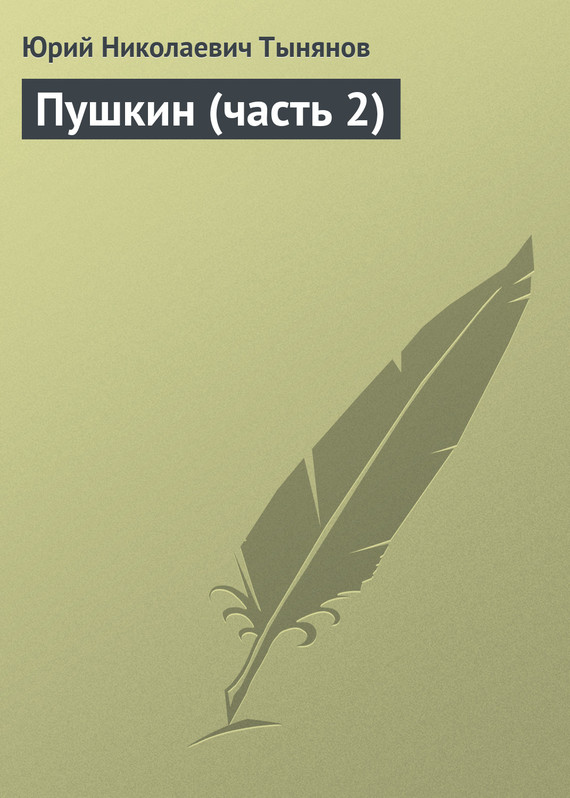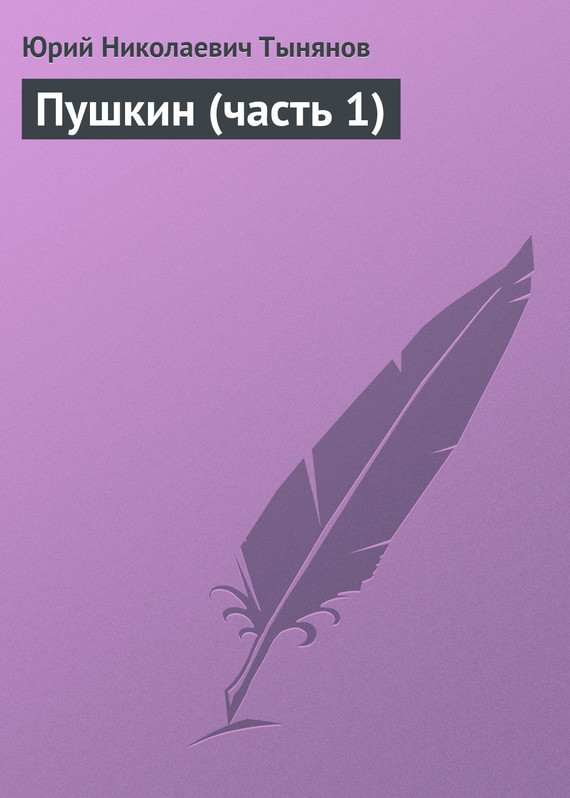Гроздья гнева Стейнбек Джон

Эл вытер рот ладонью.
— Я готов, — сказал он.
Отец повернулся к дяде Джону:
— Ты поедешь?
— Поеду.
— Тебе нездоровится.
— Нездоровится, но все равно поеду.
Эл залез в кабину.
— Надо взять горючего. — Он завел мотор. Отец и дядя Джон сели рядом с ним, и грузовик покатился по широкому проходу между палатками.
Мать проводила их глазами, потом взяла ведро и пошла с ним к прачечной. Она налила горячей воды и вернулась обратно. И когда Роза Сарона подошла к палатке, мать уже мыла посуду в ведре.
— Вон твой завтрак, на тарелке, — сказала мать и пристально посмотрела на Розу Сарона. Волосы у Розы были мокрые и гладко причесанные, лицо чистое, розовое. Она была в платье — белые цветочки по синему полю. На ногах туфли на высоких каблуках, купленные еще к свадьбе. Она покраснела, увидев, что мать смотрит на нее.
— Ты помылась? — спросила мать.
Роза Сарона заговорила с хрипотцой в голосе:
— Я там стою, вдруг приходит какая-то женщина, стала мыться. Знаешь, как это надо делать? Зайдешь в такое помещение, вроде маленького стойла, повернешь кран, там их два, польется вода, какая хочешь — горячая, холодная… Я тоже так сделала.
— И я сейчас пойду! — крикнула мать. — Вот уберусь и пойду. Ты мне покажешь, как надо делать.
— Я каждый день буду мыться, — продолжала Роза Сарона. — А эта женщина… она посмотрела на меня, увидела, что я беременная, и знаешь, что сказала? Сказала, что сюда каждую неделю приходит няня. Я обязательно к ней схожу, пусть расскажет мне, что надо делать, чтобы ребенок был здоровый. К ней все женщины ходят. И я тоже пойду. — Она просто захлебывалась. — И знаешь, еще что? На прошлой неделе здесь одна родила, и весь лагерь это праздновал, нанесли маленькому подарков — белья и… и даже колясочку плетеную. Она, правда, не новая, но ее покрасили розовой краской, и стала будто только что из магазина. Дали ребеночку имя, торт спекли. О господи! — И, вздохнув всей грудью, она умолкла.
Мать воскликнула:
— Слава господу, наконец-то мы среди своих людей, как дома! Сейчас пойду помоюсь.
— Иди, там хорошо, — сказала Роза Сарона.
Мать вытирала оловянные тарелки, ставила их одну на другую и говорила:
— Мы Джоуды. Мы ни перед кем на задних лапках не ходили. Дед нашего деда сражался во время революции. Мы были фермерами, пока не задолжали банку. А те… те люди, они что-то сделали с нами. Мне каждый раз казалось, будто они бьют меня… и всех нас. А полисмен в Нидлсе… Я тогда озлобилась, меня будто подменили. Мне самой себя стало стыдно. А теперь я ничего не стыжусь Здешний народ — это наш народ… наш. Управляющий… пришел запросто, посидел, выпил кофе… Через слово — «миссис Джоуд», «миссис Джоуд», «Ну, как у вас дела, миссис Джоуд?», «Как вы устроились, миссис Джоуд?» — Она умолкла и вздохнула. — Я себя опять человеком почувствовала. — Она вытерла последнюю тарелку. Потом прошла под навес и вынула из ящика свои туфли и чистое платье, нашла там же бумажный пакетик с серьгами. Уходя, она бросила Розе Сарона: — Если придет комиссия, попроси подождать, я скоро вернусь, — и скрылась за углом санитарного корпуса.
Роза Сарона тяжело опустилась на ящик и посмотрела на свои свадебные туфли — лакированные лодочки с маленькими бантиками. Она протерла носки пальцем и вытерла его об изнанку подола. Нагибаясь, она почувствовала свой живот, а когда выпрямилась, потрогала его и чуть улыбнулась.
По дороге к прачечной шла высокая, крупная женщина с ящиком из-под яблок, в котором лежало грязное белье. Лицо у нее было темное от загара, взгляд черных глаз пристальный, напряженный. Поверх бумажного платья на ней был широкий фартук из мешковины, на ногах мужские полуботинки. Она увидела, как Роза Сарона погладила себе живот, увидела ее легкую улыбку.
— Ну! — крикнула она и громко засмеялась. — Кто же будет?
Роза Сарона вспыхнула и потупилась, потом посмотрела на женщину исподлобья и поймала на себе шарящий взгляд ее черных глаз.
— Я не знаю, — пробормотала она.
Женщина опустила ящик на землю.
— Распирает он тебя? — спросила она и засмеялась, закудахтала, точно клушка. — Кого же ты все-таки хочешь?
— Я не знаю… Мальчика. Мальчик лучше.
— Вы недавно приехали?
— Ночью… совсем поздно.
— Останетесь здесь?
— Не знаю. Если найдем работу, наверно, останемся.
По лицу женщины пробежала тень, ее маленькие черные глазки свирепо вспыхнули.
— Если достанете работу. Так мы все говорим.
— Мой брат сегодня уже устроился.
— Вот оно что! Ну, может, вы счастливые. Только не надейтесь на свое счастье. Ему доверять нельзя. — Женщина подошла к Розе Сарона вплотную. — Счастья только в одном ищи. Другого тебе не надо. Будь скромной, — с жаром говорила она. — Блюди себя. Содеешь грех — тогда смотри, как бы с ребенком чего не случилось. — Она присела на корточки перед Розой Сарона и злобно продолжала: — Страшные дела творятся в этом лагере. Каждую. субботу по вечерам танцы, и не только кадриль танцуют, нет. Некоторые в обнимку, парочками! Я сама видела.
Роза Сарона осторожно проговорила:
— Я люблю танцы… кадриль, — и добавила добродетельным тоном: — А по-другому никогда не танцевала.
Загорелая женщина сокрушенно покачала головой.
— А вот некоторые танцуют. Но господь этого не простит, нет. И не думай.
— Я и не думаю, мэм, — тихо сказала Роза Сарона.
Женщина положила коричневую морщинистую руку ей на колено, и Роза Сарона вздрогнула от этого прикосновения.
— Ты послушай доброго совета. Кто во Христе живет, таких теперь мало осталось. В субботу вечером надо бы петь гимны, а их оркестр такое заводит… и все под него кружатся, вертятся… Да, да! Я видела издали. Я туда близко и сама не подхожу, и своим не позволяю. Танцуют в обнимку, парочками. — Она выразительно помолчала и потом заговорила снова, понижая голос до хриплого шепота: — Мало того. Тут и пьесу представляли. — Она откинулась назад и наклонила голову набок, чтобы посмотреть, как Роза Сарона воспримет это поразительное сообщение.
— Артисты? — спросила та с трепетом.
— Какие артисты! — крикнула женщина. — У артистов души давно прокляты. Свои же люди. Здешние. И несмышленых ребят в это дело втянули, заставили их ломаться, корчить из себя бог знает кого. Я туда и близко не подходила. Только слышала, как они судачат об этом. В тот вечер по нашему лагерю дьявол разгуливал.
Роза Сарона слушала разинув рот, широко открыв глаза.
— У нас в школе раз тоже представляли про Христа-младенца… на рождество.
— Ну, я не говорю, плохо это или хорошо. Многие порядочные люди считают, что про Христа-младенца можно. Я этого так прямо не скажу, не знаю… Но ведь тут никакого Христа-младенца не было. Тут грех, обман, дьявольское наваждение. Кривляются, говорят не своими голосами, представляют бог знает кого. И танцуют в обнимку, парочками.
Роза Сарона вздохнула.
— И ведь таких не двое, не трое, а много, — продолжала женщина. — В ком осталось истинное благочестие, тех можно теперь по пальцам перечесть. Только ты не думай, что этим грешникам так все и простится. Нет! Господь бог записывает их грехи, а потом подведет черту и сложит все. Господь — он за всеми следит, и я тоже слежу. Он двоих уже поразил.
Роза Сарона еле выговорила:
— Поразил?
Голос загорелой женщины стал еще жарче, еще неистовее.
— Я сама видела. Была здесь одна молоденькая, ждала ребенка, так же как ты. Она и в пьесе кривлялась, и танцевала в обнимку. А потом, — мрачным, зловещим шепотом, — потом начала худеть, сохнуть, кожа да кости… и выкинула… мертвого.
— Ой! — Роза Сарона побледнела.
— Да, мертвого. С ней после этого никто слова не сказал. Пришлось ей уехать отсюда. Когда живешь среди грешников, грех к тебе так и липнет, милочка. И другая так же себя вела. Высохла — кожа да кости, а потом, знаешь, что было? Вдруг пропала — нет ее. Через два дня является. Говорит, ездила к знакомым. А живота как не бывало. И знаешь, что я думаю? Ее, наверно, управляющий свез куда-то, там она и опросталась. Он грехов не признает. Сам мне так сказал. Говорит, грех — это когда люди голодают, холодают, потому что в этом божьей руки не чувствуешь. Я сама от него слышала. Говорит, эти обе девушки потому так отощали, что есть было нечего. Ну, я его отчитала как следует. — Женщина поднялась и сделала шаг назад. Глаза у нее горели. Она ткнула указательным пальцем почти в самое лицо Розы Сарона. — Я ему говорю: «Отыди, сатана!» Говорю: «Я знала, что у нас в лагере дьявол бесчинствует. Теперь я вижу, кто он, этот дьявол. Отыди, говорю, сатана!» И он попятился, честное слово, попятился! Задрожал весь, заюлил. Говорит: «Прошу вас, прошу! Не причиняйте вы людям горя». Я говорю: «Горе? А что вы скажете про их души? А что вы скажете про мертвых младенцев, про тех двух грешниц, что погубили себя вашими театрами?» Он только посмотрел на меня, скривил губы, будто улыбнулся, и ушел. Понял, с кем дело имеет. Я ему говорю: «Я господу богу помогаю, слежу за тем, что здесь творится. Рука божия никого не минует — ни вас, ни прочих грешников». — Женщина подняла ящик с грязным бельем. — Берегись. Я тебя предупредила. Помни, что у тебя младенец во чреве, сторонись греха. — Она величественно зашагала прочь, и в глазах ее горел огонь добродетели.
Роза Сарона проводила ее взглядом, уткнулась лицом в ладони и заплакала. Чей-то тихий голос окликнул ее. Она подняла голову, пристыженная. Перед ней стоял управляющий — маленький человечек, одетый во все белое.
— Вы не огорчайтесь, — сказал он. — Не надо огорчаться.
Роза Сарона залилась слезами.
— Я тоже так делала, — сказала она. — Я танцевала в обнимку. Я только ей не призналась. Мы в Саллисо так танцевали. С Конни.
— Не огорчайтесь, — повторил он.
— Она говорит, я выкину.
— Я знаю, что она говорит. Я за ней послеживаю. Она неплохая женщина, только от нее людям одно горе.
Роза Сарона громко шмыгнула носом.
— Она говорит, здесь, в лагере, две женщины выкинули.
Управляющий присел перед ней на корточки.
— Постойте, — начал он. — Послушайте, что я вам скажу. Я знаю этих женщин. У них это было от голода, от усталости. И от тяжелой работы. И оттого, что они ехали на грузовике по тряской дороге. У них здоровье было плохое. Вины за ними никакой нет.
— А она говорит…
— Вы не огорчайтесь. От этой женщины людям только одно расстройство.
— …она говорит, вы — дьявол.
— Знаю. Это потому, что я не позволяю ей огорчать людей. — Он погладил Розу Сарона по плечу. — Вы не горюйте. Ее не надо слушать. — Он встал и быстро ушел.
Роза Сарона долго смотрела ему вслед; его худые плечи подергивались в такт шагам. Она все еще провожала глазами его легкую фигуру, когда к палатке подошла мать — чистая, розовая, с мокрыми волосами, закрученными на затылке узлом. На ней было цветастое платье и старые, потрескавшиеся туфли, а в ушах болтались серьги.
— Помылась, — сказала она. — Стою под душем, теплая вода так и льется, так и бежит. Там была одна женщина, и она говорит, если хочешь, хоть каждый день мойся. Комиссия еще не приходила?
— Нет, — ответила Роза Сарона.
— А ты так и сидишь, ничего не сделала! — Мать сама подхватила тарелки. — Надо тут навести порядок. Живей поворачивайся! Возьми мешок, подмети им тут немножко. Она собрала посуду, сложила все в ящик, а ящик задвинула под навес. — Убери постели, — командовала она. — Как хорошо под душем! В жизни такого удовольствия не испытывала.
Роза Сарона машинально повиновалась ей.
— Как ты думаешь, Конни придет сегодня?
— Может, придет… может, нет. Трудно сказать.
— А он знает, где нас найти?
— Конечно, знает.
— Ма… а может, его убили там, когда поджигали лагерь?
— Такого не убьют, — уверенно сказала мать. — Он, если захочет, куда угодно доберется — пронырливый, хитрый.
— Скорей бы он пришел.
— Когда придет, тогда и придет.
— Ма…
— Ты бы лучше делом занялась.
— Как ты думаешь, танцевать и представлять в театре — грех? Я не выкину из-за этого?
Мать бросила уборку и подбоченилась.
— Это еще что за разговоры? Ты в театрах никогда не представляла.
— А здесь некоторые представляют, и одна женщина выкинула… мертвого… в наказание за грехи.
Мать смотрела на нее во все глаза:
— Кто это тебе такого наговорил?
— Одна женщина. А этот маленький, в белом костюме, говорит, что она не потому выкинула мертвого.
Мать нахмурилась:
— Роза, — сказала она, — перестань ты себя терзать. Тебе, наверно, захотелось поплакать. Что с тобой стало, просто не знаю. У нас в семье таких никогда не было. Мы горе с сухими глазами встречали. Это Конни тебя испортил. Он всегда выше головы хотел прыгнуть. — И она строго добавила: — Роза, ты не одна, кроме тебя много других людей. Найди свое место среди них. Я знаю, есть такие, которые до того со своими грехами носятся, что под конец бог знает что о себе возомнят.
— Да ведь…
— Нет, довольно. Принимайся за работу. Не такая ты важная птица, не такая ты грешница, чтобы бог из-за тебя очень беспокоился. А если не перестанешь мучиться понапрасну, получишь от меня как следует. — Мать смела золу в ямку и обмахнула камни, положенные по ее краям. Она увидела комиссию, шествующую по дороге. — Делай что-нибудь. Вон идет комиссия. Делай что-нибудь, я погоржусь, какая у меня дочка. — Мать больше не смотрела на дорогу, но чувствовала, что комиссия приближается.
В том, что это шли члены комиссии, не могло быть никаких сомнений. Три женщины — чистенькие, одетые по-праздничному; одна худощавая, с прямыми, коротко подстриженными волосами, в железных очках; вторая — толстенькая коротышка, седая, кудрявая, с маленьким ротиком; а третья — великанша, грудастая, широкозадая, как ломовая лошадь, вида властного и уверенного. Комиссия шагала по дороге, полная чувства собственного достоинства.
Когда они подошли, мать стояла к ним спиной. Они остановились, сделали поворот направо и выстроились в ряд. И великанша прогудела:
— Миссис Джоуд? Здравствуйте.
Мать круто повернулась, будто застигнутая врасплох:
— Да… да. Откуда вы знаете, как меня зовут?
— Мы — комиссия, — ответила великанша. — Женская комиссия санитарного корпуса номер четыре. Нам сообщили вашу фамилию в конторе.
Мать засуетилась:
— Мы еще не прибрались как следует. Вы посидите, пожалуйста, а я приготовлю кофе и угощу вас — для меня это большая честь.
Толстушка сказала:
— Джесси, представьте нас. Скажите миссис Джоуд, как нас зовут. Джесси — председательница, — пояснила она.
Джесси проговорила официальным тоном:
— Миссис Джоуд, это — Энни Литлфилд и Элла Саммерс, а я — Джесси Буллит.
— Очень рада познакомиться, для меня это большая честь, — сказала мать. — Вы, может, присядете? Хотя сидеть-то не на чем, — спохватилась она. — Сейчас я приготовлю кофе.
— Нет, нет, — церемонно сказала Энни. — Не беспокойтесь. Мы зашли посмотреть, как вы тут устроились. Хотим, чтобы вы чувствовали себя как дома.
Джесси Буллит строго остановила ее:
— Энни, не забывайте, пожалуйста, что председательница — я.
— Хорошо, хорошо. Но на следующей неделе я буду председательницей.
— Вот и ждите следующей недели. Мы меняемся, — пояснила она матери.
— Может, вы все-таки выпьете кофе? — растерянно спросила мать.
— Нет, благодарю вас. — Джесси взяла власть в свои руки. — Мы сначала покажем вам санитарный корпус, а потом, если хотите, запишем вас в женский клуб, поручим какую-нибудь работу. Конечно, это ваша добрая воля — записываться не обязательно.
— А за это… за это надо платить?
— Платить ничего не надо — надо работать. А когда вас здесь узнают поближе, тогда, может, и в комиссию выберут, — перебила ее Энни. — Вот, например, Джесси — она член не только нашей комиссии. Она входит и в главную.
Джесси горделиво улыбнулась.
— Избрана единогласно, — сказала она. — Ну-с, миссис Джоуд, теперь мы вам расскажем, какие у нас порядки в лагере.
Мать сказала:
— А это моя дочка, Роза Сарона.
— Здравствуйте, — сказали они.
— Пойдемте и вы с нами.
В голосе Джесси звучало достоинство и благодушие. Ее речь была затвержена давным-давно.
— Вы не думайте, миссис Джоуд, что мы суем нос в ваши дела. У нас в лагере есть много мест, которыми пользуются все. И мы установили кое-какие правила. Сейчас мы зайдем в санитарный корпус. Здесь все бывают, и все обязаны поддерживать в нем чистоту. — Они подошли к той части корпуса, где помещались лохани для стирки — числом двадцать. Восемь были заняты; женщины стирали в них белье и складывали отжатые вещи кучками на чистом цементном полу. — Вы можете прийти сюда когда угодно, — сказала Джесси. — Единственное, что от вас требуется, это прибрать за собой.
Женщины, занятые стиркой, с любопытством смотрели на них. Джесси громко сказала:
— Это миссис Джоуд и Роза. Они будут жить у нас.
Все хором поздоровались, а мать чуть присела и кивнула им со словами:
— Очень рада познакомиться, для меня это большая честь.
Джесси проследовала во главе комиссии в уборную и душевую.
— Я здесь уже была, — сказала мать. — И даже помылась под душем.
— Для этого души и сделаны, — сказала Джесси. — Тут те же правила: надо за собой прибрать. Каждую неделю назначается новое дежурство, дежурные раз в день все моют. Может, и вы будете дежурить. Надо приносить свое мыло.
— Придется купить, — сказала мать. — У нас все вышло.
В голосе Джесси послышались благоговейные нотки.
— А этим вы пользовались? — спросила она, показывая на уборные.
— Да, мэм. Сегодня утром.
Джесси вздохнула:
— Что ж, хорошо.
— На прошлой неделе… — начала Элла Саммерс.
Джесси строго осадила ее:
— Миссис Саммерс, об этом расскажу я.
Элла сдалась:
— Хорошо, хорошо.
Джесси продолжала:
— На прошлой неделе рассказывали вы, как председательница. А теперь я попрошу вас помолчать.
— Хорошо, расскажите сами про эту женщину, — согласилась Элла.
— Собственно говоря, — начала Джесси, — наша комиссия не должна сплетничать, но я не буду называть имен. На прошлой неделе сюда зашла одна женщина из только что приехавших; комиссия с ней еще не успела побеседовать. Приходит она сюда, кладет брюки мужа в унитаз и говорит: «Что-то уж очень низко да тесно. В три погибели гнешься. Неужели не могли сделать повыше?»
Члены комиссии высокомерно улыбнулись.
Элла опять перебила ее:
— Говорит: «Сюда сразу много не войдет». — И Элла, не сморгнув, выдержала строгий взгляд Джесси.
Джесси сказала:
— Из-за туалетной бумаги у нас постоянные неприятности. Выносить ее отсюда не разрешается — такое правило. — Она громко прищелкнула языком. — Деньги на туалетную бумагу мы собираем со всего лагеря. — Пауза… Потом: — Корпус номер четыре изводит бумаги больше всех. Наверно, ее кто-то ворует. Об этом говорили на общем собрании: «В женской уборной корпуса номер четыре изводят слишком много бумаги». Так и было сказано, при всех!
Мать слушала их, затаив дыхание:
— Воруют? А зачем?
— Такие неприятности бывали и раньше, — продолжала Джесси. — Последний раз выяснилось, что три девочки вырезают из нее бумажных кукол. Девочек поймали. Но куда бумага девается теперь — неизвестно. Не успеешь повесить рулон, и уж ничего нет. Об этом говорилось на собрании. Одна женщина предложила провести звонок, чтобы он каждый раз звонил, когда рулон поворачивается. Тогда можно было бы уследить, кто сколько изводит. — Она покачала головой. — Просто не знаю, как быть. Я об этом всю неделю думаю. В корпусе номер четыре кто-то ворует бумагу.
Позади раздался жалобный голос:
— Миссис Буллит. — Члены комиссии обернулись. — Миссис Буллит, я слышала, что вы говорили. — В дверях стояла женщина, вся красная, потная. — Миссис Буллит, на собрании у меня духу не хватило признаться. Ну просто духу не хватило. Засмеяли бы.
— О чем это вы? — Джесси двинулась на нее.
— Может… может, это наша вина… Только мы не воруем, миссис Буллит.
Джесси подходила все ближе и ближе, и на лице у кающейся грешницы пот выступил теперь крупными каплями.
— Что я могу поделать, миссис Буллит?
— Объясните толком, в чем дело, — сказала Джесси. — Наш корпус опозорился из-за туалетной бумаги.
— Это тянется уже целую неделю, миссис Буллит. Но что поделаешь? Вы знаете, ведь у меня пять дочерей.
— Что же они делают с бумагой? — грозно спросила Джесси.
— Пользуются ею, больше ничего. Честное слово, больше ничего.
— Как же они смеют? Четырех-пяти бумажек вполне достаточно. Что с ними такое?
Женщина промямлила:
— Понос. У всех пятерых. Мы сидим без денег. Они наелись незрелого винограда. Каждые десять минут бегают. — И, стараясь хоть как-то выгородить своих девочек, добавила: — Они не воруют бумагу.
Джесси вздохнула:
— Почему же вы раньше этого не сказали? Надо было сказать. Из-за вас корпус номер четыре опозорился. А поносом каждый может заболеть.
Жалобный голос тянул свое:
— Едят незрелый виноград, никак их не остановишь. Понос день ото дня все сильнее и сильнее.
Элла Саммерс выпалила:
— Медицинский пункт. Ей надо обратиться на медицинский пункт!
— Элла Саммерс! — сказала Джесси. — Я вам последний раз говорю: не вы председательница. — Она снова повернулась к багровой от смущения женщине. — У вас нет денег, миссис Джойс?
Та потупилась:
— Да. Но мы скоро найдем работу.
— Напрасно вы так смутились, — сказала Джесси. — Это не преступление. Вы сбегайте в лавку и возьмите себе провизии. Лагерь имеет там кредит на двадцать долларов. Можете забрать на пять. А когда получите работу, вернете свой долг Главной комиссии. Вам это было известно, миссис Джойс, — строго добавила она. — Как же вы довели до того, что ваши дочки голодают?
— Мы благотворительностью никогда не пользовались, — ответила миссис Джойс.
— Вы прекрасно знаете, что это не благотворительность, — вознегодовала Джесси. — У нас не первый раз заходит такой разговор. В нашем лагере благотворительности нет. Мы этого не потерпим. Значит, сбегайте в лавку и возьмите там провизии, а талон принесите мне.
Миссис Джойс робко спросила:
— А если мы не сможем выплатить? У нас давно нет работы.
— Сможете выплатить — хорошо. А нет — это ни нас, ни вас пусть не беспокоит. Один человек уехал из лагеря, а через два месяца прислал деньги. Вы не имеете права допускать, чтобы ваши девочки голодали у нас в лагере.
Миссис Джойс испуганно смотрела на нее.
— Слушаю, мэм, — сказала она.
— Возьмите в лавке сыру для своих девочек, — командовала Джесси. — Это хорошо от поноса.
— Слушаю, мэм. — И миссис Джойс шмыгнула за дверь.
Разгневанная Джесси повернулась к своим товаркам.
— Она не имеет права так зазнаваться. Она живет среди своих.
Энни Литлфилд сказала:
— Она здесь недавно. Может, просто не знала. Может, ей раньше приходилось пользоваться благотворительностью. И, пожалуйста, не затыкайте мне рот, Джесси. Я имею право говорить. — Она стала вполоборота к матери. — Если человек испытал на себе, что такое благотворительность, это останется на нем на всю жизнь, как клеймо. Нашу помощь не назовешь благотворительностью, и все-таки ее никогда не забудешь. Джесси, наверно, не пришлось испытать это на себе?
— Нет, — ответила Джесси.
— А мне пришлось, — продолжала Энни. — Той зимой. Мы голодали, и я, и мой муж, и дети. А тогда заладили дожди. Нам кто-то посоветовал обратиться в Армию спасения. — Глаза у нее вспыхнули. — Мы голодали… а они заставили нас пресмыкаться из-за их обеда. Они принизили нас. Они… Ненавижу их! Может, и миссис Джойс приходилось когда-нибудь пользоваться благотворительностью. Может, она не знала, что у нас здесь по-другому. В нашем лагере, миссис Джоуд, мы никому не позволим жить благодеяниями. В нашем лагере не разрешается помогать самим. Если у тебя есть лишнее, отдай в комиссию, она распределит, кому нужно. А благотворительности мы не допустим… — Голос у Энни срывался от злобы. — Ненавижу их, — повторила она. — Я никогда не видала своего мужа приниженным, а эти… эти из Армии спасения унизили его.
Джесси кивнула.
— Я это знаю, — тихо сказала она. — Я знаю, мне говорили. Ну, давайте поведем миссис Джоуд дальше.
Мать сказала:
— Хорошо здесь.