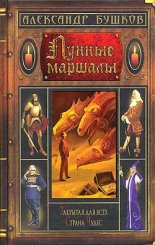Войти в образ Олди Генри

И был доволен пятнистый обладатель голодного кошачьего взгляда, шагнувший за черту света и легко растворившийся во мраке.
Сон
– …Нет, не согласен, – сказал я.
Мом в задумчивости прошелся по комнате, потирая запястье левой руки, украшенное хитрой татуировкой в виде четырехкольчатой змеи.
– Странный вы человек, – сказал Мом. – Непоследовательный. Я как-то читал в одной вашей священной книге… Или не вашей?! Впрочем, неважно – в ней тот, кто сидит наверху, среди прочих обещаний своим последователям сказал и такое: «Я обещаю вам сады». Здорово сказано – просто сады, сады без каких бы то ни было отличительных признаков… Будит фантазию. И дает каждому возможность в меру его способностей представить идеал. Но как ни крути, сады есть только сады – а сколько людей за эту перспективу резало собратьям глотки в течение столетий?!
А я предлагаю вам мир! Мир – сцену, мир – театр, и единственное, что от вас потребуется, – играть! Играть для сердца, для основ, играть – во имя… Хотите сыграть жизнь?
– Нет, не хочу, – сказал я. – Можно я пойду?..
Мом резко остановился у моего кресла.
– У вас дар, – он пристально смотрел на меня, но не в глаза, а рядом и немного мимо; и это раздражало. – Вы великий актер. И именно поэтому вы – никудышный актер. Вас нельзя выпускать на подмостки – ваш Гамлет в упоении перебьет больше народу, чем задумано Шекспиром, а ваш Отелло всерьез придушит актрису, играющую Дездемону. Вам нельзя играть понарошку, вы слишком растворяетесь в образе – а не играть вы уже не можете. Я предлагаю вам мир, где вы можете играть. Всегда. Везде. Вечно.
– Почему – вечно? – спросил я. – А если я, не дай бог, помру? Или вы собираетесь из Вечного Жида сделать, так сказать, Вечного Актера…
– Почти, – ответил Мом. – Если вы умрете, играя – надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю? – играя всерьез, в полную душу, то я гарантирую вам выход на аплодисменты и участие в следующем акте. Но только при условии игры с полной отдачей! Как это у классиков…
Он зажмурился и произнес нараспев:
- Сколько нужно отваги,
- Чтоб играть на века,
- Как играют овраги,
- Как играет река,
- Как играют алмазы,
- Как играет вино,
- Как играть без отказа
- Иногда суждено…
Потом подумал и добавил, пожимая плечами:
– Именно так. В противном случае – сами понимаете…
До чего же образованный попался мне собеседник!.. Я смотрел на его сухощавую фигуру, тонущую в пятнистой длинной хламиде, и мне казалось, что тело Мома – словно одежда с чужого плеча. Будто богатыря, гиганта в спешке засунули в другой футляр, и мощь прошлого прорывается в несвойственных настоящему мелочах… Мне припомнилось начало нашего затянувшегося разговора.
– Как мне называть вас? – спросил я его тогда.
Он сощурился.
– Мом, – ответил Мом. – Да… пусть будет Мом. Вы не возражаете?
Я не возражал. Мом так Мом. Что-то ассоциировалось у меня с этим именем, божок какой-то мелкий… греческий? Или финикийский? Не помню. И эпитет, связанный с ним, – «Правдивый ложью»… Хитро закручено. Умели предки, однако, в смысле парадоксов…
– …Зачем это нужно вам? – прервал я подзатянувшуюся паузу.
– Я – зритель. – Мом как-то очень неприятно осклабился, и «я – зритель» прозвучало как «мы – зритель». – Я – великий зритель. И хочу великого театра. Только не надо сразу подбирать аналоги – я не господь и тем более не сатана. И не сумасшедший. Хотя… Вы не задумывались, до чего же театр походит на религиозные обряды! Собственно, он из них возник… Греческие празднества, христианские мистерии, ранние пьесы. Но… Вера – и театр. Но там вера в то, что добрый дядя с бородой – это всемогущий боженька, а злой дядя с рогами – проклятый нечистик; тут же – вера в то, что толстая кокотка – Офелия, а пыльный задник – эльсинорский дворец. Одинаково неважно, что служитель веры может быть бабником, а служитель муз – пьяницей! Верую, ибо это нелепо. Мы хотим поверить – и верим.
Вы мне нужны для веры. В предлагаемом вам мире ее не возникло. Условия не те. Я вообще полагаю, что религия и театр уникальны и встречаются крайне редко. В большом масштабе, разумеется. Для веры нужно сверхъестественное, а там… Там слишком много людей умели сверхъестественным управлять. Изначально.
– Как – управлять? – несколько оторопело спросил я.
– Как? – Мом снова помолчал. – Да так же, как и везде… Словами. Понимаете, Слово имело там первоначальную власть… Но обладающего такими способностями, мастера, – его можно уважать, можно купить, можно бояться или использовать, но в него нельзя верить. Слишком уж он привычен, повседневен. И когда ночь заглядывает в круг твоего костра – ты не боишься, потому что придет он, придет мастер, и все будет хорошо. Не боишься – значит, не веришь. Ни во что. У людей, знаете ли, вообще странная психология… А уберите возможность управлять Стихиями и сверхъестественным – убейте, к примеру, всех мастеров или измените законы их мира – и вы получите гниющую среду, созревшую для веры. Или для театра.
– Заманчиво, – сказал я. – Целый мир, созревший для неба, и я – за режиссерским столиком. Диктующий статистам первое распределение ролей. Вдвойне заманчиво для актера, умеющего входить в чужое состояние, чужой образ; и получающего бесконечность образов и состояний. Заманчиво, но увы… Не хочу.
Лицо Мома внезапно надвинулось на меня, распахивая занавес безволосых век, – и мне показалось, что мой собеседник – театральный бинокль, сквозь который меня рассматривает безликая и бесформенная масса; глядит кипящая, нетерпеливо ждущая Бездна, заполнившая собой темный зрительный зал и подмигивающая мне голодными смеющимися глазами из всех лож, ярусов и кресел галерки.
– Экий вы, однако… Как же вы не понимаете, что вашего мнения как раз никто и не спрашивает. И потом…
«И будет это долгое – Потом, в котором я успею позабыть, что выпало мне – быть или не быть? Героем – или попросту шутом?..»
Глава 5
А. Галич
- Когда же прошел этот длинный
- День страхов, надежд и скорбей,
- Мой бог, сотворенный из глины,
- Сказал мне:
- «Иди и убей!»
Одинокий всадник несся по одуревшей от полуденного зноя степи, белый растрепанный хвост мотался из стороны в сторону, привязанный под наконечником его короткого копья с красным древком; лицо под высоким чешуйчатым шлемом окаменело в безразличии ко всему, кроме бьющейся под копытами земли; и бурая пыль степей, зловещая пыль дурного вестника, некоторое время еще гналась за распластанным конем и, не догнав, покорно опускалась, оседала, растворялась в потревоженном покое…
Кан-ипа проводил гонца долгим обеспокоенным взглядом и повернулся к Безмозглому, который понуро сидел у разложенной походной скатерти, лениво покусывая перышко дикого лука.
– Беда, Безмо, – угрюмо сказал табунщик. – Большая беда. Дальние племена, урпы и рукхи, выпустили пастись Белую кобылу. Дед Хурчи говорил, что в последний раз кобылу пускали перед Четвертой волной на Город. Хорошие травы выросли потом на жирной крови убитых, и степные стервятники добрым словом поминают всеобщий хурал, где вождем степей был избран неистовый сын старейшины Кошоя. Он бросил степь на Город – и разбился о стены. Большая беда идет, и большая честь для гордых.
Безмозглый не шелохнулся.
– При чем здесь кобыла? – спросил он.
Кан-ипа с недавних пор пребывал в убеждении, что его великий друг Безмо знает все на свете, а если иногда и задает вопросы, то лишь для того, чтобы под глупую болтовню табунщика обдумать нечто свое, недоступное прочим.
Наивная эта уверенность, равно как и переходящая все границы преданность, – все это доставляло Безмозглому массу хлопот, но он ничего не мог поделать с упрямым Кан-ипой, неотлучно следовавшим за Безмозглым и настороженно косившимся по сторонам.
– Кобыла нужна обязательно. – Кан-ипа тяжело опустился у скатерти и выдвинул саблю из простых черных ножен, ногтем пробуя заточку. – Она идет пастись, а за ней идут лучшие воины урпов и рукх. Те племена, по чьим землям пройдет кобыла, должны дать сопровождающим дюжину жеребцов – тогда жеребцы выкупа смогут покрыть Белую кобылу, и воины пойдут дальше. Если племя откажется – воины Белой кобылы сожгут стойбище. А давшие выкуп должны будут после этого являться на хурал по слову владельцев кобылы и выходить в набег по их приказу.
– Племя пуран даст жеребцов? – очень тихо спросил Безмозглый.
Кан-ипа со стуком вогнал саблю в завибрировавшие ножны.
– Наши жеребцы кроют своих кобыл! – крикнул он, и степь, вслушиваясь, притихла. – Безмо, ты поедешь дальше сам. Тебя ждет шаман Бездны, а мои руки сейчас нужны моему племени.
Кан-ипа помолчал и хмуро добавил:
– Но мне очень не хочется отпускать тебя одного, друг Безмо… Разное говорят люди об этом человеке…
– Знаешь, Кан, – задумчиво протянул Безмозглый, – не поеду я к вашему шаману. Что мне шаман и что я шаману? И главное, что вам шаманы – вам всем?..
Кан-ипа всей пятерней зарылся в густые спутанные волосы.
– Нам? – удивленно спросил он. – Нам – ничего. Совсем ничего. Разве что раньше… Дед Хурчи говорил, что до Четвертой волны песнопения шаманов диктовали Стихиям. Но некоторые из избранных помощников продали свои имена Бездне, а она взамен дала им силу Черного ветра. Только зря… У стен Города столкнулись Черный ветер и витражи городских словоделов – и что-то нарушилось в мире. Впустую теперь сотрясают воздух шаманы – с тех пор Стихии вольны и не слушаются их слов. Дед Хурчи видел бой, он сам застрелил престарелого колдуна, и тогда же секира немого словодела из беглых рабов рукх сделала Хурчи Кангаа хромым до конца его дней.
– Распалась связь времен, – отстраненно пробормотал Безмозглый. – Век вывихнул сустав, и в этот год был прислан я исправить вывих тот… Чума на оба ваших дома…
Кан-ипа уважительно посмотрел на него и добавил:
– Так говорит дед Хурчи, но я не понимаю и трети сказанного… а спросить никогда не решался.
– А надо было, – подытожил Безмозглый. – Глядишь, мы и поняли бы, кому нужны бессильные шаманы сейчас… Приходят ниоткуда, уходят никуда, советы дают… или все слушают их просто по вековой привычке?!
– Не нужны… – Непривычная мысль завладела возбужденным табунщиком, заполнив его целиком, без остатка. – Не нужны шаманы – не нужны! Совсем! Я понимаю тебя, великий друг мой Безмо! Я понимаю тебя… Шаманы – не нужны! Нужен другой… Совсем – другой… И мы тогда сожжем проклятый Город! Я понимаю тебя, очень-очень хорошо понимаю…
Крайне не понравилось насупившемуся Безмо новое понимание табунщика, и он было пожалел об опрометчиво сказанных словах, – но внимание его отвлекла новая пыль на горизонте, и он вгляделся в бурую завесу.
– Наши скачут, – буркнул Кан-ипа, мельком покосившись через плечо. – Догоняют. Видно, есть что сказать…
– Да, – ответил Безмозглый. – Видно, есть. Смотри, Кан, как пыль стоит… как занавес.
– Занавес? – непонимающе переспросил Кан-ипа. – Какой такой занавес?
Безмозглый попытался выжать из себя все ассоциации, связанные с родным и одновременно незнакомым словом – «занавес».
– Понимаешь, Кан… Занавес – это когда еще ничего нет. Еще до начала. Темно, тихо, и гулкое эхо в зале. А потом… потом «занавес!» – и вспыхивает свет, появляются люди, звучит слово… Ты понимаешь?
Кан-ипа молча кивнул.
Подскакавшие всадники остановились. Передний из них спешился и быстро пошел к ожидающим – уверенной, хозяйской походкой старейшины Гэсэра.
– Немедленно возвращайтесь! – В голосе старейшины пробились властные нотки. – Седлайте коней! Сейчас любой палец на счету… Табунщик – сразу иди к воинам, а Безмозглого – к мальчишкам, вьюки грузить. И – живо!
Кан-ипа медленно двинулся на Гэсэра, и Безмозглый подумал, что не может быть таким пружинисто-страшным его веселый друг, табунщик Кан-ипа.
– Сын гадюки! – прошипел табунщик, белея и подергивая щекой. – Безмо не прикоснется к твоим вонючим вьюкам! Не дело говорящего о неизвестном…
Казалось, Гэсэра хватит удар.
– Падаль! – перебил он наглеца, слишком возомнившего о себе. – Заткни свою протухшую пасть и вели этому болтливому дураку…
Кан-ипа шагнул вперед и сунул кривой нож в жирный живот старейшины Гэсэра Дангаа. Потом подождал, пока гримаса изумления остынет на мертвом лице. Потом повернулся к остальным.
– Ну?!
Никто не тронулся с места. Лишь старый Хурчи, увязавшийся с посыльными, слез с лошади, проковылял к убитому и, разжав ему скрюченные пальцы, вынул посох старейшины.
– Безмо открыл нам ночь! – провозгласил дед Хурчи. – Раньше мы думали, что в конце земного пути есть ничто, но теперь мы верим, что там есть Нечто. Кан-ипа нашел говорящего в степи. Кан-ипа убил старейшину племени Гэсэра во имя невысказанного. Пусть убийца спросит Безмо: что было в начале? Мы знаем, что будет в конце, – мы хотим знать, что было в самом начале! До людей, до света и до слова!
Кан-ипа выпрямился.
– Я знаю, что было в начале! – сказал он, и присутствующие затаили дыхание. – До света, до людей и до слова! Безмо открыл мне истину!..
Пауза. Привычная, знакомая пауза.
– В начале был Занавес!..
Старый Хурчи склонил голову и протянул табунщику посох старейшины. Остальные спешились и опустились на колени.
Безмозглый вздрогнул. Ему вдруг отчетливо примерещилась деревянная рассохшаяся от времени лестница, уходящая в пыльное серое небо из тюля и мешковины. Лестница раскачивалась, скрипела и грозила обвалиться. Он, скорчившись, сидел на первой ступеньке и глядел на мертвую голову, которую держал в руках. Ему было холодно и неуютно.
Он не хотел.
Глава 6
А. Галич
- И шел я дорогою праха,
- Мне в платье впивался репей,
- И бог,
- Сотворенный из страха,
- Кричал мне: «Иди и убей!»
…Дымный сумрак пещеры медленно сгустился перед ним, и он испуганно отшатнулся от неясных любопытных теней, прячущихся за каменными кулисами, словно приглашающих его решиться шагнуть – шагнуть в Бездну…
– Входи, Безмо, входи, – раздался у него над ухом сухой, чуть насмешливый голос шамана; и реальность земного человеческого голоса заставила тьму пещеры попятиться и отступить. Безмо резко обернулся. Старик стоял у него за спиной в том самом потрепанном одеянии, в котором Безмо видел его в стойбище шесть лун назад, и гостеприимно указывал на боковой проход, которого – Безмозглый готов был поклясться в этом – только что не было.
…Потом они долго сидели на гладких и неожиданно теплых мраморных скамьях, сидели друг против друга, молча глядя на пляшущие языки огня и отбрасываемые ими причудливые тени; пили густое вино из больших глиняных кружек – Безмо все хотелось сказать «старое доброе вино», но он не знал, бывает ли вино молодым и злым, и стыдился своего незнания – шаман изредка поглядывал на гостя, гость – на хозяина, и тишина сидела рядом с ними, пила вино, смотрела, молчала…
Безмозглый не выдержал первым.
– Ну?.. – спросил он и осекся. – Ну и зачем ты меня звал?..
Ехидство плохо скрывало неловкость и смущение; он почувствовал это и разозлился.
– Зачем? – Шаман подставил кружку под самое горлышко огромного жбана и осторожно стал наклонять его. – Поговорить.
– Тогда чего ты ждешь?
– Ничего. Мы уже давно разговариваем. И лишь теперь замолчали… Ну что ж, помолчим, – сказал шаман с едва заметной усмешкой. – Кто ты?
– Я? – искренне удивился Безмо. – Я – Безмо… Дурак, – добавил он, немного подумав.
– Дурак, – неожиданно согласился шаман.
– Зачем тогда спрашиваешь, если знаешь?
– А я не знал. Теперь – знаю.
Они снова замолчали. Безмо сунул нос в кружку и принялся размышлять. Может быть, он чего-то и не улавливал, но ему определенно начинало казаться, что один из них все-таки дурак. Если это он, Безмо, то шаману совершенно незачем с ним разговаривать. Но он позвал… Позвал – зная. Тогда получается, что в пещере сейчас сидят…
– Да, два дурака, – кивнул шаман. – Два глупца, которые случайно ввязались в одно и то же дело, и оба – по собственной глупости.
– Я не понимаю тебя, – честно признался Безмо.
– И не надо, – весело улыбнулся шаман.
Кстати, при ближайшем рассмотрении он выглядел не таким уж старым – особенно когда улыбался. Пожилым – наверняка, но еще крепким и отнюдь не дряхлым; и было совершенно непонятно, сколько же ему лет на самом деле…
– Ты умеешь быть другим, – сказал шаман. – Не собой. Ты умеешь проникать в чужую суть, вплотную подходя к границе безумия, но никогда не переступая запретную черту до конца.
Безмо согласно кивнул. Он чувствовал эту свою странность – но не мог бы выразить ее словами так, как сделал это шаман.
– Но тебе еще неведомы твои пределы. Со временем ты, вероятно, сможешь стать не только человеком…
– А кем? – заинтересовался Безмозглый. – Зверем?
– И зверем тоже. Но не это главное. Когда человек приходит в мир и идет по предназначенному пути – человек меняется. Но меняется и мир. Ты пришел, и ты меняешься слишком быстро. Следовательно… Так уже было – и не только здесь, – загадочно ответил шаман.
«Впрочем, шаманам и положено говорить загадками», – подумал Безмозглый и, немного осмелев, решился наконец задать вопрос, мучивший его все время.
– Скажи, шаман, а где твоя Бездна? Ты покажешь мне ее, правда, шаман?
– Вряд ли… И не зови меня шаманом. Мое имя – Сарт. Зови меня так – но только когда мы наедине. А Бездна… Она везде: вокруг нас, внутри нас и особенно – внутри тебя. Я полагаю, ты уже видел ее.
– Нет, – покачал головой Безмо. – Во всяком случае, не помню.
– Да, ты не помнишь, – согласился шаман.
Странная мысль пришла Безмо на ум, и тщетно затряс он головой, пытаясь отогнать гостью. Шаман Бездны ни разу не упомянул о Бездне, пока его не спросили, да и то – весьма неохотно. И вопросы он задавал какие-то неправильные, и нету у него того, что положено шаманам, – амулетов, птичьих перьев, снадобий… вино хлещет… Это был какой-то неправильный шаман по имени Сарт. Каким должен быть правильный шаман, Безмо точно не знал – но не таким! Это он почему-то знал твердо…
– А что ты здесь делаешь? – спросил он, сам удивившись сказанному.
– То же, что и ты, – спокойно ответил шаман Сарт. – Играю свою роль. Ты еще помнишь, что это означает?
Сарт впился вспыхнувшими глазами в лицо Безмо; тот попытался отвести взгляд, но не сумел, и в надвинувшемся тумане вырос деревянный холм, и пять узких желтых солнц, и глядящий на него мрак под куполом расписанного неба, чужие, дикие слова, чужая одежда, и мрак вдруг обрушился обвалом хлопающих звуков; он кланялся, кланялся, в изнеможении, моля о тишине, покое…
– Нет, не помню, – пробормотал Безмо, с трудом выныривая на поверхность обыденного. – Когда-нибудь вспомню. Потом.
– Ну что ж, тогда мы и вернемся к нашей беседе. Иди. Мне было приятно говорить с тобой.
…Уже у выхода Безмо обернулся.
– И все-таки, Сарт, что связывает тебя с Бездной? – бросил он в глубь пещеры последний вопрос.
– Я ее боюсь, – коротко и серьезно ответил шаман.
– Слушайте меня, люди племени пуран! Слушайте меня, взявшего посох старейшины Гэсэра по праву ножа! Слушайте!..
Легко сказать – слушайте… Ну, вот они стоят и слушают: суровые мужчины степей и испуганные женщины, беспощадные стрелки и дряхлые старцы, внуки и прадеды, сыновья и дочери – стоят, слушают… Кан-ипа никогда не умел говорить и страстно завидовал тем, кто умел. Шаманам. Безмо… Табунщик уже поведал племени о смерти толстоязыкого Гэсэра Дангаа, о надвигающемся потопе воинов Белой кобылы, о тайне Занавеса – они слушали не перебивая, но Кан-ипа не видел в их глазах того блеска, того огня, который отсвечивал костром Безмо. Где ты сейчас, великий друг мой? Где…