Записка самоубийцы Шарапов Валерий
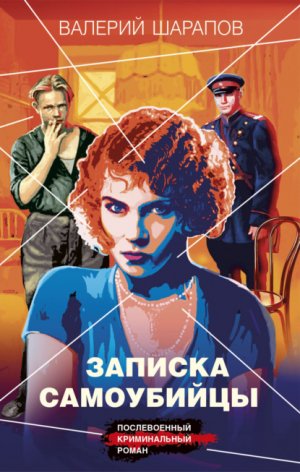
Уже по-новому, с куда большим уважением смотрел Яшка на нового знакомого. И чего он на него окрысился, правильный пацанчик. Ну глупая одежонка, умная морда и говор сильно южный – бывает. Так пытается же изъясняться по-нормальному, как все, но бывалое ухо все равно чувствует.
Новый знакомый, чуть заметно подморгнув, подался вперед и принялся излагать тихо, так, чтобы лишь Анчутке было слышно:
– Вижу, что вы человек хорошо грамотный, и по цырликам видно, что умеете вы не только в буру. Потому имею кое-что предложить.
– Чего ж мне, молодой человек? – без труда подделываясь под манеру собеседника, спросил Яшка.
– Я, понимаете ли вы меня, я тут свежий, знакомств не имею.
– Чего ж принесло, если не к кому? – поинтересовался Анчутка, ощущая отходняк и головную боль.
– По-первому, хочу денег, как и все. К тому же есть надежда дяденьку найти.
– Москва велика, народу много.
– Так потому я зараз до вас, – пояснил парень, – поскольку прямо сейчас нужен надежный человек.
– Всем нужен. Что за дело?
Пижон, зыркнув по сторонам – никто внимания на них не обращал, – еще больше подался вперед:
– На бульваре неподалеку скупка, одна гадюка торгует. Руль[4], помимо официоза скупает краденое, заявлять в случае шухера не станет. Тряпье, меха, прочий халоймыс[5] – мягкое, нетяжелое, и слить можно на раз.
– Стоп, – прервал Анчутка, хотя и не без сожаления, поскольку и само предложение, и парень ему нравились. – За наколку – гран мерси, только с незнакомым на дело не пойду. Уж извини, неизвестный шкет.
Тот ничуть не огорчился, улыбнулся, блеснув фиксой:
– Ничего, наше счастье впереди, мы таки сделаем дело, – и, запанибрата потрепав Анчутку по плечу, отсел.
«Ага, держи карман», – подумал Яшка, докушивая «амброзию» из рюмки.
Вот это напиток, никогда такого и не нюхивал. Кайфовал в одиночестве недолго, подвалила к новому фартовому маруха, у которой вывеска, умело подмалеванная, была красивее, чем у прочих, промурлыкала, оттопыривая пухлые намазанные губы:
– Что же, кукленок, ты такой гру-у-устный? Чем угостишь?
«Щаз, делиться не стану», – решил Анчутка и стряхнул ее с колен:
– Водой из-под крана. Отвали.
Маруха, фыркнув, уползла и наверняка кому-то нажаловалась.
Поэтому, решив сходить до ветру, тут же, в подворотне, Яшка был взят в клешни пятеркой незнакомых помойных котов. Совершенно ясно, эта же кошка и настропалила.
Анчутка заметался, как крыса, загнанная в угол. В былое время он все подворотни у Трех вокзалов знал лучше собственной физиономии. Однако теперь, со всеми стройками-восстановлениями, все перепутали, в том числе и знакомые сараи (или пить все-таки надо было меньше?).
Зажатый в каком-то грязном дворе, Анчутка с тоской, пока еще обоими глазами, глянул в лиловое небо, которое недосягаемо маячило над головой. Да, с кой-какими зубами придется проститься, ведь ни прохода, ни двери, ни пожарной лестницы.
Но не в эту ночь суждено ему было расстаться с кусалками. Помощь пришла нежданно.
– Ша. Зачем так кипятиться, господа? Все ж не писюки, освобождайтесь от своей манеры обижать младшеньких.
Давешний седой пижон стоял, держа руки в карманах невообразимого лапсердака. По складкам этого уродливого пиджака угадывалось, что там у него не только пальцы, но и явно нечто с дулом, стреляющее.
Догадка эта пришла в головы и котам: они мигом вздернули руки горе, приговаривая различные успокаивающие слова с тем, чтобы товарищ не нервничал. Не поворачиваясь к ним спиной, нежданный спаситель кивнул Яшке:
– Валяйте, незнакомый шкет, – и подставил коленку.
Умный Анчутка тотчас влез, испоганив грязными башмаками чужие отглаженные брючки, оттолкнулся, подтянулся, взобрался на крышу. Укрепившись, лег на живот и потянул руки:
– Сигайте сюда!
К спасителю подбирались теперь уже семеро смелых, а он лишь отмахнулся:
– Держитесь за трубы, амбал, как бы ветрой не сдуло! – И пообещал: – Свидимся.
Яшка, отбросив сомнения, помчался, грохоча жестью, с одной крыши на другую, скатился вниз по пожарной лестнице. Долго еще зайцем петлял по подворотням, по проходным дворам, скорее от кипящего восторга, нежели сбивая со следа – некого было.
О том, что там в итоге с парнем, впрягшимся за него, незнакомого, он не думал. Зато от бодрых упражнений хмель вышел, и интереса к тому, идет ли домой какая электричка, не было никакого.
«Стало быть, не судьба на работу».
Яшка забрался в расселенный дом на бульваре, расстелил пиджак прямо на лунном прямоугольнике посреди чьей-то бывшей гостиной и с радостью растянулся кверху носом. Внутри каждая жилка звенела: «Весело-то как! Славно!»
3
Город спал. Сквозь прорехи в крыше подмигивало звездами чернильное московское небо, было слышно, как шуршат шинами запоздалые машины и цокают копытами лошади: пободрее и четче – извозчиков, пошаркивая – золотарей. Голову постепенно отпускало, Анчутка задремал.
Однако довольно скоро выяснилось, что бивачные навыки он уратил. И немудрено: сперва сытые ночевки в теплых казармах на Максим Максимычевых хлебах, потом койка в общежитии – сытая жизнь расслабляет. К тому же все еще прохладно: подложишь пиджак под голову – копыта коченеют, натянешь на ноги – голова стынет так, что хоть вопи. Он несколько раз просыпался и засыпал, а потом его и вовсе разбудили милицейские свистки.
Насторожившись, Анчутка выглянул из окна, но ничего особенного не увидел: мелькали вереницей тени среди деревьев бульвара, протопали сапоги, все и стихло.
– Неймется же полуночникам, – пожаловался пустоте Анчутка, укладываясь обратно. Хорошо бы еще часик прикорнуть, а то уж светает. Там можно на первую электричку успеть.
Однако как только он снова задремал, услышал шаги – кому-то приспичило влезть в его обиталище. Яшка, перекатившись на живот, ужом отполз прочь с лунного освещенного прямоугольника, спрятался в смежную комнату за угол.
Снизу поднимались, как определил Анчутка чутким ухом, двое, люди молодые, судя по тому, как бодро цокали по ступеням башмаки.
«И этот грохочет, как кованый ишак. Или на подковы мода новая в Москве?»
В недавнюю спальню Яшки вошли двое, вывалили на пол что-то мягкое. Анчутку тянуло вылезти посмотреть, но луна как раз светила в его сторону, сейчас боязно. Пусть за тучку зайдет, что ли, а пока можно и подслушать.
Один говорил гнусаво, тонким голосом, акая по-московски и по-блатному растягивая слова:
– Цукер, ты себе что хочешь, а на такое не пойду больше. Шабаш.
Второй спросил:
– Ще так, Гриша? – и по этим трем словам бывалый Анчутка тотчас поставил диагноз: Одесса.
Потом пришелец снова подал голос:
– Хезнул? – И Яшка удивился еще больше.
«Это что ж, седой в вышиванке? Каблучки цокают, балачка во рту и слово это «хезнул». А ну…»
Осторожно глянул за угол. Тот, что повыше и тощий, с тоненькими ручками, важно излагал:
– С такими налетами выступай у себя на хуторе, здесь город, цацкаться не станут – сей секунд за рога и в стойло. За что рисковали? Выхлопа – тьфу, а риск большой.
Второй – или в самом деле пижон, или его родной брательник, в таком же лапсердаке, широкоплечий, с седой «шапкой» на голове – насмешливо спросил:
– Ще же не хватает?
– Не хватает мне еще неприятностей. Ты как с луны свалился, ей-богу. Ну хапанули мы с тобой, а куда теперь-то с этим? Сам смотри.
– А когда соглашался, ще молчал?
– Молчал я потому, что думал: у тебя все на мази. Есть кому скинуть, на ту же перешивку-перелицовку. Нет, Цукер, давай так: тырбаним что есть – и расходимся, как это у вас говорят?
– Как в море корабли?
– Во-во.
Замолчали. Луна уже светила прямо в комнату, и Яшке, хотя страсть как хотелось разглядеть, что за люди – в лицо таких знать всегда полезно, – вновь схоронился за угол. Навострив уши, слушал.
– Глупо, – страдал недовольный Гриша, шурша скарбом. – Зачем нахапали мягкое? Капусту, рыжье надо было брать! Да откуда им взяться-то, скупка оказалась барахловая…
– Я говорил.
– Говорил, говорил! Как мы с этим потащимся по улицам – первый попавшийся мент зажучит. И ты еще, в таком-то прикиде среди ночи. Чего разрядился-то? Разве дурачок будет по Москве таким франтиком, в вышиванке гулять. Бестолочь ты, Цукер.
– И что? – спросил второй, переходя на чистый столичный, ловко подстраиваясь под чужую манеру говорить. – Гардероб как гардероб, у меня на смену лишь рябчик да клеша, что ли, лучше? В чем суть, Гриша? Гешефт неплох, и для пробы некисло вскрыть банчок в пяти минутах от Кремля пешим шагом, зато без шума и пыли.
– Да ты не просто бестолковый, ты дурачок, – заметил первый. – Разве так теперь на Москве дела делаются?
– Как же на Москве дела делаются?
– А так! Если заранее все до тонкостей обдумал, прикинул, то делай играючи – и на дно, гуляй, душа.
– Ишь ты, какая пропорция.
– Смейся. Думаешь, менты добродушно утрутся? Они, почитай, уже чес устроили, и драть когти надо прямо сейчас, а то попадем, как кур в ощип. Эх ты, одно слово – хохлота.
Тот, кого звали Цукером, серьезно попросил:
– Ты меня со смиттем этим не мешай. Обидишь.
– Да все вы на одно лицо. Так, ты себе что берешь?
– На что мне этот халоймыс, Гриша? Забирай все насовсем.
«Во, и это слово – «халоймыс». И как это – забирай все?!»
Яшка удивился, Гриша, надо полагать, тоже. Смысл предложения был вкусный, но вот сказано как-то совершенно нехорошо.
– С чего такие щедрости? – подозрительно спросил Гриша.
– Да просто все, – ласково, как ребенку, принялся объяснять называемый Цукером. – Ищут менты налетчика на скупку, который утащил мягкую рухлядь, – они таки получат его.
– Считать-то умеешь? Обоих, коли так.
– Как знаешь, профессор, – Цукер взял шутовски под козырек, тощий Гриша снисходительно произнес:
– Вольно. Держи краба, – и протянул руку.
Цукер, вместо того чтобы пожать, резко подался вперед, блеснуло в руке у него лезвие длинное, острое – Гриша прянул назад, на лестницу, но в темноте не рассчитал. Некоторое время был виден его силуэт – он стоял, маша руками с растопыренными пальцами, точно дирижируя, – а потом спиной вперед покатился вниз, грохоча, как мешок с костями. Раздался и тотчас затих хрип.
Яшка затаил дыхание, но все-таки как на аркане его тянуло выглянуть, и он снова не сдержался, высунулся.
Седой Цукер стоял, глядя туда, куда укатился Гриша, и преспокойно курил, шикарно выпуская колечки очередями. Одно, второе, третье, четвертое – они так и стлались, натыкались на лунный луч, как на струну, и рассеивались.
Под окнами вновь послышались беготня и свистки, но он и ухом не повел. Не торопясь сошел вниз по лестнице и, судя по шороху, задержался для того, чтобы обшарить карманы упавшего. Процокали, удаляясь, подбитые башмаки. Наконец все стихло.
Анчутка осторожно выбрался из своего убежища. Шмотки, раскиданные по лунному прямоугольнику – какие-то тряпки, мех, в общем, рухлядь, – душно, противно пахли разными духами, а еще больше нафталином. Снизу заворочались, чуть слышно застонали – и снова все стихло. Внизу лестницы, у самого входа, лежал на спине тщедушный человечек. Скрюченные худые пальцы задраны к потолку, как ножки дохлого воробья. Яшка бочком крался вниз по лестнице вдоль стенки.
Конечно, Анчутка хотел бы подойти, посмотреть: вдруг еще жив? Только тогда придется бежать, звать на помощь, объясняться с ментами – все это правильно, но не готов был Яшка к такому подвигу, кишка тонка и коленки слабы. Потому-то так трусливо, по большой опасливой дуге он обходил скорченное тело.
Тут, громыхая, пролетела по мостовой машина, проникнув в подъезд, заметался свет фар по стенам, потолку – и глаз Яшкин уколол блеск ободка на тощем пальчике, сведенном судорогой. Нагнувшись, разглядел на мизинце колечко, тоненькое, невзрачное, утыканное мелкими стекляшками.
«Симпатичная гайка. Что пропадать?»
Стащил кольцо с пальца мертвого – оно легко поддалось, – спрятал в карман и припустился к вокзалу.
4
Тут тоже не обошлось без приключений. Началось с того, что с устатку, от беспокойной ночи и беготни безумно захотелось жрать. И хотя в кармане шуршало, тратить деньги не было никакого желания. Анчутка, расположившись на кресле в зале ожидания, принялся, тоскуя, цыкать зубом. Он пытался договориться с собственным животом, мол, ничего, до первой электрички всего-то полчаса, за это время голод притупится, а там до столовки и обеда рукой подать.
Вообще в обычное время все эти стандартные деликатесы – щи, каша, макароны, котлета да компот из сухофруктов – никаких протестов не вызывали, жратва она и есть жратва. Однако то ли спросонья, то ли с усталости, а скорее всего, с того, что хлебнул притонного воздушка, приняв его за ветер свободы, при одной мысли о столовке затошнило.
Тут еще начали выгружать свежий хлеб для ресторанов. Он издевательски красовался на поддонах, дразнил румяными пухлыми боками. Невыносимо одуряющий аромат пьянил не хуже молодого молдавского. Яшка, мало что от голода соображая, тем не менее привычно приметил момент, когда грузчики в белых фартуках уже ушли, а тот, что принимал груз, очкастый в белом же фартуке, отлучился. Анчутка, делая беззаботный вид, фланировал зигзагами, сокращая расстояние между собой и хлебом, но в тот самый момент, когда его жадные ручонки уже нависли над буханкой, той самой, крайней справа, – внезапно появился приемщик. И уставился на него поверх окуляров, как в прицел.
Анчутка сориентировался моментально: заложив руки за спину, он склонился над поддоном, состроив на своей физиономии выражение крайней озабоченности.
– Вам что, юноша? – спросил приемщик.
И Яшка, которому голод и ночь, полная похождений, придали нахальства, неторопливо разогнулся, глянул прямо в глаза, отозвался солидно:
– Наблюдаю, уважаемый товарищ.
Он ожидал чего угодно: ругани, отповеди, но не того, что приемщик улыбнется самым приветливым образом:
– А-а-а! Вы, надо полагать, комсомольский патруль?
«Чего?!» – Яшка чуть было не распахнул рот, но вовремя спохватился, побоявшись запалиться со своим перегаром. И потому просто смотрел честным, многозначительным, долгим взглядом, мол, два умных человека и без слов понимают что к чему.
– Вот молодец, – искренне похвалил странный дядька, поправляя очки. – А ведь ловко придумано, верно! Острое юное око способно разглядеть то, что взрослые в упор не видят. Откуда вы, коллега? Из нашего техникума или железнодорожного?
– Из железнодорожного, – сказал Анчутка, вспомнив однажды виденную вывеску.
– Ни свет ни заря на ногах, чтобы на занятия успеть.
Яшка кивнул, сохраняя вид значительный и важный.
– На износ работаете, – одобрил приемщик. – Не желает молодое поколение отстаиваться в стороне, и это правильно!
Он собственными руками снял с поддона ту самую булку, облюбованную Яшкой.
– Полагаю, не будет большой беды, если один батончик выделим представителю молодежного контроля. Вот, на овес боевым коням, чтобы веселей работалось.
И впихнул ее прямо Анчутке в руки.
– Взятка? – строго спросил тот, продолжая ломать комедию.
Ни черта не понятно, но ведь работает.
– Это хлеб, – чуть улыбаясь, пояснил приемщик, – и все, отказы не принимаются. Поспешите, а то на учебу опоздаете. Первакову привет.
– Простите, а кто это? – перепросил, не подумав, Яшка.
Однако фарт его все не оставлял. Приемщик заговорщицки подмигнул:
– Орел парень, так держать. Я тебя того, качнул, а ты не поддался. Удачи, заскакивайте снова как-нибудь.
Он протянул руку, Яшка пожал.
Развалившись на скамье в вагоне, Анчутка немедленно впился зубами в благоухающую горбушку.
«Провалиться мне на месте, если я понял, о чем говорил мужик. Но вот он, хлебушек, свежий, вкусный, на ять… Отсюда вывод: тот, кто на правильной, на комсомольской то есть платформе, тот всегда с хлебушком, а то и маслицем, намазанным с другой стороны. И, кстати, раз я все равно мимо работы пролетаю, не сгонять ли… к школе?»
То ли потому, что за последние двадцать четыре часа он так легко и неоднократно выходил сухим из воды, то ли потому, что так уж хлебушек был хорош, но Яшке почему-то казалось, что теперь фартанет и в другом, куда более важном для него деле.
О происшествии в расселенном доме, о том, что он, по сути, свидетель убийства и мародер, Анчутка не думал вообще. Вспоминал с ухмылкой борзого хуторянина, который его, фартового, к тому же москвича, желал вляпать в темное дело. «Ищи дураков за тебя впрягаться, пес седой».
Так и прикорнул, радуясь своей ловкости и изворотливости, и благополучно продрых до самой станции. Если бы раздутые щеки не препятствовали бы обзору, то Яшка мог бы увидеть, что из той же электрички на платформу, по дневному времени малолюдную, сошла узнаваемая фигура в лапсердаке, с чемоданчиком в руке. Пижон из шалмана, увидев Анчутку, отвернулся было, но тотчас понял, что до него этому надутому типу дела нет. И все-таки для верности обождав, пока Яшка уйдет, он пошел по насыпи обратно, в сторону центра, потом свернул, приблизился к казарме, с сомнением оглядел ее разрушенное крыло.
– Тебе кого, мил человек?
Седой парень обернулся, узнал мужчину и широко улыбнулся:
– Доброго утречка в хату, дяденька! Как вы сами себя имеете?
Путевой обходчик Иван Мироныч Машкин, сдвинув фуражку на лоб, почесал затылок.
– Приехал, значит.
– Жестокая судьба согнала с насиженных мест. Таки кроме вас в столице у меня никого надежного.
– Не ко времени ты.
– А я всегда не вовремя, – радостно подтвердил парень, – но вы же меня не прогоните?
– Почему, допустим?
– Полезный я, дяденька. И знаю про вас ой как много, зачем вам этих неприятностей? Я и сейчас до вас не с пустыми руками, вот, – он похлопал чемодан по кожаному боку.
– Это что у тебя?
– Пропитание, – пояснил парень. – Я на шее сидеть не привык.
– Ну-ну…
– Вот на первое время аренда за крышу, – и он протянул обходчику холщовый мешочек, связанный бечевкой. – Рыжье и касса.
– Что ж ты светишь?! – возмутился Мироныч, пряча мешок в карман и озираясь. – Тут тебе не хутор!
Гость огляделся: никого, пустые пути в одну сторону, в другую, только шумят деревья и галдят птицы.
– Ни души ж кругом.
– Это кажется так. Тут отовсюду уши торчат, из-под каждого куста. Ладно, пошли в хату, тебя переодеть надо первым делом. И побрить, нечего тебе своей шевелюрой светить. Вот эту дрянь под носом долой.
– Э-эх, не отрастить мне такие, как у вас. И что на столице за моды? На мне фасон как фасон, а чуть кто меня видит – тотчас заводят за переодеть. Невоспитанность.
– Так, и это вот изо рта выплюнь, – приказал Машкин, – говори по-людски. Или разучился?
– По нашей губернии сойдет, но извольте, – гость демонстративно харкнул. – А теперь пойдемте, а то я спать хочу.
5
– Пожарский, я буду тебе чрезвычайно признательна, если твои безрукие шабашники перестанут играть в футбол ящиками с хрупким.
Колька чуть не сплюнул в помещении. Ничего себе! Мало того, что сорвали с нужного дела и бросили на разгрузку, еще и ехидничают! Заведующая столовой, Царица Тамара, нынче не в духе. Или, может, приболела. Она и так прозрачная и синюшная, а тут вообще как будто два профиля при ни одном фасе, даже не верится, что это хозяйка образцово-показательного предприятия питания.
Был бы это кто другой, надо было бы немедленно огрызнуться, да Тамаре простительно. Непросто ей. Анька, ныне Мохова, родила и съехала к мужу, сначала в другой район, теперь аж в Киев, и уж год как не навещает.
Тенгизовна снова одна, а ей это нож острый. Надо ей о ком-то заботиться. Она и на работе дневала и ночевала, в лепешку разбивалась для чужих «деток» – многие из которых были уже с усами, и табаком от них несло, похлеще чем от взрослых. Тяжело она переживает одиночество и ненужность. Сотни дел себе находила, десятки головных болей наживала на ровном месте, лишь бы наполнить жизнь свою смыслом.
Теперь вот такого во всех отношениях золотого человека охаивают. Прошел слушок: по итогам последней ревизии крысы-счетоводы нарыли то ли недовес, то ли пересортицу. Так что простительно Тамаре было психануть на предмет того, что криворукие «шабашники» – ребята-первокурсники – умудрились уронить пару ящиков с макаронами. Колька заметил: нечего беспокоиться, пожрут и ломаные, не фон-бароны. Но это Тамара, у нее все должно быть безупречно, как в лучших ресторанах, каждый сантиметр макаронины на надлежащем месте.
В общем, Колька лишь смиренно пообещал, что сейчас всем сделает втык, так что безобразие более не повторится. Тамара удалилась.
– Что за муха ее цапнула? – спросил удивленно один из ребят.
– Не твое это дело, – внушительно заметил Колька. – Твое дело не играть в футбол макаронами. Давайте поживее.
Он глянул на часы: надо поторопиться. Во-первых, сегодня Оля велела – кровь из носу – стеллажи колченогие подправить. Во-вторых, пора бы передать Светке давно обещанные ее подопечным, близнецам Сашке и Алешке, выточенные пугачи-пистолеты. Оружие получилось хоть на выставку. Колька для пущего эффекта натер их маслом для блеска и уложил их в ящик, в стружку. Если бы аттестаты с отличием выдавали за такие поделки! На высокоточном «хаузере» работалось с удовольствием и увлечением, вышли пистолетики просто на ять, сразу и не отличишь от настоящих револьверов. Даже барабаны Колька сделал так, чтобы они с шикарным треском вращались.
За ударную разгрузку мастер Семен Ильич пообещал отпустить пораньше, освободить от уборки производственных помещений и прочей лишней работы. Он себе новую моду взял: воспитывать не криками и замечаниями, а исключительно исподтишка, укреплением характера. Знает старик, что ненавидит Пожарский уборки – стало быть, метлу в руки – и марш-марш. Таким нехитрым образом Колька отучился открыто кукситься и тем более психовать, получая какое-нибудь кислое задание. (Хотя уборки так и не полюбил.)
Управились они с разгрузкой харчей довольно скоро, Колька, распустив бригаду, прихватил ящик с пистолетиками и помчал к школе.
Уроки уже закончились, во дворе было весело и многолюдно: и мальки, и рыбешка покрупнее домой не торопились. Кто в футбол гонял, кто прыгал, играя в классики, кто – в горелки, кто резался в настоящий морской бой в огромной луже, которая как раз кстати разлилась чуть поодаль, в тенечке.
Все тут. Разве нескольких, самых прилично одетых, бабули разобрали. Остальные никуда пока не собирались. Вот как измажутся все, наносятся – тогда и пора будет домой, наспех переодеться, пожевать того-другого – и снова во двор. Уроки? Какие уроки, когда весна во дворе.
Ольга вот на что взрослый солидный человек, и та вместо того, чтобы приличным образом заниматься библиотекой, расселась, болтая ногами, на оградке в компании Светки Приходько. С некоторых пор мелкая с особым рвением ударилась в добрые дела, вот и теперь присматривает за всеми разом: Сашкой и Алешкой, которых по окончании уроков надо было отвести к ним домой, к соседке тете Гале, а также заодно за Колькиной сестрицей Наташкой, которую, к слову, мама ждет не дождется домой, а она тут никак не нагуляется.
«Сейчас всех расшугаю», – решил Пожарский и тотчас, обо всем забыв, плюхнулся рядом с девчонками.
– Хочешь? – предложила Светка, протягивая надкусанный бублик.
– Не-а, сыт, – отказался он. – Как дела?
Вздохнув кротко, как старушка, которой белый свет не мил, Светка ответила:
– Живому все хорошо.
– Ну-ну, – Колька отдал ящичек. – На вот, передай поросенкам. Оля, чего там, пошли? А то хорошо бы вечером успеть в киношку.
– Точно, точно, – заторопилась Оля на словах, на деле лишь лениво пошире открыла глаза. – Побежали, побежали…
Подождав для приличия несколько мгновений, Колька потянул лентяйку за руку:
– Вставай давай, времени нет на солнце мурлыкать.
Несмотря на солидные и бесспорно ценные замечания, оказавшись наедине в библиотеке, Колька не сразу принялся за дело, а потратил некоторое время на более приятные вещи.
– Отстань, пластырь! – отбивалась Оля без особого возмущения. – Лишь бы языком болтать, только что на улице подгонял: быстрей-быстрей. А сам что?
– Права ты, Ольга, мудрейший из всех человек, – важно согласился Колька, занимая наконец руки инструментом. – Хорошенького понемножку. Показывай, где у нас с тобой не в порядке.
Оля быстро раздавала ценные указания – укрепить, выправить по высоте, устранить перекос и прочее в том же духе. Парень кивал, про себя отмечая, что очень правильно он себе выбрал именно эту девчонку: шутка ли, найти среди этих, в юбках, тех, что в состоянии внятно разъяснить и что надо, и чем недовольны. Взять самых достойных из них, ту же Царицу Тамару. Никогда толком не скажет, чем недовольна. Чуть что не по ней, надувается, как мышь на крупу, и будь любезен сам догадываться, в чем провинился.
Оля же, очертив фронт работ, с чувством выполненного долга устроилась за столом и принялась якобы трудиться, черкая пером в каталожных карточках. И попутно щебетала, позабыв о том, что только что попрекала любимого человека болтливостью.
После того как дошли-таки старшие до загса, Ольгу стало не узнать. Светится вся, радость в глазах не угасает. При всем уважении к Акимову Колька не мог себе представить, чтобы кто-то мог так радоваться его постоянному присутствию. Особенно если разберет его желание поумничать, нотации почитать.
Ну а Олю все устраивало, даже то, что пришлось переселиться из изолированной комнаты в проходную. Ничего страшного – к тому же Палыч немедленно построил из подручного материала отличную ширму. Он вообще оказался изрядным домашним мастером: чуть какую неполадку откопает – и тотчас чинить берется.
– Стосковался по нормальной работе, – сострил Колька, в свою очередь укрепляя расшалившуюся полку.
– А что ехидничать? Человек наконец-то обрел свой дом… Не поверишь! Впопыхах позабыла как-то полы помыть, ну, думаю, не оберешься попреков. Бегу домой – глядь, Палыч намывает, да еще на коленках, аж до блеска. Я ему: Сергей Палыч, вы что, отдайте тряпку! А он такой: иди, Олюня, отдыхай, умаялась.
– От сладости аж скулы сводит, – признался Колька и тут же вспомнил, что позабыл сообщить:
– Слушай, новость какая! Батя… его сейчас командующим лабораторией сделали, я говорил уж?
– И не раз.
– Так вот он сообщил, что после получения аттестата меня устроят на работу.
Перо в руке Оли, которое уже давно бездействовало, так и дернулось и замерло.
– Ты… переедешь? – с деланым равнодушием спросила девушка.
– Обязательно, – таким же манером подтвердил он, – и ты со мной.
– Нахал, – покраснев, заявила Оля.
– Ничуть не бывало, – возразил Колька, отложил инструмент и извлек что-то из кармана. – Дай-ка сюда руку.
И прежде чем она успела сообразить, ловко надел на тонкий пальчик Оли колечко – простенькое, гладкое, несомненно, обручальное.
– Да ты что! Откуда?
– Сам выточил. С первой зарплаты куплю тебе настоящее. Смотри-ка, тебе в самый раз.
– Погоди.
– Никаких «погоди». Я до пенсии ждать не намерен.
И уверенно, хозяином, обняв Олю, собрался уже влепить от всей души практически супружеский поцелуй, но насторожился: со двора, с приоткрытого окна, ему послышались сдавленное сопение и возня – звуки тихой, но хорошей потасовки.
Деликатно отстранив девушку, Колька распахнул окно и привычно выпрыгнул на улицу.
6
Там и впрямь было весело. Дрались трое, поднимая такую пыль, что ног и рук, казалось, было не менее сотни. Колька, оценив ситуацию на благоразумном расстоянии, определил, что перед ним хорошо известные ему персоны, причем двое почти беззвучно, но старательно месят третьего.
«Не, это не дело», – решил Николай. И позабыв, что он без пяти минут специалист и семейный человек, с наслаждением ввязался в драку.
Что конкретно натворил Анчутка, он не знал, но точно знал другое: двое на одного – нечестно. Открытие второго фронта было как нельзя кстати, Яшка не справлялся, был, очевидно, не в форме. На пару же с Колькой они одолели двух взбесившихся мелких бурундуков – Саньку Приходько и Витьку Маслова.
– Проси пощады! – потребовал Яшка, уложив Саньку мордой в пыль и заламывая руку.
Колька, осторожно, но крепко удерживая Витьку, для острастки встряхивал его, пытаясь привести в чувство:
– Будет, будет кипятиться.






