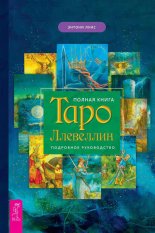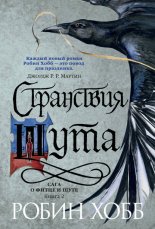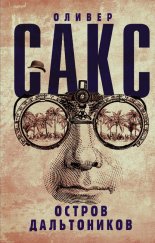Жизнь на грешной земле (сборник) Иванов Анатолий

– Что-о? – заморгала она мокрыми ресницами.
– А только не убережет его никакой милиционер, так и передай своему Денисию, – ожесточась, пообещал Демидов.
Вскоре Макшеевы быстренько собрались, продали дом и уехали, держа свой маршрут в тайне. Демидов усмехнулся, пошел к железнодорожному кассиру, тоже рыбаку, с которым познакомился в тайге. Тот, ничего не подозревая, сообщил, что взяли Макшеевы билеты, сдали багаж до одной маленькой станции на берегу Байкала. Демидов уволился с работы, попрощался с плачущей Настасьей, поехал следом. Там поступил опять в лесники, со стороны наблюдал, как устраивались на новом месте Макшеевы. Купили они хороший дом. Мария, как и прежде, стала работать в магазине.
И однажды ранним утром, подождав, пока Макшеев наладит и закинет в озеро удочку, вышел к нему на берег, не снимая с плеча ружья.
– На новоселье, что ль, решил рыбки подловить? Пригласишь и меня, может?
Словно током стегануло Макшеева, вскочил он, сделал шаг назад по обломку скалы, чуть не упал в холодную байкальскую воду. Лицо его было зеленым, под цвет этой воды.
– Не бойся, сейчас не трону, людно тут. Эвон рыбаки на баркасах плывут на промысел.
И повернулся, ушел в тайгу, которая начиналась прямо от берега, оставив ошеломленного, забывшего про свои удочки Дениса на обломке скалы.
…И еще раза два-три меняли местожительство Макшеевы, надеясь скрыться от Демидова. Но он был теперь начеку, следил за каждым их действием, заранее знал их конечный путь. И объявлялся там, едва они как-то устраивались.
Доведенный до отчаяния, Макшеев как-то, пьяный, выкрикнул в лицо Демидову:
– Отравлю, отравлю я тебя, паразита! Заставлю Марию в водку… или в продукт какой мышьяку подсыпать! Сдохнешь, как крыса…
На это Демидов расхохотался прямо ему в лицо и сказал:
– Вот бы хорошо-то! И рук бы я об тебя не замарал, и в тюрьму с Марькой вместе вы бы до конца жизни угодили. Давай… Мне-то жизнь моя и так ненужная, а ты спробуешь, что оно такое тюрьма. Узнаешь, каково оно мне было, об своем поганом нутре поразмышляешь. Время для этого там хватит тебе…
Иногда Демидов думал: неужели Макшеев не догадывается, что он, Демидов, ничего ему не сделает, пальцем даже не тронет, что все его угрозы – пустые звуки? И отвечал себе: видно, не догадывается, дурак. И пусть…
Думал также иногда: а не жестоко ли он наказывает Макшеева? Ну – сделал тот нечеловеческую подлость. Что ж, бог, как говорится, пущай простит ему. Худо ли, бедно ли, жизнь его, Демидова, как-то теперь идет. Девчушку удочерил вот, растет она, приносит ему много забот да еще больше радостей. Теперь и жениться бы, да где найдешь такую, как Настасья. Пить бросить бы, да разве бросишь…
И обливалось сердце Демидова едкой обидой, опьяняла его эта обида пуще водки: нет уж, пущай, мразь такая, и он до конца чашу свою выпьет!
Но все же, наверное, давным-давно отстал бы Демидов от Макшеева Дениса – отходчив русский человек, какую-какую обиду только не простит, – если бы не убеждался время от времени, что душа Дениса еще подлее становится. Нет, угрозы насчет мышьяка Павел не опасался, потому что понимал – Макшеев на это никогда не решится, подлость его – особого рода…
Как-то Мария, выдавая Демидову очередную партию зелья, сказала:
– Зайди к нам, Павел… Денис просил позвать. Поговорить хочет с тобой по-деловому.
– Как, как?
– По-деловому, сказал он.
– Интересно это, однако. Айда.
Денис встретил его, сидя за столом в рубахе-косоворотке. Руки его лежали на столе, пальцы беспрерывно сплетались и расплетались, глаза виляли из стороны в сторону.
– Интересно даже мне, говори. Ну!
– Выйди, Мария. Дверь припри, – приказал Макшеев. – Значит, вот что, Демидов, давай по-мужски. Мне от тебя терпежу больше нету, и я решился…
– На что?
– Не перебивай… – Он опять повилял глазами, не попадая ими на Демидова. – Ты ж понимаешь – я пойду и заявлю: преследуешь ты меня… Угрозы теперь делаешь всякие за то, что разоблачил тебя тогда как поджигателя. И мне, а не тебе поверят.
– А мне это без внимания, что поверят, – усмехнулся Демидов. – Я свое отсидел, и пока с тобой не поквитался – никто больше меня не посадит, заявляй не заявляй…
– Ты погоди…
– А славу себе создашь у людей… Они, люди-то, не знают твоего черного дела, так узнают.
– Погоди, говорю… – Голос его был торопливый и заискивающий. – Давай, чтоб с выгодой и для тебя и для меня.
Сузив глаза, Демидов пристально глядел некоторое время на Макшеева. Спросил:
– Это – как же?
– Что было меж нами – прости… Покаялся уж я бессчетно раз. Да что ж – не воротишь. Теперь девчушку вот ты взял, растишь…
– Говори прямо, сука! Без обходов.
Макшеев будто не слышал обидного слова.
– Возьми от меня деньги, Павел. Много дам… – Макшеев дышал торопливо и шумно. – Вот, если прямо… Оставь только нас с Марией.
– Так… Сколько же?
– Целую тысячу дам. Дочку тебе растить… Еще больше дам!
– Краденых? Марией наворованных?
– Ты! – Макшеев вскочил, чуть не опрокинув стол. Грудь его ходуном ходила. – Тебе что за забота, какие они?!
Демидов шагнул было к Макшееву, тот откачнулся.
– Дешево, выродок ты человеческий, откупиться хочешь, – раздельно произнес Демидов и ударил ладонью в дверь, выбежал, будто в комнате ему не хватало воздуха.
В сенях он услышал рыданье Марии, примедлил шаг. «Как ты только живешь с ним с таким?» – хотел сказать он, но не сказал. Шаг примедлил, но не остановился.
В другой раз случилось еще более страшное. Было это в причулымской тайге в конце мая или в начале июня – в ту пору уж замолкли соловьи, но кукушки еще продолжали, кажется, кричать тоскливо и безнадежно.
Примерно в полдень, когда лес был пронизан тугими солнечными струями и залит хмельным от млеющих трав жаром, у сторожки Демидова появилась вдруг Мария с плетеной корзинкой в руках.
– Ты? – удивленно спросил Павел.
– Вот… грибов поискать.
– Какие пока грибы?
– Масленки пошли уж, сказывают. Места тут незнакомые мне еще, укажешь, может?
Мария говорила это, поглядывая на возившуюся со щенком приемную дочь Павла Надежду, и лицо ее то бралось тяжелой краской, то бледнело, покрывалось серыми, неприятными пятнами.
Одета она была не по-грибному легко и опрятно, в новую, голубого шелка кофточку с дорогим кружевным воротником, в сильно расклешенную, не мятую еще юбку. Вырез у кофточки был глубокий, оттуда буграми выпирали, как тесто из квашни, рыхлые белые груди, умело прикрытые концами прозрачного шарфика, накинутого на плечи.
– Ты как невеста, – сдержанно усмехнулся Демидов, запирая в себе ярость.
– Что ж… я пришла, – проговорила она, не глядя на него. – Веди… на грибное место.
– Что ж… пойдем, – в тон ей ответил Демидов. – Ружье сейчас возьму вот.
Догадка, зачем явилась Мария, мелькнула у него сразу же, едва он увидел ее, подходящую к сторожке. Мелькнула, сваривая все внутри: «Неужели и на этакое она… они, Макшеевы, способны?!» Теперь, после ее слов, всякие сомнения на этот счет исчезли…
Полтора года назад приехали сюда, в причулымье, Макшеевы. Следом, как обычно, явился и Демидов.
– Я тебе давал деньги большие? Давал? – закричал обессиленный вконец от такого неотступного преследования Макшеев, встретив Демидова в поселке.
– Давал, давал, – согласился Павел.
– Что ж тебе еще-то надо? Скажи, сволочь ты такая, что? Какую плату заплатить, чтоб отстал? Дом мы тут купили крестовый, просторный – возьми со всем, что в нем есть. Получай его в придачу к тем деньгам, что обещал, и живи…
Демидов принял дозу спиртного, ставшую давным-давно привычной для него, был добродушен, в хорошем настроении. Бессильная ярость Макшеева веселила его.
– А что ж, надо прикинуть. Значит, те деньги да дом… – проговорил он задумчиво.
– Ну? Бери, бери!
– Н-нет, мало. Еще должок с Марии остается.
– Какой? – осипшим голосом спросил Макшеев.
– Ишь ты! С чьей кровати ты увел-то ее?
– Н-ну?
– Пущай и она расплатится со мной, – жестко сказал Демидов и пошел прочь, оставив Макшеева столбом стоять посреди пустой улицы.
Демидов сказал и забыл, сказал просто так, чтобы еще больше позлить врага своего. Что ему дом, деньги и все прочие блага мира! Простил бы он своего обидчика и так, если б мог. Да не может…
А Денис Макшеев, видно, принял его слова за чистую монету, и вот – решились они, Макшеевы, вот явилась к нему Мария, не понимая, не догадываясь, что не прощение принесет из тайги своему Денису, а еще большую его, Павла Демидова, ненависть. Вот идет Мария чуть впереди, в общем ладная, пышнотелая женщина, мелькают ее крепкие, в тонких дорогих чулках ноги, не подозревая, что внутри у Павла все немеет и немеет, будто стылью берется, что хочется ему схватить палку, сук какой-нибудь и обломать его об это бесстыжее, раскормленное тело.
Что ж, так оно примерно все и произойдет, решил про себя Демидов. Но перед тем хочется ему еще кое-что спросить у Марии, узнать хочется, до какого предела может быть человеческая низость.
– Нету еще грибов, Мария, – сказал он, останавливаясь на глухой поляне, полыхающей таежными цветами. – Поздно нынче пойдут грибы, и мало их будет. В первый день Масленицы снегу не было, не шел снег, значит, и не грибное нынче лето будет.
Он сел в траву, поставив ружье под дерево. Мария опустилась на корточки, начала рыться в корзинке, вынула и поставила на траву бутылку.
– Раздевайся! – бросил он ей отрывисто.
Она вздрогнула, медленно, с трудом, выпрямилась, руки ее упали вдоль тела.
– Павел… – Лицо ее опять пошло пятнами, вспухло, будто его наели комары. Может… выпьешь сперва?
– Стыдно, что ль, на трезвые глаза? Сымай, сказал, все с себя.
Она еще раз вздрогнула, стащила с головы шарфик.
Демидов сидел, опустив голову, он не видел, но чувствовал, как она с трудом расстегнула и стащила кофточку, сбросила юбку, оставшись в нижней рубашке.
– И это… сымай. Тут никого нету.
И тогда она упала перед ним на колени, заплакала, подвывая:
– Совсем не могу… Пожалей, Павел! Пожалей…
Ему в самом деле стало жалко ее. Возникли вдруг, поднимаясь откуда-то изнутри, злость и презрение к самому себе за то, что он заставил ее раздеваться.
– Вот что скажи, Мария… Объясни. Как это вы договорились до этого? Словами ведь, поди, разговаривали? Днем али ночью это было? Как… как решилась ты?!
– Как, как?! – Полное тело ее все тряслось, волосы рассыпались, щеки, губы расквасились от слез. – Он меня поедом съел: не убудет от тебя, он, может, отстанет тогда от нас…
– А ты?
– Что я?
– В самом деле не противно тебе?
Она замолчала, молчком вытирала слезы.
– Не знаю… Когда-то я любила тебя. Иногда думаю: счастливая ведь я была бы с тобой, кабы не он.
– Что ж не уйдешь от него?
– Не уйдешь… А куда? К кому? Ты разве принял бы меня теперь?
В голосе ее было что-то такое неподдельное, какие-то тоскливые нотки.
Ему еще более стало жаль Марию.
– А вот, допустим, принял бы. Ты видишь – я не женюсь. А почему?
– Павел? – Глаза ее, мокрые, широко раскрытые, сгорали от изумления. – Неужто… Неужто еще ты меня… еще осталось что у тебя ко мне?
– Нет, ничего не осталось, – ответил он. – Все спалила тюрьма, плен потом.
– За плен-то Денис не виноват. И без того на фронт тебя взяли бы, а там могли тебя захватить…
– Ишь ты, хоть где-то, да оправдываешь его? Как все вывела!
Мария испугалась этих слов, сказанных сурово и враждебно, горячими ладонями схватила его руку, но тут же выпустила, чуть отшатнулась, проговорила:
– Я не оправдываю! Я не оправдываю…
– Вот езжу опять же за вами, таскаюсь, как хвост.
– Так это известно – зачем, почему.
– Известно. – Он скривил губы. – Ничего тебе не известно.
Прилетела тяжелая от взятка пчела, повилась вокруг полураздетой Марии, села зачем-то на ее оголенное плечо. Мария даже не заметила этого. Она все так же изумленно, широко раскрытыми глазами смотрела на Павла, открытый лоб ее бороздили временами набегавшие морщины.
– Нет, я не смогла бы с тобой.
– Почему? Противный шибко стал? Не противней вроде твоего Денисия.
– Не в том дело. С лица воду не пить.
– Почему ж тогда?
– Ты ж, я чую, запретил бы мне… работать в торговле.
– А зачем? – усмехнулся он. – Работа для людей нужная.
– Ну – не позволил бы… этого… ничего такого.
– Воровать? – подсказал ей Демидов.
– Фу, какое слово!
– Обыкновенное. Воровка ведь ты.
– Ты?! – Она тяжело и гневно задышала. – Ты так понимаешь жизнь, а я – этак. Жить надо умеючи, как… как…
Она совсем задохнулась, и Демидов опять подсказал ей:
– Как Денисий научил тебя?
– Да, научил! – истерично выкрикнула она. – Он, Денис, не в облаках летает, на грешной земле живет. Он – цепкий, не проворонит, что мимо рта пролетает… Он такой, я это еще тогда почувствовала, когда женихались мы с тобой. Он человек жесткий, да… Рука у него тяжелая, да – мужик! Он на что угодно пойдет, лишь бы место половчее… потеплее под солнышком отвоевать. А ты – что такое? Всю жизнь так в тайге и проживешь. Если бы принял ты меня, говоришь? А жить на что бы стали? На твою лесниковую зарплату? Смех один, а не деньги. По миру пойти – больше собрать можно за день…
Она говорила еще долго, он слушал, покачивая иногда головой, будто соглашался. Потом взял ружье и зачем-то отстегнул от него широкий, тяжелый, залоснившийся от грязи и от пота ремень.
– Ты что? – сразу спросила она, умолкнув на полуслове. Брови ее изогнулись и поползли кверху, обещая вот-вот разломиться.
– Он и на это, значит, пошел, чтоб спокойствие на земле обеспечить себе?
– Да, и на это! – будто даже гордясь, выкрикнула она. – И я, по рассуждению, поняла – а что ему остается, коли никак иначе не избавиться от тебя? Не травить же, в самом деле, мышьяком. Была нужда в тюрьме за тебя гнить. Животина ты противная! Исподнюю-то рубаху скидывать, что ли?
Глаза ее горели теперь каким-то бешенством, неуемной злобой.
– Исподню не надо, – сказал он и, не вставая, вытянул ее ремнем по плечу.
– Пав… Пашка! – воскликнула она, вскакивая.
– Исподню не надо! – Он тоже поднялся, пошел к ней грузно. Она, закрывая голыми руками лицо, отступала. – Исподню не надо, не надо…
Каждое слово будто прибавляло ему ярости, с каждым словом он хлестал ее все сильнее и безжалостнее – по этим оголенным рукам, по плечам, боясь выхлестнуть ей глаза и все-таки стараясь ударить по лицу.
– Не надо… Не надо! Береги глаза-то, дура!
Наконец она то ли поняла, то ли просто запнулась и упала в траву вниз лицом, прикрыв руками растрепанную голову. Демидов, не уставая, все махал и махал ремнем, уже ничего не приговаривая, крепко стиснув зубы. Легкая нижняя рубашка была давно располосована, на белом жирном теле обозначились синие полосы…
Он прекратил ее хлестать, когда она перестала вздрагивать под ударами.
Бросив в траву ремень, взял под мышку ружье.
– Животное-то не я, а ты! Да еще пуще, видно, твой Денисий. Убирайтесь отседова, чтоб духу вашего я не слышал тут… А я тут человека буду в себе обнаруживать, как мне когда-то один умный человек посоветовал.
И, не заботясь о том, что она не понимает его слов, может быть, даже не слышит их, ушел.
Под осень Макшеевы собрались и ухали на Обь, в село Дубровино. Три года прожил в причулымской тайге Демидов, убеждая себя, что он обнаружил в себе человека и, значит, отстал теперь от Макшеевых навсегда. Но убедить не мог и однажды по весне перевелся в Дубровинское лесничество, что на великой и тихой реке Оби.
8
…Давно кончились дожди и всякая слякоть, припорошило снегом и село Дубровино, и тайгу, и лесные дороги. Гринька целыми днями катался на лыжах с приобского откоса, возвращаясь домой румяным от морозца, а Обь все катила мимо мазанки Демидова свои черные тяжелые волны, обтекая заснеженный островок посреди реки. Там, за островком, был глубокий омут, богатое зимнее рыбье лежбище, где по первому льду щедро брались на подергушку килограммовые окуни, громадные лещи, «лапти», как называли их рыбаки. Иногда ловилась даже нельма, редкая теперь в Оби рыба.
Наконец могучая река обессилела окончательно, волны стали ниже и ровнее, густо потекло «сало», образовались широкие забереги. Только по стрежню, где течение было на глаз невидимым, но, знал Демидов, тугим и могучим, тянулась полоса чистой воды. У Дубровина стрежень проходил довольно далеко от берега, заворачивал за островок.
Чистая полоса воды день ото дня становилась все уже. По утрам, а иногда и под вечер эта незамерзшая полоса густо дымилась – мороз выжимал из реки последнее тепло, накопленное за лето.
– Ишь мороз-морозило, добрая сила… Молодой, а старательный, – сказал однажды Демидов, глядя на реку.
Гринька привык к неожиданным мыслям отца об окружающих вещах, о природных явлениях, только не всегда понимал их.
– Что хорошего в морозе-то? – возразил он. – Холодно ведь. Кабы лето все время стояло – это лучше.
– Ну! А вот на лыжах ты кататься любишь… Это как? Без мороза-то бы, без снега? А?
– На лыжах – это хорошо. Только не обязательно, чтобы мороз был сильный.
– Землю-то тоже надо ему укладывать спать. А она баловница, земля, не легко угомонить ее, как мне, бывает, тебя. Вот он и ярится, как я. Но разве я со злом покрикиваю на тебя? И он, выходит, тоже по-отцовски ворчит. Разве не добрый он?
– А для чего земле спать ложиться? – спрашивал, сосредоточенный, Гринька.
– А как же, сын! – хмурясь, будто сердясь от Гринькиной непонятливости, говорил Демидов. – Вот ты не поспи-ка ночь, не отдохни – ну-ка? На другой день каков будешь? Бессильный ты будешь… И земля отдыхать должна. Человек ночью отдыхает, а земле для того зима отведена, сын.
– Да что ей отдыхать-то, – не унимался Гринька, – Она – земля и земля, не живая. Не устает.
– Это как – не устает? Не-ет! Она как раз и живая, Гринь, земля-то. Вот ты подумай сам… Утром человек просыпается – румяный, сильный, веселый. И земля весной – тоже. Человек с утра делом начинает заниматься – кто на работу, кто на учебу… И земля тоже за дело с весны принимается – прорастают на ней травы, всходят посевы, деревья листвой одеваться начинают. Все растет, земля соком питает их своим, какой за зиму накопила. А чтоб каждое хлебное зернышко, каждую ягодку, каждый листок вырастить – сколько сил надо?
Гринька думал, что-то представлял, видно, себе, отвечал уже осмысленно:
– Да… Много.
– То-то и вопрос. А окромя того – сколько еще разных дел земля делает? Река вот все лето пароходы на себе носит, ветры – поля и лес новыми семенами засевают, в этих полях и лесах зверье разное произрастает… И много всего другого. А все для кого, а?
– Что – для кого?
– Земля все это делает?
– Ну так… по природе у нее так получается.
– Для человека все это она делает, Гринька! – пошевеливая бровями, говорил Демидов. Говорил таким тоном, будто не только сына, но и себя хотел убедить в этом. – Ты запомни, сын, два закона, может, самых главных в этом мире. Земля любит человека. И второе – человек тоже должен любить ее, землю. Запомнишь?
– Ага.
– Тогда легко жить тебе будет. Тогда-то и не остынет никогда у тебя душа… какую бы подлые люди ни сделали тебе подлость.
Наверное, подумал Демидов, последних слов сыну говорить тоже не стоило, потому что Гринька тут же принялся сыпать вопрос за вопросом:
– А подлых-то много людей на земле?
– Встречаются.
– А земля их тоже любит?
– Нет… Не любит таких.
– А почему они подлыми получаются?
– Не знаю… Такими вырастают вот.
– А тебе встречались такие?
– Попадались, сынок.
– А что ты с ними делал?
Да, что он с ними делал? Не надо, не надо бы произносить ему тех слов. Как вот теперь ответить на простой, на очень простой и бесхитростный вопрос сына?
– Пошли спать, сынок. Айда, айда, поздно уж, – заторопился он. И уж там, в комнате, лежа в постели, чувствуя, что сын ждет все же ответа, проговорил: – Что я с ними делал, Гринька? Ох, Гринька, Гринька!.. Вырастешь, может, и лучше меня поймешь, что с ними надо делать.
– Значит, ты плохо понимаешь?
– Плохо, видно, сынок.
– А я хорошо, – сказал мальчишка, помолчав.
– Ну? – Демидов даже привстал на кровати, поглядел в ту сторону, где лежал сын, будто и в самом деле Гринька мог сообщить ему что-то необыкновенное, какое-то великое откровение, которое он искал всю жизнь и никак до сих пор не мог найти.
– Их надо, папа, один на один с землей оставлять и никогда-никогда не помогать им.
– Что-что? – Демидов сел на постели.
Сквозь мрак он не видел сына, слышал лишь, что и Гринька поднялся с подушки.
– Я ведь тоже думал, пап, что земля, наверное, живая и добрая к тому, кто ее любит, кто понимает и умеет с ней обходиться, – сказал Гринька почему-то со вздохом. – И ягодкой в лесу угостит, и с ручейка напоит…
– Ну?..
– А вот ты помнишь – мы еще в сторожке жили – браконьерщик один лося застрелил?
– Как же… Я сколько за ним гнался тогда, за паразитом, по тайге, пока на берег Оби не выгнал.
– Ну да. Он еще стрелял в тебя.
– Стрелял, сынок. Не попал только, торопился шибко.
– Я знаю, ты рассказывал. А потом, как выскочил на берег, чтобы в лодке уплыть, – ногу в каменной расселине завязил и сломал.
– Так… Так что?
– А то… Добрых людей она любит, а нехороших и сама наказывать умеет. Земля – она с ним и рассчиталась, раз он подлец. И надо было его там и оставить, пущай бы… – сурово проговорил Гринька. – А ты его… на его же лодке в больницу отвез!
– Так… Так, так, – опять трижды произнес Демидов глухо и неодобрительно.
– А чего же с ними, раз они… – воскликнул горячо Гринька. – Он же еще и в тебя стрелял, не только в лося. А ты ведь не животное, а человек.
Что было ответить на это сыну? А отвечать надо, Демидов это чувствовал и понимал.
– Ты вроде, с одной стороны, и прав, Гринька… – Демидов взбил подушку. – А с другой, выходит, и нет. Сердце-то у меня есть али что вместо него? Он, верно, мошенник, тот мужик… Да ведь и человек же какой ни на есть. Подыхать, что ли, его оставлять было?
– А он бы тебя повез в больницу, коли б ранил?
– Да… С одного боку-то, говорю, правильно ты, а с другого…
– С одного, с другого… По справедливости надо действовать, – не сдавался Гринька.
– Справедливость… Это тоже, сынок, штука мудреная, много сторон имеет. Каждый ее по-своему, видно, понимает.
– Чего – по-своему? Есть же самая справедливая справедливость?
– А вот вырастешь – поймешь: есть ли, нету ли… Ты лучше меня поймешь. А теперь спи, спи, допросчик этакий.
Последние слова Демидов произнес сердито. Сердился он на самого себя, понимая, что не объяснил, не смог объяснить сыну чего-то очень важного и нужного для него.
9
Наконец и самый речной стрежень схватило ледяной корочкой, присыпало снежком, и широкая река стала совсем пустынной и унылой. От берега до берега лежало белое, чистое пространство, такое чистое, что казалось, никто никогда не посмеет ступить на него, никто до самой весны не потревожит покоя уснувшей наконец-то реки.
Но Демидов знал, что это не так, что еще день-два, окрепнет еще немного ледок – и истопчут это белое покрывало люди. Первыми появятся на реке рыбаки. В самом Дубровине, кроме мальчишек, рыбаков почти нет, разве вот Денис Макшеев, всегда жадный на это дело, да еще два-три старика. А из города, что лежит километрах в семидесяти вверх по течению, нахлынут тучи их. Все знают эту зимнюю рыбью стоянку за островком. Сегодня среда, а вечером в пятницу и нахлынут под двойной выходной. Мария это тоже знает, вчерась еще завезла с райцентра неисчислимое количество ящиков водки. И чуть не до утра будет гореть в Дубровине «волчье око». Сама-то Мария к полночи ляжет спать, а Денис до утра будет торчать за красноватой занавеской, выдавая каждую бутылку без сдачи.