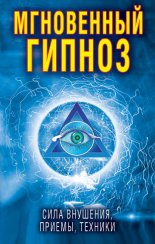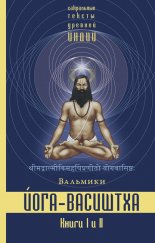Никто не уйдет живым Нэвилл Адам

Еще страннее была маленькая камера видеонаблюдения, установленная высоко на стене над дверью. Не новая, а из тех старых, что выглядели, словно кинокамеры формата «Супер 8», приделанные к опоре.
Стефани постучалась, и прошла почти минута, прежде чем были отперты несколько замков и цепочка выехала из защелки. Дверь приоткрылась на пару дюймов. Показался один глаз, голубая радужка которого была так бледна, что вызывала мысли о морской живности, а с ним нос вроде лошадиного – не как у королевского скакуна, а скорее как у клячи, искривленный тяжким трудом и драками. Нимб кудрявых волос озарялся тусклым светом.
– Чего?
Стефани подняла взгляд к камере.
– Все нормально, я вас не грабить пришла.
Драч не улыбнулся.
– Што за проблема? Вечер на дворе. Говорил же – если чего сделать надо, сообщай до шести.
«С чего начать?» Стефани удержалась и не стала рекомендовать снос.
– О, нет, не в этом дело. Мне просто нужно с вами поговорить. Кое-что случилось. Мне, э… Мне надо съехать.
– А? В смысле? – Это был скорее агрессивный вызов, а не вопрос, и ее решимость пошатнулась, словно неожиданно оказалась на тонком льду. И так же быстро Стефани напряглась, раздраженная его тоном.
Дверь открылась на целый фут. Проем заполнило лицо Драча, а следом за ним одно голое плечо и рука. Рубашки на нем не было, только мягкие спортивные штаны, из-под которых виднелась резинка трусов «Кельвин Кляйн». Одежда выглядела новой; вчера это было не так.
Тело домовладельца было похоже на те, что она видела у наркоманов и женщин с расстройством приема пищи: тонкая кожа, натянутая на шишковатое лицо и жилистые конечности. Стариковская костлявость в нестаром теле. Она всегда гадала, работают люди над таким «видком» или он у них в генах. Казалось, они вступили в пожизненную вражду с телесным жиром, и в итоге внешность их бросалась в глаза, но не привлекала. Волосы, однако, недостатка в питании не испытывали: они были густыми и настолько ухоженными, что она заподозрила в них парик. Пышные кудри вокруг стареющего лица. Мужчина средних лет в одежде подростка.
– Я передумала. Насчет комнаты. Я пришла забрать залог.
Драч сощурился, и в одно мгновение она поняла, что разозлила его. Он быстро расслабил лицо, шмыгнул и переменил тактику. Он собирался убеждать, юлить и уклоняться – на такие выражения лиц Стефани за свою жизнь насмотрелась.
– Я щас не готов это обсуждать. Я к тебе завтра зайду…
Она оборвала этот словесный поток, пока он не разлился рекой:
– Я завтра работаю. Выхожу рано. Это много времени не отнимет.
Вчера, во время разговора, он ей сразу не понравился, но Стефани знала, что большинство хозяев в таких домах – поганцы; это подразумевалось по умолчанию. Дома для сдачи в аренду манят к себе жулье. Однако отчетливо было заметно, что он обожает звук собственного голоса, обожает делиться собственными мнениями и «мыслями», уходя при этом от ответа.
Стефани подозревала, что он еще и рисуется, поскольку она была молодой и привлекательной, а ему хотелось выглядеть умудренным жизнью. Она не планировала задерживаться надолго – максимум на несколько месяцев, пока не найдет работу в Лондоне, – и поэтому решила, что сможет его потерпеть. К тому же, он был некрупным и не источал похоть или враждебность. А еще здесь жили другие девушки, он так сказал, и этот факт ее ободрил. Но насколько внимательно она на самом деле оценивала Драча, если так жаждала отыскать другую комнату не больше чем за сорок фунтов в неделю? Спустя всего одну ночь под крышей дома № 82 по Эджхилл-роуд в нее обвиняюще вгрызалось понимание, что она подавила свои подозрения и инстинкты. В груди Стефани пылала изжога досады.
Направлял вчерашнюю беседу именно он, а она ему позволила. Оба они были неискренне веселы и источали позитивную энергию, потому что он был близок к деньгам, а ей так хотелось комнату. Совсем не редкий обмен шкурными интересами, за который она сейчас презирала себя.
Когда Стефани спрашивала о центральном отоплении, о душе, он, казалось, развеселился, чуть заметно усмехнулся и сказал:
– Все это, все это, – «это» произносилось как «енто», – установлено. Самолично сделал. Этому меня папаня научил. Как мастерить, типа.
Но сегодня вечером темперамент Драча претерпел изменения, и он пытался отогнать ее от своего порога.
– Я занят. Люблю отдохнуть вечером. Штоб никто не тревожил. Я, веришь, очень замкнутый. Сама-то не захотела бы, штоб я стучался к тебе, когда ты устроишься на вечер.
Она подозревала, что, прогоняя ее, он пытался еще и навязать видение себя. Она ненавидела это во взрослых мужчинах, которые знали, что не привлекают ее. И очень ему нравилось слово «вечер». Видимо, Драч думал, что оно придает ему авторитета, культурности, респектабельности. Жулик с претензиями.
Она заговорила медленно, но не смогла избавиться от напряженности в голосе:
– Прошу прощения. Но еще даже не девять. Я работала весь день. И мне нужно разрешить этот вопрос сейчас.
– Тебе нужно разрешить вопрос, – повторил он за ней саркастично, и она заметила проблеск редких зубов между полными губами, которые выглядели до нелепого чувственными среди всех костистых впадин его лица. – Сейчас не время и не место, штоб разрешать такого рода вопросы.
Он напускал на себя интеллектуальность и думал, что был умен. Из-за этого она еще тверже решила выбить и залог, и плату.
– Ну, то есть, на мне и рубашки нет, – добавил он, думая, что это смешно. Он показал еще большую часть своего торса и был им горд. Пусть и худое, тело его было мускулистым, и он хотел, чтобы она заметила его «кубики». – Но вот што я тебе скажу. Я скоро к тебе спущусь.
Ее переполнила злость, которая и на самом деле была такой горячей и красной, как о ней говорят.
– Это не займет много времени. Мы можем…
– Я не буду говорить полуголым на пороге, девочка. Мне это обдумать надо, типа. Ты была очень щаслива снять эту комнату. Прям ключ у меня из руки вырвала. А теперь пришла ко мне на порог требовать деньги, которые, будем друг с другом честны, уже и не твои.
– Я совершила ошибку. Все меняется. Мне нужно… – она замолчала, разозлившись на себя за то, что включила в разговор слово «нужно»; она уже утратила позиции.
В восторге от ее раздражения, Драч посмотрел на нее свысока и улыбнулся. Он издевался над ней. Никакая юбка не выбьет из него денег.
Стефани развернулась, чтобы спуститься по лестнице, но была настолько взвинчена, что на мгновение потеряла равновесие.
– Осторожно, а то никуда не переедешь, если ножку поломаешь.
– Так осветите эту халупу как следует! – слова вырвались у нее изо рта прежде, чем она успела их обдумать.
Улыбка Драча обратилась оскалом. Даже в темноте его лицо выглядело побледневшим.
– А ты дерзкая девочка.
– Это небезопасно, – ее голос утратил силу.
– Критикуешь и жалуешься, и такими словами кидаешься в доме моей мамочки. Ты и пяти минут тут не пробыла. Чего с тобой не так?
– Ничего. Все со мной нормально. Мне тут не нравится. Я ошиблась. Я передумала. Люди могут изменить свое решение.
– Хорошо, што ты не парень. – Его голос стал ласковым, и это было хуже, чем рявканье с брызгами слюны.
Стефани похолодела. Кажется, только тогда она осознала самое очевидное в этой ситуации: она пререкалась с упрямым агрессором, бессовестной полуголой рептилией на лестнице темного дома, в котором никто не хотел с ней знаться.
Он снова улыбнулся – оскал исчез, довольный тем, что его поняли, что он унизил и запугал ее.
– Как я и сказал, я сделаю исключение из правил и спущусь к тебе, когда буду готов.
Стефани отвернулась, чтобы спрятать слезы ярости и злости, застелившие ей глаза. Она спустилась в свою комнату.
Восемь
Она уже не плакала к тому времени, когда Драч постучался к ней в дверь, но знала, что глаза у нее все еще красные. Был уже одиннадцатый час. Он дал ей помариноваться. Никогда раньше она не пускала слезу, чтобы добиться сочувствия от мужчины, который не был ее парнем, и даже в отношениях не делала из этого привычки. Она плакала не ради манипуляции Драчом Макгвайром; расстройство ее было настоящим, но Стефани была не против, чтобы он узнал, как она огорчена, если это поможет ей вернуть залог и часть оплаты. От понимания этого ей сделалось только хуже, но какие у нее были аргументы кроме слез?
Стефани открыла дверь и отошла в сторону.
– Проходите.
Драч вошел из затхлой темноты коридора. Свет выключился за то время, что он ждал, пока она вытрет нос и успокоится.
Неявный и неприятный запах дома перебивался вонью его лосьона после бритья. Стефани молилась, чтобы Драч натерся им не ради нее.
– Ладненько. Надеюсь, настроеньице у тебя получше. Подумал, што дам тебе чуть остынуть. Не люблю, когда мне грубят в собственном доме.
– Простите, что я сорвалась… Я сейчас немного под напряжением.
– Никогда бы не догадался, милая.
Драч не спеша прошел внутрь; в тандем к тренировочным штанам он надел белую спортивную майку. Кроссовки на нем были только что из коробки. Лаймово-зеленые и, судя по виду, дорогие. Со шнурка свисал ценник, как будто он просто примерял их перед покупкой. Он оглядел комнату, довольный тем, что видит:
– Нормальное местечко. По такой цене лучшее не найдешь. Не знаю, чего ты жалуешься.
Ей придется врать.
– Дело не столько в комнате. Я нашла новую работу. В Ковентри. Только сегодня узнала…
– Чего будешь делать?
– Мне надо переехать туда в эти выходные…
– Што за работа-то?
– Колл-центр. Он…
– Не знаю, чего ты с этим заморачиваешься. Говно ведь. Говенная работка. Никаких денег на такой не заработаешь. Я сяду?
Он вытащил стул из-под стола и уставился на ее сумки, полностью собранные и готовые к эвакуации.
– Время не тратила, ага?
– Мне надо быть в Ковентри к вечеру понедельника.
– К понедельнику! А ты не стесняешься набрехать, ага? Требуешь, значит, залог обратно, и жилье тебе не нравится, а все равно хочешь остаться до следующей недели?
– Только сумки оставить. Я в другом месте переночую.
– Делаешь чего хочешь, типа. Я тебе говорил, когда ты осматривалась, предупреждай за месяц. Я на неделю не сдаю. Не такое тут место.
– Я понимаю, но эта работа только возникла, и…
– Удобно как. Ну правда, только заехала, а через день новая работа? Прости, милая, я думаю, ты врешь. Лапшичку вешаешь.
– А какая разница? Я могу выселиться, если захочу. Я не обязана рассказывать вам о причинах. Но я хотела объяснить, почему мне надо съехать, из уважения. Я отдала вам деньги за месяц вперед, так почему следующий понедельник – это проблема? Я оплатила четыре недели в этой комнате. И никакого ущерба не нанесла. Но мне нужен мой залог, чтобы снять новую комнату. Мне не кажется, что это необоснованно. Я не могу выбрасывать такие деньги на ветер. Я не в том положении.
– Не в том, это верно, а то не пришла бы ко мне искать жилье за сорок фунтов в неделю. Это тебе не пятизвездочный отель, куда приходишь и уходишь, потому што отвалила кучу денег, типа. И што значит «мой залог»? Дай-ка я тебе кое-што объясню: когда ты отдала мне этот залог, деньги перестали быть твоими. Они мои, пока месяц не выйдет, типа. Мы договорились, что ты сообщишь за месяц. А я бизнесмен. Я не люблю, когда меня за нос водят. Я занятой человек.
– Пожалуйста. Мне нужно… я хочу получить эту работу.
– А я тут при чем? Это твои дела. А этот дом – мое дело. Платишь деньги – идешь на риск. Всякое случается. Мне ли не знать. Но бизнес есть бизнес, а ты согласилась на условия контракта.
– Нет никакого контракта. Я ничего не подписывала. Вы сказали, что «всем ентим не заморачиваетесь». Если я пойду в полицию…
Преображение волной прошло по его лицу, по телу. Она едва могла осознать изменения в выражении его лица, оттенке кожи, языке тела, и что они значили. Такие же перемены Стефани спровоцировала наверху, когда противилась его словам, только теперь она заговорила о полиции и передразнила его голос.
Кожа на лице Драча побледнела, не до белизны, а до сероватого, как у шпаклевки, цвета. Он уставился мимо нее, вдаль. Встал. Руки его тряслись. Он заходил взад-вперед: шаг туда, шаг обратно. Ужасная тишина, казалось, набухала и уплотнялась вокруг нее.
Словно боксер, Драч Макгвайр вращал головой и напрягал руки. Мышцы на его предплечьях и бицепсах выпирали, как канаты. Глаза превратились в щелки, но проблеск радужки стал ярче на фоне бледной кожи; даже веки утратили цвет, а каштановые волосы стали казаться темнее, почти что шерстью, отчего лицом он сделался еще больше похожим на труп, чем обычно. Это было лицо из тех, что бодаются, и плюют, и кусаются; она помнила такие по скверным пабам в Стоке.
Стефани напряглась и почувствовала острую необходимость успокоить его и выставить из комнаты, которую она сама так отчаянно желала покинуть. Ситуация неожиданно показалась ей тупиковой. Что-то глубоко внутри нее начало бормотать, и, похоже, это была паника. В ее воображении расстояние от кровати, где она сидела, до входа в здание казалось бесконечным.
– Я извиняюсь. Я не хотела все осложнять.
– Ты мной пользуешься. – Его голос был чуть задыхающимся, но звенел от эмоций. – Делаешь из меня манду.
Это слово, казалось, убрало преграду, которая сдерживала его ярость. Он начал кивать головой, и его тугие кудри задрожали – будто одобряли это внезапное преображение, будто раскрылось великое предательство. Из него и раньше пытались сделать одну из этих штук и Стефани полагала, что последствия были ужасными.
Шрамы на его переносице, одной из скул и в большой ямочке на длинном подбородке побелели, акцентируя рвавшиеся наружу слова:
– Я тебе услугу оказал, а ты извернулась и решила сделать из меня манду.
Теперь это слово прозвучало как фамилия создателя туберкулиновой реакции: Манту. Его уколотое самолюбие распухло и чесалось, что напомнило ей о мачехе: упор всегда делался на слово «меня».
Казалось, что ее ноги наполняются теплой водой. Стефани поняла, что когда женщины смеются над такими лицами, их собственные оказываются разбитыми. Ей представились глаза, заплывшие и ослепшие от побоев.
«Это еще откуда взялось?»
От полного осознания своего положения – одинокая девушка против неуравновешенного чужого мужчины – у нее перехватило дыхание. Вот как это случается с женщинами. Надо было позволить ему разглагольствовать, а не доводить до вспышки животной ярости, как мачеху и последнего парня. Слава богу, он не был пьян; это было единственное, что могло ее спасти.
– Ничего ты обо мне не знаешь. Ни обо мне, ни о моем прошлом. О моей семье. А если б знала, не было бы вот этого. – Он изобразил в воздухе костлявыми пальцами шлепающий губами рот:
– А? А? А?
Он едва мог говорить от злости:
– Вот ты и затихла.
Его замечание заставило Стефани подумать, что он часто сталкивался с людьми, которые были с ним не согласны, и заставлял их затихнуть. И просто обожал им на это указывать, добавляя к страху унижение.
Потребность заговорить завибрировала у нее в горле, отдаваясь дрожью в челюсти. Глаза словно застлало пеленой.
– Прекратите. Прекратите это! Мне не важно… Я просто хочу съехать… – последние слова, казалось, выходили тяжелыми сгустками. Она прижала к носу скомканный в кулаке платок в последней попытке сохранить достоинство. Дом, казалось, вознамерился его уничтожить.
– Лады, лады. Уймись. Ага? Уймись. Не люблю, когда ревут, ага?
Она не была уверена, выражал ли он сочувствие или отвращение, но это была хотя бы не злоба.
Его тело расслабилось так же быстро, как напряглось.
– Ну что за херня, девочка? До чего ты себя довела? Не пробуй такого с честными людьми, если не готова к последствиям, ага? Тебя, што ли, этому не учили? А? Право слово, што ты себе думала, пытаясь меня обдурить? Много кто узнал, что с Макгвайрами такое не проходит.
– Я не… Я не…
– Да, да, не надо тут. Я тебе скажу, чего ты думала, ты думала, что я типа дебил, да? Которого можно обжулить. Ага? Который купится на милую мордаху, хлопающую ресничками, ага? Не в деньгах дело. Я много получаю. Восемьдесят, девяносто тыщ иной год. Спорим, ты и подумать не могла? Дело в прынципе, вот што я тебе в башку вбить хочу. Пофиг, один фунт или тыща, прынцип один и тот же. Так меня батя научил. Жалко, что твои родители поленились.
Стефани перестала плакать. Он был не просто тиран, он был хам и грубиян. И ей хотелось сказать ему, что он тиран, хам и грубиян, и даже хуже. Ей доводилось встречать неприятных мужчин, на большинстве ужасных работ, которые она вытерпела, и в каждом баре, где стояла за стойкой. Но прямо сейчас она не могла вспомнить, сталкивалась ли с кем-то омерзительнее Драча Макгвайра. Как человек он был на одном уровне с ее мачехой. Она вспомнила искусственное дружелюбие, которое он изображал при первой встрече… в точности, как Вэл.
– Так вот, я человек не злой. Я не хочу, штоб ты расстраивалась. За кого ты меня держишь? Денег у тебя нету, это каждому видно. У всех бывают тяжкие времена. Сто шестьдесят – для меня ерунда. Я такие бабки на одежку трачу каждую неделю, и не задумываюсь даже.
Стефани осмотрела его новые кроссовки наглого, флуоресцентно-зеленого цвета, и догадалась, что ее залог уже недоступен.
– У кой-кого из нас хватает ума, штобы не тратить жизнь на колл-центры или раздачу жратвы в Буллринге. – Он издал фыркающий смешок и, казалось, ожидал, что она присоединится. Стефани и забыла, что проболталась ему об этом. Что еще она рассказала?
– Тебе нелегко пришлось. Можешь мне даже не рассказывать, ага? На тебе оно написано. Мамка твоя больше не хочет, штобы ты с ней жила. Не так и удивительно, если уж честно, с твоим-то языком. Твой бедный старый батя умер. Я это все понимаю. А ты на мели. Я даже не хотел, штобы у меня в доме кто-то жил. Забыл, что реклама торчит в витрине у этого тюрбанника. Но когда ты позвонила, я понял – этой девчоночке тяжко живется. Даже парень ее послал. Полоса неудач у нее, типа. И я подумал: надо ей помочь. Не первый раз у нас в семье подбирают приблуду. А потом ты берешь и за дебила меня принимаешь. Хорошо еще, кузена моего нет. Он не я; он в таких случаях лясы не точит. Он человек суровый.
Драч увидел, как в ее глаза возвращается страх; страх, который Стефани не могла скрыть.
Он улыбнулся.
– Не бойся, он щас не здесь. Он на юге кой-какими делами занимается, пока я с этим местом разбираюсь. Никто тут не жил с тех пор, как мама с папой померли. – При мысли о них его глаза увлажнились. – Это мой фамильный дом. Пойми уж, мне не нравится, когда его не уважают. Он для меня много значит. Не уважаешь этот дом – не уважаешь моих маму с папой, и не уважаешь меня. Мне тут бродяжки не нужны. Я здесь вырос. Я кого попало на порог не пускаю. У мамы с папой были жильцы, и я подумал, что одна бездомная девочка мне не навредит.
Стефани резко перестала кипятиться. Ощущение безнадежности, которое словно парализовало ее гортань, и все прочие чувства, кружившие у нее в голове и в сердце, обернулись подозрением. Она нахмурилась.
– Но вы говорили, что здесь живут и другие девушки. Сколько их?
Казалось, собственная болтливость смущала его теперь, когда он разогнался и нашел внимательную слушательницу.
– Я ж говорил, люди приходят и уходят. Я им помогаю. Хотя не обязан. Не нужны деньги, когда зарабатываешь столько, сколько я. Но это у меня в природе – помогать людям. Семейная черта. Всегда была. Но погладь нас против шерсти – сразу об этом узнаешь, уж поверь мне. У нас в семье сердца большие. Мамочка моя…
Она не могла больше слышать ни единого слова. Они словно скрежетали внутри нее, заставляли таращиться в ошеломленном молчании, слушая его лживое самохвальство. Она знала о нем больше, чем хотела. Они разговаривали лишь трижды, и теперь, когда триптих бесед лицом к лицу был завершен, ей было плохо от гнева. Плохо до тошноты. Стефани ненавидела себя за слезы, за то, что он так легко заставил ее плакать, за то, что сдуру очутилась здесь, и за то, что рассказала ему о себе так много.
Рассказала ведь? О чем она думала?
– Пожалуйста, уйдите.
Драч посмотрел на дверь, потом переместился на несколько футов, чтобы ее загородить.
– Постой, постой. Не надо драмы. Ты здесь только поселилась. Дай старому домишке немного времени, типа. Обживись. Вот што я сделаю…
– Нет. Я съезжаю.
– Чего я терпеть не могу, девочка, так это когда меня прерывают. Сечешь? Я вроде дал понять, что грубости не терплю, ага?
Стефани со злостью посмотрела на него, но промолчала. Она может убраться отсюда за десять минут. Вызовет такси. За одиннадцать фунтов ее довезут до центра города.
«А потом что?» Если она потратится на такси, у нее не останется ни пенни до пятничной зарплаты.
– Ну, я знаю, што его надо чуть подкрасить да подлатать. Весь дом. Поэтому цена и соответствует теперешнему состоянию, ага? Поэтому я и вернулся сюда, в родной старый городок. И когда я с этим местом разберусь, оно вернется, да? К прежнему блеску. Ты его и не узнаешь. Мы с кузеном не просто красавчики. Но пока што, ага, я сделаю так, штобы тебе было поудобнее. Как тебе? Честное предложение. Может, телик поставлю? У нас есть лишние. Креслице мягкое. Штобы было где посидеть, што посмотреть, ага?
– Нет, спасибо. Мне надо уехать. Работа…
– Нет никакой работы. Мы это уже выяснили. Ничего у тебя нет, только шмотки, в которых ты стоишь. И правду сказать, милаха, шмотки неказистые. А работу ты не найдешь, если будешь выглядеть как бродяжка без адреса. Встречают-то по одежке. Но у тебя теперь есть приличное жилье. Работа будет потом. В Ковентри мест не больше, чем тут. Везде одно и тоже. Страна в жопе. По крайней мере, те, кто не знают, чего делать. Как себе помочь, типа. Потому што никто тебе в этой жизни помогать не станет. Мамочка заставила меня это усвоить. Твоя небось тоже пыталась тебе объяснить, да ты языком трепала. Пора, типа, начинать думать по-взрослому. Пора начинать слушать. И куда это ты так поздно вечером побежишь, э? К парню? Какому-то пацану, который тебя выставил? Умный ход.
– Перестаньте! Вы меня не знаете. Вы ничего обо мне не знаете.
– Ты удивишься, столько я всего обо всем знаю. Только дурак иначе подумает о Макгвайре, девонька. А у кого из нас есть домик с шестью спальнями и обустроенным чердаком, а? У кого свой бизнес? У меня. Не у тебя. У тебя ничего нет. Но я протягиваю руку. Помощь предлагаю. Первая ступенька в лестнице. Кусать меня за палец – последнее дело, сестренка.
– Понедельник. Это мой последний день.
– Ой, какая ты упрямая. Не знаешь, што для тебя лучше. Ну ладно, понедельник так понедельник. Как хошь. Заплатила за месяц – можешь жить месяц, а можешь валить хоть щас. Мне же легче будет, честно. Только залога ты не получишь. Это не обсуждается. Ты нарушила договор. Я што тебе, благотворитель?
Драч ухмыльнулся. Она долго молчала, пока он стоял, подняв бровь, и ждал, что она будет спорить.
– Опять ты затихла. Потому што знаешь, сестренка, што сказать тебе нечего.
Он вышел в дверь боком, пружинящей походкой, довольно склонив набок кудрявую голову.
Стефани подскочила с кровати и захлопнула дверь.
Она услышала, как снаружи стихли шаги Драча, словно он думал, не вернуться ли, чтобы отчитать ее за хлопанье дверями, как будто она была подростком, закатившим истерику. Стефани снова вспомнила о Вэл, своей мачехе, и ей захотелось кричать.
Она повернула ключ в замке так быстро, что вывернула запястье, а потом прижалась к двери и ждала, пока не услышала, как заскрипели ступеньки, ведущие к его квартире. Вдалеке захлопнулась дверь.
Стефани легла на кровать и закрыла лицо руками.
Девять
Когда Стефани раздевалась перед сном, квартирантка из комнаты напротив начала плакать.
Должно быть, это ее Стефани мельком видела раньше. Высокая девушка с приятными духами издавала теперь дрожащие рыдания, и через две стены до Стефани доносились звуки, полные того отчаяния, которое поднимается с самого дна легких, от которого в горле жгучий вкус, как от морской воды. Этот звук прекрасно сочетался с ее собственным положением и самим домом, где словно бы процветало несчастье.
Вся обида Стефани на то, что девушка отказалась ее замечать, испарилась. В этом горе слышалось все, что способно сделать жизнь невыносимой.
«Плохо дело». Она не сможет просто лежать в кровати, купаясь в жалости к себе, и слушать вот это.
Соседке по коридору было очень больно. Ее отчаянием могло объясниться и то, почему она раньше не заговорила со Стефани и даже не замедлила свой бег к комнате; может, она была просто не в состоянии с кем-то общаться.
Но была ли это та же самая женщина, которую она слышала прошлой ночью за камином?
Это не могла быть она, потому что голос в камине доносился с другой стороны – кажется, из другой части дома. Так что здесь могут жить две глубоко несчастные женщины. Три, если считать ее саму.
Еще одна мысль настигла Стефани. Другая квартирантка может быть в том же положении, что и она: на мели, под давлением, под угрозой насилия за непокорность, увязшая, загнанная в угол… Преувеличивает она, или таков и был подтекст недавнего разговора с домовладельцем?
«БОЛЬШАЯ КОМНОТА. 40 ФУНТОВ В НИДЕЛЮ. ТОКА ДЕВУШКИ». Почему?
Стефани отперла дверь своей комнаты и вышла в коридор.
И встала как вкопанная, не дотянувшись до включателя.
Ощущение было сродни выходу на улицу без пальто. Температура воздуха резко понизилась – чудовищный холод дал о себе знать, как только ее окутала плотная тьма. И запах, заставивший ее замереть – запах вроде того, что бывает внутри деревянных построек, с нотками пустоты, пыли и старых опилок, как в дровяном сарае. Ее охватило чувство, что она только что ступила в какое-то другое здание. Или прежнее место изменилось так кардинально, что с тем же успехом могло быть чем-то иным.
Одинокий уличный фонарь за пределами сада скупо высвечивал силуэт деревянных перил и бледный кусок стены возле лестницы. Полоска света, падавшего из комнаты Стефани, выхватывала темный ковер и обшарпанный плинтус. Красная дверь напротив была едва видна.
Но странно – ее радовали эти смутные намеки на неказистый интерьер здания, потому что они были реальными, в то время как она чувствовала… Да, теперь она могла лучше ее распознать… она чувствовала острую скорбь. Покинутость. Как в первое утро после смерти ее папы. Безнадежность, воплощенную в полной мере, удушливую и изнурительную одновременно: такую, что сведет тебя с ума, если не пройдет за несколько минут, если не наступит облегчение. Но то, что она чувствовала этим вечером за дверью своей комнаты, было хуже, потому что неподъемное одиночество той, которая на самом деле его испытывала, не заканчивалось. Вот что было самым странным.
Это настроение или чувство, затопившее материальное пространство коридора, не осознавалось как принадлежавшее ей, как порожденное ее собственными эмоциями. И эта убежденность – что Стефани поглотило чье-то чужое отчаяние, что она, по сути, ступила в его орбиту – какой бы иррациональной она ни была, придуманной тоже не казалась.
Или нет?
Теперь, когда и сама она вышла за пределы уравновешенного состояния рассудка и того, что считала подлинной безопасностью, сделав всего лишь обычный шаг за порог комнаты, Стефани услышала собственное хныканье. И, потрясенная звуком своего тихого плача в холоде и полумраке, безбрежном до головокружения, ударила по выключателю на стене.
Но ужасные ощущения пережили неожиданное пришествие света в коридор, и рыдания объятой горем девушки тоже не унялись.
В комнате напротив свет не горел. Ее обитательница рыдала в темноте.
Стефани заставила себя пересечь коридор, чтобы зайти к плачущей девушке. Она постучала в дверь.
– Привет. Пожалуйста. Мисс. Мисс, пожалуйста. Могу я помочь? – Она снова постучала раз, затем второй, и отошла назад.
Но девушка была неутешна, неостановима, и голос соседки ее не отвлек.
Стефани решилась на еще одну попытку и сказала двери:
– Я просто хочу, чтобы вы знали, что можете со мной поговорить. Если хотите. Я живу в этом же коридоре. В комнате напротив.
Девушка начала говорить, но не с ней и не по-английски. Кажется, по-русски. Язык был таким же сложным и быстрым, как русский, разговоры на котором она раньше слышала; слова с трудом пробивались через всхлипы.
– Английский? Вы говорите по-английски?
«Просто открой дверь, – хотела крикнуть Стефани. – Мы можем общаться взглядами, выражениями лиц. Я даже обниму тебя. Только перестань, пожалуйста. Это чересчур… чересчур для меня…»
На улице гавкнула и прыгнула на всю длину цепи собака Драча.
Внутри дома, двумя этажами ниже, послышались громкие шаги, выбившие стремительную дробь из паркета.
Шаги поднялись по лестнице на второй этаж. Потом начался шумный, спешный подъем к площадке третьего.
Стефани не двигалась, не знала, что делать. Пусть и заинтересованная появлением нового жильца, она пугалась стремительной и громкой природы движения, которая также намекала, что вызвано оно было отчаянием девушки.
С щелчком погас свет. Стефани повернулась к выключателю, но смогла только прикрыть рот, из-за… чего? Движение воздуха. Неожиданный запах… что это такое? Пот? Застарелый мужской или животный пот.
Она выдохнула, чтобы изгнать зловоние из легких. Вспомнила грибной запах, который чувствовала, усевшись в автобусе позади мужчины, не имевшего никакого представления о личной гигиене. В том, что она чуяла здесь, присутствовало злое возбуждение, порожденное дурным норовом и выпивкой. Этому сопутствовало внезапное отвратительное ощущение, будто она извивается в поросших густым волосом руках, не в силах вдохнуть. Она не знала, почему вообразила такую картину, и была слишком перепугана, чтобы понять, но казалось, что смрад гнало по дому целеустремленное, мускулистое насилие.
Горячая животная вонь, в которой теперь чувствовалось еще и заболевание десен, заместила аромат старого необработанного дерева с такой полнотой, что Стефани засомневалась, существовал ли вообще запах пустот под половицами.
Инстинкт подсказал ей, что если она сейчас же не вернется в комнату и не запрет дверь, что-то ужасное и, возможно, непоправимое случится с ней этой же ночью. Мысль была иррациональной, словно Стефани опять стала девочкой, бегущей по лестнице к спальне, настолько убежденной, будто за ней кто-то гонится, что зачастую слышала шаги за спиной. Но она быстро заскочила в свою комнату и навалилась на дверь изнутри. И повернула ключ в ту же секунду, как дверь захлопнулась.
Наверху открылось окно, и она услышала, как Драч рявкнул: «Заткнись!», – обращаясь к собаке, и та заскулила, а потом умолкла.
Шаги достигли третьего этажа и остановились, будто человек задержался перевести дыхание, а затем гневный стук его ног направился по коридору, к ее комнате…
Стефани отошла от двери, готовая закричать.
Шаги остановились снаружи.
Кулак ударил в дверь напротив.
«Слава богу, ему нужна она, а не я».
Дверь напротив открылась.
– Нет, – прошептала Стефани. «Не впускай его!» – кричала она у себя в голове.
Тишина.
Застывшая, она стояла у себя в комнате, Она застыла в нескольких футах от запертой двери, закрыв руками рот; глаза ее слезились, потому что она не моргала; голова разболелась от давившего непонимания.
На самой грани слышимости энергично заскрипела раскачивающаяся кровать. Шум не заглушал сопутствующего ему ритмичного уханья.
Десять
После того, как Стефани заглянула в шкаф, под стол, за занавески и под кровать, она забралась под одеяло и лежала без сна с включенным светом. Она придвинула лампу ближе к краю прикроватной тумбочки, развернув металлический плафон кверху, чтобы добавить яркости к потолочному свету и чтобы, если понадобится, легче было дотянуться рукой.
Шум секса в комнате напротив был громким, но недолгим. Девушка за все время не издала ни звука. Стефани боялась, что стала свидетельницей изнасилования, потому что как женщина в таком горе может согласиться на секс с другим жильцом, да еще таким, чье перемещение по дому источало агрессию?
Это не мог быть Драч, потому что он был наверху; Стефани слышала, как он кричит на собаку. Она задумалась, не был ли шумевший мужчина обладателем ботинок с кожаной подошвой, который выходил из дома сегодня утром. Возможно, ей повезло, что она его не догнала. Первая удача, улыбнувшаяся ей в этом месте.
Она пыталась понять природу отношений между девушкой и мужчиной, от которого пахло животным, и отвращение мешалось в ней с боязнью сексуального насилия. Услышав хоть намек на сопротивление, Стефани вызвала бы полицию. Но соседка не издала ни звука, словно ее уже и не было в комнате напротив.
Мужчина все еще оставался внутри, возможно, лежал вместе с ней, словно они были любовниками. Может, они и были любовниками, бешено трепыхавшимися в паутине отношений любви-ненависти, подогреваемых агрессией, и девушка привыкла к его запаху. Стефани зажмурилась от ужаса, содержавшегося в этой мысли.
Она открыла глаза и попробовала осмыслить то, что почувствовала в коридоре: окутавшую ее холодную пустоту, пахнувшую необжитым деревянным зданием. Но так и не смогла понять, откуда взялся запах, только допустила неубедительную возможность, что почувствовала застоявшийся воздух, который поднимался… но откуда он поднимался?
То же самое недоумение сопровождало ее попытку понять источник животного запаха. От кого мог исходить настолько мощный поток грубой и дикой маскулинности? Сколько времени нужно избегать воды и мыла, чтобы взлелеять подобную вонь?
Стефани задумалась, не повлияла ли на ее восприятие стычка с Драчом. Может быть, их ссора заставила ее думать, что мужчины в этом доме для нее опасны. Она не знала. Не знала, в общем-то, ничего об этом месте и о тех, кто тут жил. Знала только, что была напряжена и испугана, и встревожена, и утомлена, а идти было больше некуда. Но еще она понимала, что какой бы ужасной ни казалась ее жизнь, кому-то неподалеку, скорее всего, было хуже. Воспоминания о горе соседки до сих пор заставляли ее нервы звенеть. Она представила, что, как и эта девушка, оказалась в чужой стране, в стране, языка которой она не знает и не может даже понять, что за дверью ей предлагают помощь.
«Как я тут оказалась?»
Она просто хотела найти жилье и работу. Возможно, ее соседка тоже хотела только этого.
Стефани сказала себе, что ей нужно просто пережить эту ночь, всего одну ночь, а если она услышит что-то рядом с кроватью, то подхватит сумку с самым необходимым, вызовет такси и поедет прямиком в центр города. Будет бродить по темноте, пока не откроется «Буллринг».
За окном тряслась, шелестела и вздыхала на ветру густая масса растительности, поглотившая неухоженный сад. Стефани представила, как грязное море лижет заднюю часть дома в попытке захватить старые кирпичи, пятнистый цемент и скрипящие балки, укрыть все это плющом и шипами, и безлистыми скелетообразными зарослями, видными из окна при свете дня. Непокорные джунгли вздымались над оградой со всех сторон сада, словно приливная волна над прибрежными стенами.