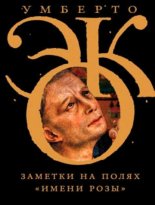Ктулху (сборник)
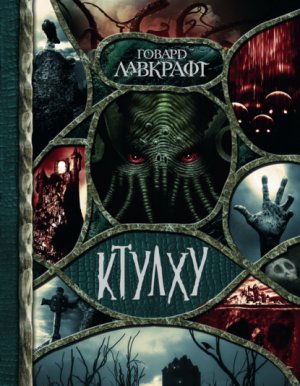
Эти позвоночные так же, как и бесконечное множество прочих живых организмов – животных и растений, тех, кто обитает в море, на земле и в воздухе, – возникли в процессе неконтролируемой эволюции клеток, созданных Старцами, но со временем вышедших из-под их контроля. Они развивались себе понемногу, поскольку не мешали хозяевам планеты. Те, что вели себя беспокойнее, механически уничтожались. Любопытно, что в поздних, декадентских произведениях скульпторы изобразили примитивное млекопитающее с неуклюжей походкой, которое земные Старцы вывели не только из-за вкусного мяса, но и забавы ради – как домашнего зверька; в нем неуловимо просматривались черты будущих обезьяноподобных и человекообразных существ. В строительстве земных городов принимали участие огромные птеродактили, неизвестные доселе науке, – они поднимали на большую высоту камни для укладки башен.
В том, что Старцы сумели пережить самые разнообразные геологические катаклизмы и смещения земной коры, было мало удивительного. Хотя из первых городов, по-видимому, ни один не сохранился, эта цивилизация никогда не прерывала своего существования, о чем свидетельствовали и увиденные нами барельефы. Впервые Старцы приземлились на нашу планету в районе Антарктического океана, и, похоже, произошло это вскоре после того, как оторвалась часть материи, образовавшая Луну, а на то место сместился Тихий океан. На одном из барельефов мы увидели, что во времена прилета Старцев всю Землю покрывала вода. Шли века, и каменные города распространялись по планете, все дальше отходя от Антарктиды. Вырезанная на камне карта показывала, что вокруг Южного полюса образовалось широкое кольцо суши – Старцы построили на ней свои первые экспериментальные поселения, хотя подлинные центры оставались все же на морском дне. На позднейших картах было видно, как откалывались и перемещались огромные массы земли, оторвавшиеся части материка сносило к северу – что подтверждало теории Тейлора, Вегенера и Джоли.
Смещение пластов земли на юге Тихого океана привело к катастрофическим последствиям. Некоторые морские города были разрушены до основания, но худшее еще предстояло пережить. Из космоса прилетели новые пришельцы, напоминавшие формой осьминогов – их-то, возможно, и нарекли в древних мифах потомством Ктулху; они развязали жестокую войну, загнав Старцев надолго под воду. Это нанесло последним страшный урон – к тому времени число поселений на суше постоянно росло. В конце концов обе расы заключили мирный договор, по которому новые земли переходили к потомкам Ктулху, за Старцами же оставалось море и прежние владения. Стали возводиться новые города, и самые величественные из них – в Антарктике, ибо эта земля, место первых поселений, стала почитаться священной. И впредь Антарктика оставалась центром цивилизации Старцев, а города, которые успели там основать потомки Ктулху, стерлись с лица земли. Потом часть суши в районе Тихого океана вновь опустилась, и с ней ушел на дно зловещий Р’лайх, город из камня, и все космические осьминоги в придачу. Так Старцы вновь стали единственными хозяевами планеты; правда, существовало нечто, чего они боялись и о чем не любили говорить. Через некий весьма продолжительный отрезок времени Старцы заполонили всю планету: их города достаточно равномерно распределились и на суше, и на дне морском. В своей монографии я дам совет пытливому археологу пробурить машиной Пибоди несколько глубоких скважин в самых разных районах Земли и проанализировать полученные данные.
В течение веков шло закономерное переселение Старцев из глубин моря на сушу – этот процесс подстегивался рождением новых материков, хотя и океан никогда не пустовал. Второй причиной миграции стали трудности по выращиванию и удерживанию в повиновении шогготов, без которых жизнь под водой не могла продолжаться. С течением времени, как скорбно поведали нам сюжеты на древних барельефах, был утрачен секрет создания жизни из неорганической материи, и Старцам пришлось довольствоваться модификацией уже существующих форм. На суше у Старцев не было никаких проблем с громадными, но исключительно послушными рептилиями, а вот размножавшиеся делением шогготы, которые в результате случайного стечения обстоятельств нарастили до опасного предела интеллект, беспокоили их чрезвычайно.
Старцы всегда управляли шогготами с помощью гипноза, легко трансформируя эту внушаемую плотную плазму согласно потребностям и создавая на время нужные им члены и органы, теперь же у шогготов иногда появлялась способность самим преобразовывать свою плоть по воспоминаниям о старых приказах властителей. Казалось, у них развился мозг с неустойчивой системой связей, в котором иногда зарождался сильный волевой импульс, противоречивший воле хозяина. Изображения шогготов вызывали у нас с Денфортом глубочайшее отвращение, граничащее с ужасом.
Эти бесформенные в обычном состоянии существа состояли из желеподобной пузырчатой массы; если они обретали форму шара, диаметр их в среднем равнялся пятнадцати футам. Впрочем, очертания, равно как и объем, менялись у них постоянно: они то создавали себе, то, напротив, уничтожали органы слуха, зрения, речи, во всем подражая хозяевам, – иногда непроизвольно, а иногда выполняя команду.
Сто пятьдесят миллионов лет тому назад, где-то в середине перми, шогготы стали совершенно неуправляемыми, и тогда жившие на морском дне Старцы развязали против них настоящую войну, чтобы силой вернуть свою прежнюю власть. Многовековая пропасть отделяла нас от того времени, но и теперь мороз пробирал по коже, когда мы разглядывали картины той войны и особенно ужасное зрелище жертв, обезглавленных шогготами и выпачканных затем выделяемой ими слизью. В конце концов Старцы, прибегнув к мощному оружию, вызывавшему у врагов нарушения на молекулярном и атомарном уровнях, добились полной победы. Барельефы отразили тот период, когда сломленные шогготы стали совсем ручными и покорились воле Старцев, совсем как дикие мустанги Запада – американским ковбоям. Во время бунта шогготы доказали, что могут жить на суше, но новая способность никак не поощрялась – трудности их содержания на земле значительно превосходили возможную пользу.
В юрский период на Старцев обрушились новые напасти – из космоса прилетели полчища мерзких тварей; они соединяли в себе черты ракообразных, ибо были покрыты твердым панцирем, а также низших растений, а именно грибов. В мифологии горных народов северного полушария, особенно в Гималаях, они запечатлелись как Ми-Го, или Снежные люди. Чтобы одержать верх над пришельцами, Старцы впервые за всю свою земную историю решили вновь выйти в космос, однако, совершив все положенные приготовления, поняли, что не сумеют покинуть земную атмосферу. Секрет межзвездных полетов был полностью утрачен. В результате Ми-Го вытеснили Старцев с северных земель, и те понемногу вновь сбились в антарктическом регионе – своей земной колыбели. Все эти перемены не коснулись подводных владений Старцев, недоступных для завоевателей.
Даже на барельефах бросалось в глаза разительное отличие материальной субстанции Ми-Го или потомков Ктулху от плоти Старцев. Первые обладали способностью к структурным изменениям, умели перевоплощаться и вновь возвращать себе прежний облик. Все это было недоступно для Старцев, по-видимому, их враги прибыли из более отдаленной части Вселенной, чем они. Несмотря на удивительную плотность тканей и необычные жизненные свойства, Старцы являлись материальными существами и, следовательно, происходили из известного пространственно-временного континуума, в то время как о происхождении их врагов можно было, затаив дыхание, строить самые немыслимые догадки. Словом, нельзя отнести к чистому мифотворчеству разбросанные в легендах сведения об аномалии завоевателей и их внегалактическом происхождении. Хотя этот миф могли распространять и сами Старцы, чтобы списать на него свои военные неудачи: ведь исторический престиж был у них своего рода «пунктиком». Недаром в их каменных анналах не упоминались многие могущественные и высокоразвитые народы с неповторимыми культурами и величественными городами – народы, украсившие собой не одну легенду.
Чередование геологических эпох и связанные с ним перемены были с поразительной яркостью представлены на резных картах и барельефах. Кое в чем наши научные представления оказались ошибочными, но встречались и подтверждения некоторых смелых гипотез. Как я уже говорил, именно здесь, в этом невероятном месте, мы убедились в правоте Тейлора, Вегенера и Джоли, предположивших, что все континенты суть части бывшего единого антарктического материка, оторвавшиеся от него под действием мощных центробежных сил и дрейфовавшие в разные стороны по вязкой поверхности земной мантии. Это подтверждалось и очертаниями Африки и Южной Америки, а также направлениями главнейших горных цепей.
На картах, отобразивших Землю времен карбона, то есть сто миллионов или более лет тому назад, мы видели бездонные ущелья и трещины, которые впоследствии, углубившись, разделили Африку и обширный материк, включавший в себя Европу (легендарную Валусию), обе Америки и Антарктику. На более поздних картах материки были уже обособлены друг от друга, в том числе и на той, которую вычертили пятьдесят миллионов лет назад в связи с основанием ныне мертвого города, где мы сейчас пребывали. И наконец, на самой поздней, относящейся, видимо, к плиоцену карте очертания и расположения материков соответствовали нынешним – только Аляска была еще соединена с Сибирью, Северная Америка через Гренландию – с Европой, а Южная Америка через Землю Грейама – с Антарктидой. Карты времен карбона пестрели значками, говорившими, что каменные города Старцев покрывали весь земной шар – от дна морского до изрытых ущельями горных районов, однако на последующих картах ясно обозначился откат градостроительства к южным антарктическим районам. Во времена же плиоцена, как показывала последняя карта, города остались только в Антарктике да на оконечности Южной Америки – севернее пятидесятой параллели южной широты отсутствовали даже морские поселения. Интерес Старцев к северным территориям, по-видимому, угас, сократилась информация о них, лишь изредка совершали теперь Старцы разведывательные полеты на своих веерообразных перепончатых крыльях, изучая очертания береговых линий.
Потом наступило время грандиозных катаклизмов – образовывались новые горные цепи, создавались континенты, землю и дно океанов сотрясали конвульсии, и на месте разрушенных городов все реже возводились новые. Окружавший нас громадный мертвый мегаполис был, видимо, последней столицей звездоголовых; город построили в начале мела недалеко от того места, где рухнул в разверзшуюся пропасть его предшественник, превосходивший размерами даже своего юного двойника. Район этих двух городов почитали священным – ведь именно здесь впервые, тогда еще на морское дно, высадились их предки. Мы узнавали на барельефах некоторые характерные приметы города, в котором оказались. Как нам стало понятно, он тянулся вдоль хребтов на сотни миль в обе стороны, так что обозреть его даже с самолета не представлялось возможным. Считалось, что в нем сохранились священные камни из фундамента первого поселения на дне моря; по прошествии многих веков их выбросило при очередном катаклизме на сушу.
VIII
Мы с Денфортом с особым интересом и смешанным чувством благоговения и страха отыскивали на барельефах то, что относилось к месту нашего пребывания. Такого материала, естественно, было предостаточно; кроме того, скитаясь по наземным лабиринтам города, мы забрели, по счастливой случайности, в исключительно старое здание, на потрескавшихся стенах которого в декадентской манере последних скульпторов разворачивалась история города и его окрестностей после плиоцена – на нем обычно завершались все прочие скульптурные рассказы.
Этот дом мы облазили и изучили до последнего уголка, и то, что нам удалось здесь узнать, поставило перед нами новую цель.
Итак, нам суждено было попасть в самое таинственное, жуткое и зловещее место на Земле. И самое древнее. Мы почти поверили, что это мрачное нагорье и есть то самое легендарное плато Ленг, средоточие зла, о котором страшился упоминать даже безумный творец «Некрономикона». Грандиозная горная цепь была невероятно, умопомрачительно длинна, зарождаясь невысоким кряжем на земле у моря Уэдделла и пересекая весь континент. Наиболее высокий массив образовывал величественную арку между 82° южной широты, 60° восточной долготы и 70° южной широты, 115° восточной долготы, вогнутой стороной обращенную к нашему лагерю, а одним концом упиравшуюся в закованное льдом морское побережье. Уилкс и Маусон видели эти горы на широте Южного полярного круга.
Но нас ожидало еще более сокрушительное открытие. Как я уже говорил, хребты эти превышали Гималаи, но древние резчики по камню уверяли нас, что они уступали другим, еще более грандиозным. Тех великанов окутывала мрачная тайна, большинство скульпторов предпочитали не касаться этой темы, другие приступали к ней с очевидной неохотой и робостью. Похоже, та часть древней суши, что поднялась из моря первой после того, как оторвался кусок, образовавший Луну, и со своих далеких звезд прилетели Старцы, таила в себе, по мнению пришельцев, неведомое, но ощутимое зло. Возводимые там города преждевременно разрушались, их жители внезапно пропадали неведомо куда. Когда первые подземные толчки сотрясли эту зловещую местность, из качнувшейся, а затем разверзшейся земли неожиданно выросла пугающая громада хребтов с высоко взметнувшимися вершинами. Так, среди грохота и хаоса, Земля произвела свое самое жуткое творение.
Если система координат на барельефах соответствовала истине, то эти рождающие ужас и омерзение гиганты вздымались на высоту более сорока тысяч футов, значительно превосходя покоренные нами Хребты Безумия. Они тянулись от 77° южной широты, 70° восточной долготы до 70° южной широты, 100° восточной долготы и, следовательно, находились всего в трехстах милях от мертвого города, так что, не будь тумана, мы могли бы различить на западе их сумрачные вершины. А их северную оконечность можно видеть с широты Южного полярного круга на Земле Королевы Мери.
Во времена упадка некоторые Старцы возносили этим горам тайные молитвы, однако никто не осмеливался приблизиться к ним или хотя бы предположить, что находится за ними. Из людей также ни один человек не бросил взгляда на этих великанов, но, видя, какой страх источают эти древние изображения, я от души порадовался тому, что это и не могло случиться. Ведь за этими колоссами проходит еще одна цепь гор – Королевы Мери и Кайзера Вильгельма, заслоняющая гигантов со стороны побережья, и на эти горы, к счастью, никто не пробовал взбираться. Во мне уже нет былого скептицизма, и я не стану насмехаться над убежденностью древнего скульптора, что молния иногда задерживалась на гребне этих погруженных в тяжелое раздумье гор, и тогда ночь напролет мерцал там дивный таинственный свет. Возможно, в древних Пнакотических рукописях, где упоминается Кадат из Страны Холода, за таинственными темными словесами скрывается подлинная и ужасающая реальность.
Впрочем, городу хватало и своих загадок, пусть и не столь демонических. С его основанием ближние горы понемногу обрастали храмами; они стояли, как мы уразумели из барельефов, в тех местах, где теперь лепились друг к другу диковинные кубы и крепостные валы – все, что осталось от башен неизъяснимой красоты и причудливых, устремленных ввысь шпилей. Затем, с течением времени, появились пещеры, которые соответствующим образом оформлялись, становясь своеобразными придатками к храмам. Шли годы, подземные воды источили слой известняка, и пространство под хребтами, нагорьем и равниной превратилось в запутанный лабиринт из подземных ходов и пещер. Многие барельефы отразили осмотры Старцами бесчисленных подземелий, а также неожиданное открытие ими там моря, которое подобно Стиксу таилось в земном лоне, не зная ласки солнечных лучей.
Эта сумрачная пучина была, конечно же, порождением реки, текущей со стороны зловещих, не имеющих названия западных гор; у Хребтов Безумия она сворачивала в сторону и текла вдоль гор вплоть до своего впадения в Индийский океан между Землями Бадда и Тоттена на Побережье Уилкса. Понемногу река размывала известняк на повороте, пока не достигала грунтовых вод, а слившись с ними, с еще большей силой продолжала точить породу. В конце концов, сломив сопротивление камня, воды ее излились в глубь земли, а прежнее русло, ведущее к океану, постепенно высохло. Позже его покрыли постройки постоянно разраставшегося города. Поняв, что произошло с рекой, Старцы, повинуясь присущему им мощному эстетическому чувству, высекли на своих самых изысканных пилонах картины низвержения водного потока в царство вечной тьмы.
С самолета мы видели бывшее русло этой когда-то прекрасной реки, одетой в былые годы в благородное кружево каменных мостов. Положение, которое занимала река на барельефах, изображающих город, помогло нам лучше понять, как менялся мегаполис в бездонном колодце времени; мы даже наскоро набросали карту с основными достопримечательностями – площадями, главными зданиями и прочими приметами, чтобы лучше ориентироваться в дальнейшем. Скоро мы могли уже воссоздать в своем воображении живой облик этого поразительного города, каким он был миллион, десять миллионов или пятьдесят миллионов лет назад, – так искусно изобразили древние скульпторы здания, горы и площади, окраины и живописные пейзажи с буйной растительностью третичного периода. Все было пронизано несказанной мистической красотой, и, впитывая ее в себя, я забывал о гнетущем чувстве, порожденном непостижимым для человека возрастом города, его мертвым величием, укрытостью от мира и сумеречным сверканием льда. Однако, судя по барельефам, у обитателей города тоже частенько на душе кошки скребли и сердце сжималось от страха: нередко встречались изображения Старцев, отшатывающихся в ужасе от чего-то, чему на барельефе никогда не находилось места. Косвенно можно было догадаться, что предмет этот выловили в реке, которая принесла его с загадочных западных гор, поросших вечно шелестящими деревьями, увитыми диким виноградом.
Только в одном доме поздней постройки мы отчетливо прочли на декадентском барельефе предчувствие грядущей катастрофы и опустения города. Несомненно, были и другие свидетельства, несмотря на снижение творческой активности и художественных устремлений, характерное для скульпторов смутного времени, – вскоре мы в этом, хоть и не воочию, смогли убедиться. Но тот барельеф был первым и единственным в таком роде из всех, какие мы внимательно рассмотрели. Мы хотели продолжить осмотр, но, как я уже говорил, обстоятельства изменились и перед нами возникла новая цель. Впрочем, вскоре все настенные свидетельства и так исчерпали себя: надежда на долгое безоблачное будущее покинула Старцев, а с ней и желание украсить свой быт. Окончательный удар принесло повальное наступление холодов, они сковали почти всю планету, а с полюсов так никогда и не ушли. Именно эти жестокие холода уничтожили на противоположной стороне планеты легендарные земли Ломара и Гипербореи.
Трудно сказать, когда именно воцарились в Антарктике холода. Сейчас мы относим раннюю границу ледникового периода на пятьсот тысяч лет от нашего времени, но по полюсам этот бич Божий хлестнул еще раньше. Все цифры, конечно, условны, но весьма вероятно, что последние барельефы высечены менее миллиона лет назад, а город покинут полностью задолго до времени, которое принято считать началом плейстоцена, то есть раньше, чем пятьсот тысяч лет тому назад.
На поздних барельефах растительность выглядит более скудной, да и сама жизнь горожан далеко не бьет ключом. В домах появляются нагревательные приборы, путники зимой кутаются в теплую одежду. Картуши, которые все чаще разбивают каменную ленту поздних барельефов, вторгаясь со своей темой, отобразили отдельные элементы непрерывной миграции – часть жителей укрылась на дне моря, найдя прибежище в подводных поселениях у далеких берегов, другие опустились под землю и, проскитавшись по запутанным известняковым лабиринтам, вышли к пещерам на краю темных бездонных вод.
Так сложилось, что большинство обитателей города предпочли уйти под землю. До какой-то степени это объяснялось тем, что место здесь почиталось священным, но главным было, конечно же, то, что в этом случае оставалась возможность пользоваться храмами, возведенными на изрезанных подземными галереями хребтах, а также бывать в самом городе, оставленном в качестве летней резиденции и координационного пункта между отдельными поселениями. Провели кое-какие земляные работы, улучшили уже существующие подземные пути, а также проложили новые, напрямик соединившие древнюю столицу с темной пучиной. Тщательно все просчитав, мы нанесли входы в эти новые, прямые как стрела туннели на путеводитель, который понемногу рождался под нашими руками. По меньшей мере два туннеля начинались неподалеку от нас, ближе к хребтам – один всего в четверти мили, в направлении древнего русла реки, а другой – примерно вдвое дальше, в прямо противоположном направлении.
Новый город Старцы выстроили не на пологих берегах подземного моря, а на его дне – температура там была равномерно теплой. Огромная глубина этого тайного моря давала гарантию, что внутренний жар земли позволит новым поселенцам жить там сколько потребуется. Те же без труда приспособились проводить под водой большую часть времени, а позднее и вовсе перестали выходить на берег – они ведь никогда не позволяли жабрам окончательно отмереть. На отдельных барельефах мы видели картины посещения Старцами живущих под водой родственников, а также их продолжительных купаний на дне глубокой реки. Не смущала их и вечная тьма земных недр – сказалась привычка к долгим арктическим ночам.
Когда древние скульпторы рассказывали на своих барельефах о том, как на дне подземного моря закладывали новый город, их декадентская, упадническая манера преображалась, и в ней появлялись характерные эпические черты. Подойдя к проблеме научно, Старцы наладили в горных недрах добычу особо прочных камней и пригласили из ближайшего подводного селения опытных строителей, чтобы использовать в работе новейшие технологии. Специалисты захватили с собой все необходимое для успешной деятельности, а именно: клеточную массу для производства шогготов-чернорабочих, способных поднимать и перетаскивать камни, и протоплазму, с легкостью превращавшуюся в фосфоресцирующие организмы, освещавшие темноту.
И вот на дне мрачного моря вырос громадный город, архитектурой напоминавший прежнюю столицу, а мастерством исполнения даже превзошедший, ибо везде строительству предшествовал точный математический расчет. Новые шогготы достигли здесь исполинских размеров и значительного интеллекта, понимая и исполняя приказы с удивительной быстротой. Со Старцами они изъяснялись, подражая их голосам, мелодичными, трубными звуками, слышными, если правильно предположил бедняга Лейк, на большом расстоянии; теперь шогготы подчинялись не гипнотическому внушению, а простым командам и были идеально послушны. Фосфоресцирующие организмы полностью обеспечивали Старцев светом, компенсируя этим утрату полярных сияний – непременных спутников антарктических ночей.
Изобразительные искусства продолжали существовать, хотя упадок был очевиден. Старцы, по-видимому, и сами это понимали, потому что во многих случаях предвосхитили политику Константина Великого и перенесли в подводный город несколько глыб с великолепными образцами древней резьбы, подобно тому как вышеозначенный император в такое же гиблое для искусств время ограбил Грецию и Азию, вывезя оттуда лучшие произведения искусства, чтобы сделать свою новую столицу, Византию, еще более прекрасной. То, что Старцы не забрали из бывшей столицы все барельефы, объяснялось, несомненно, тем, что первое время город на суше не был еще полностью заброшен. Когда же он полностью обезлюдел – а это случилось еще до прихода на полюс самых жестоких холодов плейстоцена, – Старцев уже, видимо, вполне устраивало современное искусство, и они перестали замечать особое совершенство работы древних резчиков и ваятелей. Во всяком случае, вековечные руины вокруг нас во многом сохранили свои первоначальные красоты, хотя все, что было легко вывезти, особенно отдельно стоявшие прекрасные скульптуры, обрело новое пристанище на дне подземного моря.
Эта история, рассказанная на панелях и картушах, – последнее свидетельство об ушедшей эпохе, обнаруженное нами на ограниченной территории наших поисков. Выходило, что Старцы некоторое время жили как бы двойной жизнью, проводя зиму на дне подземного моря, а летом возвращаясь в свою бывшую столицу. Завязалась активная торговля с другими городами в относительном отдалении от антарктического побережья. К этому времени стала абсолютно ясна обреченность земного города, и резчики сумели показать на своих барельефах многочисленные признаки вторжения холода. Растительность гибла, и даже в разгар лета грозные приметы зимы полностью не исчезали. Пресмыкающиеся вымерли почти полностью, млекопитающие разделили их участь. Чтобы продолжать работу на суше, можно было приспособить к земным условиям жизни удивительно хорошо переносящих холод бесформенных шогготов, но этого-то Старцы совсем не хотели. Замерла жизнь на великой реке, опустело морское побережье, из его былых обитателей задержались только тюлени и киты. Птицы улетели, по берегу ковыляли одни крупные неуклюжие пингвины. Можно только предполагать, что произошло дальше. Как долго просуществовал подводный город? Может, этот каменный мертвец по-прежнему стоит там, в вечном мраке? Замерзли подземные воды или нет? И какова судьба других городов на дне океана? Выбрались ли из-под ледяного колпака Старцы? Может, мигрировали к северу? Но современная геология нигде не обнаружила следов их пребывания. Значит, злобные Ми-Го все еще создавали угрозу на севере? И кто знает, что таится сейчас в темной, неведомой морской пучине, затерявшейся в потаенных глубинах земли? Сами звездоголовые и их творения могли выдерживать колоссальное давление – а рыбаки иногда вылавливали в этих краях всякие диковины. И может, вовсе не кит-убийца повинен, как предполагали, в кровавой резне, оставившей на телах тюленей многочисленные ранения, на что обратил внимание поколение назад Борхгревинк?[6]
Экземпляры, найденные беднягой Лейком, обсуждению не подлежали: их засыпало в пещере в те времена, когда город был совсем юным. По всем признакам им было не меньше тридцати миллионов лет, а тогда, как мы понимали, подземный город в заполненной водами каверне еще не существовал, как, собственно, и сама каверна. Если бы они ожили, то помнили бы только те давние времена, когда повсюду буйно росла зелень – ведь шел третичный период, – в городе процветали искусства, могучая река несла свои воды на север, вдоль величественных гор к далекому тропическому океану.
И все же у нас не шли из головы эти твари, особенно восемь полноценных, которые таинственным образом исчезли из развороченного лагеря Лейка. Слишком многое не укладывалось в голове, и потому приходилось относить разные дикие вещи на счет внезапного помешательства кого-нибудь из членов экспедиции – и эти невероятные могилы, и множество пропавших вещей, и исчезновение Гедни; потрясла нас неземная плотность тканей древних чудищ и всякие странности их биологии, о которых поведали нам древние скульпторы, – словом, мы с Денфортом многое повидали за несколько последних часов, но были готовы к встрече с новыми пугающими и невероятными тайнами первобытной природы, о которых собирались хранить молчание.
IX
Я уже упоминал, что во время осмотра упаднических барельефов у нас родилась новая цель. Она, конечно же, была связана с теми пробитыми в земле туннелями, которые вели в мрачный подземный мир и о существовании которых мы поначалу не имели понятия, зато теперь сгорали от любопытства и желания поскорее увидеть их и по возможности обследовать. Из высеченного на стене плана было ясно, что стоит нам пройти по одному из ближайших туннелей около мили, и мы окажемся на краю головокружительной бездны, там, куда никогда не заглядывает солнце; по краям этого неправдоподобного обрыва Старцы проложили тропинки, ведущие к скалистому берегу потаенного, погруженного в великую ночь океана. Возможность воочию созерцать легендарную пучину явилась соблазном, которому противиться было невозможно, но мы понимали, что нужно либо немедленно пускаться в путь, либо отложить визит под землю до другого раза.
Было уже восемь часов вечера, наши батарейки поиздержались, и мы не могли позволить себе совсем не выключать фонарики. Все пять часов, что мы находились в нижних этажах зданий, подо льдом, делая записки и зарисовки, фонарики не выключались, и потому в лучшем случае их могло хватить часа на четыре. Но, исхитрившись, можно было обойтись одним, зажигая второй только в особенно интересных или опасных местах. Так мы обезопасили бы себя, создав дополнительный резерв времени. Блуждать в гигантских катакомбах без света – верная погибель, следовательно, если мы хотим совершить путешествие на край бездны, нужно немедленно прекратить расшифровку настенной скульптуры. Про себя мы решили, что еще не раз вернемся сюда, возможно, даже посвятим целые недели изучению бесценных свидетельств прошлого и фотографированию – вот где можно сделать коллекцию «черных снимков», которые с руками оторвет любой журнал, специализирующийся на «ужасах», – но теперь поскорее в путь!
Мы уже израсходовали довольно много клочков бумаги, и хотя нам не хотелось рвать тетради или альбомы для рисования, все-таки пришлось пожертвовать еще одной толстой тетрадью. Если случится худшее, решили мы, начнем делать зарубки, тогда, даже если заблудимся, пойдем по одному из туннелей, пока не выйдем на свет – если, конечно, успеем к сроку. И вот мы, сгорая от нетерпения, направились в сторону ближайшего туннеля.
Согласно высеченной на камне карте, с которой мы перерисовали свою, нужный туннель начинался в четверти мили от места, где мы находились. Его окружали прочные, хорошо сохранившиеся дома, так что, похоже, это расстояние мы могли преодолеть под ледяным покрытием. Туннель шел из ближайшего к хребтам угла некой пятиконечной объемистой конструкции – явно места общественных сборищ, возможно, даже культового характера. Мы еще с самолета пытались разглядеть среди руин такие постройки. Однако сколько мы ни обращались к своей памяти, не могли припомнить, чтобы видели с высоты нечто подобное, и потому решили, что это объясняется скорее всего тем, что крыша здания сильно повреждена, а может, и совсем разрушена прошедшей по льду трещиной. Ее-то мы хорошо помнили. Но в таком случае вход в туннель мог быть завален, и тогда нам останется попытать счастья в другом туннеле, что начинался примерно в миле к северу. Русло реки отсекло от нас все южные туннели, и, окажись оба ближайших хода завалены, наше дальнейшее путешествие не состоится: не позволят батарейки – ведь до следующего, северного туннеля еще одна миля. Мы шли сумеречными лабиринтами, не выпуская из рук компас и карту, пересекали одну за другой комнаты и коридоры, находившиеся в разных стадиях обветшания, взбирались наверх, шагали по мостикам, опускались снова, упирались в заваленные проходы и груды мусора, зато на некоторых участках, поражавших по контрасту своей идеальной чистотой, почти бежали, наверстывая упущенное время. Иногда мы выбирали неверное направление, и тогда нам приходилось возвращаться, подбирая оставленные клочки бумаги, а несколько раз оказывались на дне открытой шахты, куда проникал, а точнее, как бы просачивался солнечный свет. И всюду нас мучительно притягивали к себе, дразня воображение, барельефы. Даже при беглом взгляде на них становилось ясно, что многие рассказывали о важнейших исторических событиях, и только уверенность в том, что мы еще не раз вернемся сюда, помогала нам преодолеть желание остановиться и получше их рассмотреть. Иногда мы все же замедляли шаги и зажигали второй фонарик. Будь у нас лишняя пленка, мы могли бы немного пощелкать фотоаппаратом, но о том, чтобы попытаться кое-что перерисовать, и речи не было.
Я приближаюсь к тому месту в своем рассказе, где мне хотелось бы – искушение очень велико – замолчать или хотя бы частично утаить правду. Но истина важнее всего: надо в корне пресечь всякие попытки вести в этих краях дальнейшие исследования. Итак, согласно расчетам, мы уже почти достигли входа в туннель, добравшись по мостику на втором этаже до угла этого пятиконечного здания, а затем спустившись в полуразрушенный коридор, в котором было особенно много по-декадентски утонченных поздних скульптур, явно обрядового назначения, когда около половины девятого Денфорт своим обостренным юношеским чутьем уловил непонятный запах. Будь с нами собака, она, почуяв недоброе, отреагировала бы еще раньше. Поначалу мы не могли понять, что случилось со свежайшим прежде воздухом, но вскоре память подсказала нам ответ. Трудно без дрожи выговорить это. Этот запах смутно, но безошибочно напоминал тот, от которого нас чуть не стошнило у раскрытой могилы одного из чудищ, рассеченных несчастным Лейком.
Мы, естественно, не сразу нашли ответ. Нас мучили сомнения, запаху находилось сразу несколько объяснений. А главное, нам не хотелось отступать – слишком уж мы приблизились к цели, чтобы поворачивать назад, не почувство явной угрозы. Кроме того, подозрения наши казались невероятными. В нормальной жизни такое не случается. Следуя некоему иррациональному инстинкту, мы несколько притушили фонарик, замедлили ход и, не реагируя более на мрачные декадентские скульптуры, угрожающе косившиеся на нас с обеих сторон, осторожно, на цыпочках двинулись дальше, почти ползком преодолевая кучи обломков и мусора, которых с каждым шагом становилось все больше.
Глаза у Денфорта тоже оказались острее моих, ведь именно он первым обратил внимание на некоторые странности. Мы уже успели миновать довольно много полузасыпанных арок, ведущих в покои и коридоры нижнего этажа, когда он заметил, что сор на полу не производит впечатления пролежавшего нетронутым тысячелетия. Прибавив свет в фонарике, мы увидели нечто вроде слабой колеи, словно здесь что-то недавно тащили. Разносортность мусора препятствовала образованию четких следов, но там, где он был мельче и однороднее, следы различались явственнее – видимо, тащили какие-то тяжелые предметы. Раз нам даже померещились параллельные линии, вроде как следы полозьев. Это заставило нас вновь остановиться.
Тогда-то мы и почувствовали еще один запах. Парадоксально, но он испугал нас одновременно и больше и меньше предыдущего: сам по себе он был вполне зауряден, но с учетом места и обстоятельств – невозможен, а потому заставил нас похолодеть от страха. Ведь пахло не чем иным, как бензином. Единственное, что приходило на ум, – не связано ли это как-то с Гедни.
Наше дальнейшее поведение пусть объясняют психологи. Мы понимали, что на это темное как ночь кладбище канувших в вечность времен прокралось нечто, подобное монстрам с базы Лейка, и потому не сомневались: впереди нас ждет встреча с неведомым. И все же продолжили путь – то ли из чистого любопытства, то ли из-за сумятицы в головах или под влиянием самогипноза, а может, нас влекло вперед беспокойство за судьбу Гедни. Денфорт напомнил мне шепотом о подозрительных следах на улице города и прибавил, что он также слышал слабые трубные звуки – очень важное свидетельство в свете оставленного Лейком отчета о вскрытии неизвестных тварей. Эти звуки, впрочем, могли сойти за эхо, гулко разносившееся по пещерам, изрешетившим горные вершины; похожие звуки доносились и откуда-то снизу, из таинственных недр. Я тоже прошептал ему на ухо свою версию, напомнив, в каком страшном виде предстал перед нашими взорами лагерь Лейка и сколько всего там исчезло: одинокий безумец мог совершить невозможное – перевалить через эти гигантские хребты и, подобно нам, войти в каменный первобытный лабиринт…
Но, поверяя друг другу свои догадки, мы не приходили к единому мнению. Стоя на месте, мы в целях экономии потушили фонарик и только тогда заметили, что в темноте чуть брезжится – это сверху просачивался свет. Непроизвольно двинулись дальше, включая теперь фонарик лишь изредка, чтобы убедиться, что идем в нужном направлении. Неприятный осадок от недавних следов не покидал нас, тем более что запах бензина становился все сильнее. Разруха усиливалась, мы спотыкались на каждом шагу и вскоре поняли, что впереди тупик. Наши пессимистические прогнозы оправдались, и виной была та глубокая расщелина, которую мы заметили еще с воздуха. Проход к туннелю был завален – даже к выходу не пробраться.
Зажженный фонарик высветил на стенах глухого коридора очередную серию барельефов и несколько дверных проемов, заваленных в разной степени каменными обломками. Из одного доносился острый запах бензина, почти заглушая другой запах. Приглядевшись, мы обратили внимание, что обломков и прочего мусора там поменьше, причем создавалось впечатление, что проход расчистили совсем недавно. Сомнений не было – путь к неведомому монстру лежал через эту дверь. Думаю, всякий поймет, что нам потребовалось изрядно потоптаться на пороге, прежде чем решиться войти.
Когда же мы все-таки ступили под эту черную арку, то первым чувством было недоумение. В этой уединенной замусоренной комнате – абсолютно квадратной, длина каждой из покрытых все теми же барельефами стен равнялась примерно двадцати футам, – не было ничего необычного, и мы инстинктивно закрутили головами, ища прохода дальше. Но тут зоркие глаза Денфорта различили в углу какой-то беспорядок, и мы разом включили оба фонарика. Зрелище было самым заурядным, но говорило о многом, и тут меня опять тянет оборвать рассказ. На слегка притоптанном мусоре что-то валялось, там же, судя по всему, недавно пролили изрядное количество бензина, от него, несмотря на несколько разреженный воздух, шел резкий запах. Короче говоря, здесь недавно устроили привал некие существа, так же, как и мы, стремящиеся попасть в туннель и точно так же остановленные непредвиденным завалом.
Скажу прямо. Все разбросанные вещи были похищены из лагеря Лейка – консервные банки, открытые непередаваемо варварским способом, как и на месте трагедии; обгоревшие спички; три иллюстрированные книги в грязных пятнах непонятного происхождения; пустой пузырек из-под чернил с цветной этикеткой; сломанная авторучка; искромсанные палатка и меховая куртка; использованная электрическая батарейка с приложенной инструкцией; коробка от обогревателя и множество мятой бумаги. От одного этого голова могла пойти кругом, но когда мы подняли и расправили несколько бумажек, то поняли, что самое худшее ожидало нас здесь. Еще в лагере Лейка нас поразил вид уцелевших бумаг, испещренных странными пятнами, но то, что предстало нашим взорам в подземном склепе кошмарного города, было абсолютно невыносимо.
Сойдя с ума, Гедни мог, конечно, подражая точечному орнаменту на зеленоватых камнях, воспроизвести такие же узоры на отвратительных, невероятных пятиугольных могилах, а затем повторить их тут, на этих листках; поспешные грубые зарисовки тоже могли быть делом его рук; мог он составить и приблизительный план места и наметить путь от обозначенного кружком ориентира, лежащего в стороне от нашего маршрута, – громадной башни-цилиндра, постоянно встречавшейся на барельефах, с самолета она нам виделась громадной круглой ямой, – до этого пятиугольного здания и дальше, до самого выхода в туннель.
Он мог, повторяю, начертить какой-никакой план, ведь, несомненно, источником для него, так же как и для наших наметок, послужили все те же барельефы в ледяном лабиринте, но разве сумел бы дилетант воспроизвести эту неподражаемую манеру рисунка: ведь, несмотря на явную поспешность и даже небрежность зарисовок, манера эта ощущалась сразу и намного превосходила декадентский рисунок поздних барельефов. Здесь чувствовалась характерная техника рисунка Старцев в годы наивысшего расцвета их искусства.
Не сомневаюсь, что многие сочтут нас с Денфортом безумцами из-за того, что мы не бросились тут же прочь, спасать свои жизни. Самые чудовищные наши опасения подтвердились, и те, кто читает сейчас мою исповедь, понимают, о чем я говорю. А может, мы и правда сошли с ума – ведь назвал же я эти страшные горы «Хребтами Безумия»? Но нас охватил тот безумный азарт, какой не покидает охотников, выслеживающих диких зверей где-нибудь в джунглях Африки и рискующих жизнью, только чтобы понаблюдать за ними и сфотографировать. Мы застыли на месте, страх парализовал нас, но где-то в глубине уже разгорался неуемный огонек любопытства, и он в конце концов одержал победу.
Мы, конечно, не хотели бы встретиться лицом к лицу с тем или с теми, кто побывал здесь, но у нас было ощущение, что они ушли. Должно быть, сейчас уже отыскали ближайший туннель, проникли внутрь и направляются на встречу с темными осколками своего прошлого, если только они сохранились в темной пучине – в неведомой бездне, которую они никогда прежде не видели. А если заблокирован и тот туннель, значит, пойдут на север в поисках другого. Им ведь не так, как нам, необходим свет – это мы помнили.
Возвращаясь мысленно в прошлое, затрудняюсь определить, какие именно эмоции овладели нами тогда, какую форму приняли и как изменился наш план действий в связи с острым предчувствием чего-то необычайного. Разумеется, мы не хотели бы столкнуться с существами, вызывавшими у нас столь жгучий страх, но, думаю, подсознательно жаждали хоть издали их увидеть, тайком подсмотреть из укромного убежища. Мы не расставались окончательно с мыслью увидеть воочию таинственную бездну, хотя теперь перед нами замаячила новая цель – дойти до места, которое на смятом плане было обозначено большим кругом. Было ясно, что так изобразили диковинную башню цилиндрической формы, которую мы видели даже на самых ранних барельефах, – ведь сверху она выглядела просто огромным круглым провалом. Даже на этом небрежном чертеже чувствовалось некое скрытое величие этой постройки, уважительное к ней отношение; это заставляло нас думать, что в той части, что находится ниже уровня льда, может найтись для нас много интересного. Башня вполне могла быть архитектурным шедевром. Судя по барельефам, построена она в непостижимо далекие времена – одно из старейших зданий города. Если там сохранились барельефы, они могут многое поведать. Кроме того, от нее мы могли бы, возможно, найти для себя более короткую дорогу, чем та, которую так последовательно метили клочками бумаги.
Начали мы с того, что тщательно изучили эти ошеломляющие зарисовки, которые вполне совпадали с нашими собственными, а затем отправились в обратный путь, точно придерживаясь указанного на листке маршрута, ведущего к цилиндрической башне. Наши неизвестные предшественники, должно быть, проделали этот путь дважды. Как раз за гигантским цилиндром начинался ближайший туннель. Не стану описывать нашу обратную дорогу, во время которой мы старались как можно экономнее тратить бумагу: ничего нового нам не повстречалось. Разве только теперь путь наш реже взмывал вверх, стелясь по самой земле и даже иногда опускаясь в подземелье. Не однажды замечали мы следы, оставленные прошедшими перед нами незнакомцами, а после того как запах бензина остался далеко позади, в воздухе вновь стал слышен слабый, но отчетливый неприятный запах, от которого нас бросило в дрожь. Свернув в сторону от прежнего маршрута, мы стали иногда включать фонарик, направляя свет на стены, и могу вас заверить, не было случая, чтобы при этом не высветился очередной барельеф – несомненно, то был наилюбимейший вид искусства у Старцев.
Около 9:30, двигаясь по длинному сводчатому коридору, обледеневший пол которого, казалось, уходил под землю, а потолок становился все ниже, мы заметили впереди яркий дневной свет и тут же выключили фонарик. Вскоре стало понятно, что наш коридор кончается просторной круглой площадкой вроде арены, до которой было уже рукой подать. Впереди вырисовывалась чрезвычайно низкая арка, совсем не типичная для мегалитов[7], и, даже не выходя, мы увидели довольно много интересного. Перед нами раскинулся огромный круг – не менее двухсот футов в диаметре, – заваленный обломками и прочим мусором, от него расходилось множество сводчатых коридоров, вроде того, которым шли мы, но большинство из них было основательно засыпано. По стене на высоте человеческого роста тянулась широкая полоса барельефов, и, несмотря на разрушительное действие времени, усиленное пребыванием под открытым небом, сомнений не оставалось: ничто из виденного нами ранее нельзя было поставить рядом с этими великолепными шедеврами. Толстый слой льда проступал из-под завалов мусора, и мы догадались, что настоящее дно открытого цилиндра глубоко внизу.
Но главной достопримечательностью места был огромный каменный пандус, который, не заслоняя коридоры, плавной спиралью взмывал ввысь внутри цилиндрического колосса, подобно своим двойникам в зиккуратах[8]Древнего Вавилона. Из-за скорости самолета, нарушившей перспективу, мы не заметили его с воздуха, потому-то и не направились к башне, когда решили спуститься под лед. Не сомневаюсь, что Пибоди доискался бы до принципа устройства этой конструкции, мы же с Денфортом могли только смотреть и восхищаться. Каменные консоли и колонны были великолепны, но мы не могли взять в толк, как это все функционирует. Время не повредило пандусу, что само по себе удивительно – ведь он находился под открытым небом; мало того, он еще предохранил от разрушения диковинные космические барельефы.
Опасливо ступили мы на частично затененное пандусом ледяное дно этого необыкновенного цилиндра – ведь ему было никак не меньше пятидесяти миллионов лет, без сомнения, то была самая древняя постройка изо всех, что нам пришлось увидеть, – мы обратили внимание, что стены его, увитые пандусом, возвышаются на полных шестьдесят футов. Это означало, судя по нашему впечатлению с самолета, что снаружи ледяной пласт тянулся вверх, обхватывая цилиндр, еще на сорок футов: ведь зияющая яма, которую мы отметили с самолета, находилась посредине холма высотой футов в двадцать, состоящего, как мы решили, из раздробленного каменного крошева. На три четверти яму затеняли массивные, нависшие над ней руины окружающих ее высоких стен. На древних барельефах мы видели первоначальный облик башни. Стоя в центре огромной площади, она взмывала ввысь на пятьсот-шестьсот футов, сверху ее покрывали горизонтальные диски, верхний из которых имел по краям остроконечные завершения в виде игольчатых шпилей. К счастью, разрушенная кладка сыпалась наружу – иначе рухнул бы пандус, полностью завалив интерьер башни. И так-то зрелище было довольно жалкое. А вот щебень от арок, казалось, недавно отгребли.
Не составляло особого труда понять: именно по этому пандусу спустились в подземелье неведомые пришельцы. Мы тут же решили выбраться отсюда тем же способом, благо башня находилась от оставленного в предгорье самолета на таком же расстоянии, что и внушительных размеров дом с колоннадой, через который мы проникли в сердце города. Зря, конечно, оставили за собой тропу из бумажек, ну да ладно. Остальную разведку можно провести и в этом месте. Вам может показаться странным, но мы до сих пор не оставили мысль о том, чтобы вернуться сюда и, может быть, даже не один раз – и это несмотря на все увиденное и домысленное. С превеликой осторожностью прокладывали мы путь сквозь груды обломков, но тут необычное зрелище заставило нас застыть на месте. За выступом пандуса стояли трое саней, связанные вместе и находившиеся ранее вне поля нашего зрения. Они-то и пропали из лагеря Лейка и вот теперь обнаружились здесь, изрядно расшатанные в дороге, – по-видимому, их тащили не только по снегу, но и по голым камням и завалам, а кое-где перетаскивали на весу. На санях лежали аккуратно увязанные и стянутые ремнями знакомые до боли вещи: наша печурка, канистры с бензином, набор инструментов, банки с консервами, завязанные узлом в брезент книги и еще какие-то тюки – словом, похищенный из лагеря скарб. После всего предыдущего мы не очень удивились находке, скажу больше – были почти к ней готовы. Однако когда, склонившись над санями, развязали брезентовый тюк, очертания которого меня почему-то смутно встревожили, нас как громом поразило. По-видимому, существам, побывавшим в лагере, тоже не была чужда страсть к научной систематизации, как и Лейку: в санях лежали два свежезамороженных экземпляра, раны вокруг шеи аккуратно залеплены пластырем, а, дабы избежать дальнейших повреждений, сами тела туго перевязаны. Надо ли говорить, что то были Гедни и пропавшая собака.
X
Наверное, многие сочтут нас бездушными и, конечно же, не вполне нормальными, но и после этой жуткой находки мы продолжали думать о северном туннеле, хотя, уверяю, мысль о дальнейшем путешествии на какое-то время оставила нас, вытесненная другими размышлениями. Закрыв тело Гедни брезентом, мы стояли над ним в глубокой задумчивости, из которой нас вывели непонятные звуки – первые услышанные с того момента, как мы покинули улицы города, где слабо шелестел ветер, спускаясь со своих заоблачных высот. Очень земные и хорошо знакомые нам звуки были настолько неожиданны в этом мире пагубы и смерти, что, опрокидывая все наши представления о космической гармонии, ошеломили нас сильнее, чем это сделали бы самые невероятные звучания и шумы.
Услышь мы загадочные и громкие трубные звуки, мы удивились бы меньше – результаты проведенного Лейком вскрытия подготовили нас к чему-то в этом роде, более того, наша болезненная фантазия после кровавой резни в лагере вынуждала нас чуть ли не в каждом завывании ветра чуять недоброе. Ничего другого не приходилось ожидать от этого дьявольского края вечной смерти. Здесь приличествовали кладбищенские, унылые песни канувших в прошлое эпох. Но услышанные нами звуки разом сняли с нас умопомрачение, в которое мы впали, уже и мысли не допуская, что в глубине антарктического континента может существовать хоть какая-то нормальная жизнь. То, что мы услышали, вовсе не исходило от захороненной в незапамятные времена дьявольской твари, разбуженной полярным солнцем, приласкавшим ее дубленую кожу. Нет, существо, издавшее этот крик, было до смешного заурядным созданием, к которому мы привыкли еще в плавании, недалеко от Земли Виктории, и на нашей базе в заливе Мак-Мердо; его мы никак не ожидали встретить здесь. Короче – этот резкий, пронзительный крик принадлежал пингвину.
Он доносился откуда-то снизу – как раз напротив коридора, которым мы только что шли, то есть со стороны проложенного к морской пучине туннеля. Присутствие в этом давно уже безжизненном мире животного, не способного существовать без воды, наводило на вполне определенные предположения, но прежде всего хотелось убедиться в реальности крика – а вдруг нам просто послышалось? Он, однако, повторился и даже умножился – орали уже в несколько глоток. Пойдя на звуки, мы вошли в арку, которую, видно, только недавно расчистили от завалов. Оставив дневной свет позади, мы возобновили нашу возню с клочками, тем более что позаимствовали, хоть и не без брезгливости, изрядную толику бумаги из тюка на санях.
Вскоре лед сменился открытой почвой, состоящей преимущественно из обломков детрита, – на ней явственно виднелись следы непонятного происхождения, как если бы что-то тащили, а раз Денфорт заметил очень четкий отпечаток, но о нем не стоит распространяться. Мы шли на крик пингвинов, что соответствовало направлению, в котором, как говорили нам и карта, и компас, находился вход в северный туннель; коридор, ведущий туда, к счастью, не был засыпан. Согласно плану, туннель шел из подвала большой пирамидальной конструкции, на которую мы обратили внимание еще во время полета над городом, – она сохранилась лучше многих других построек. Освещая путь единственным фонариком, мы видели, что нас и тут продолжают сопровождать барельефы, но теперь нам было не до них.
Впереди замаячил белый громоздкий силуэт, и мы поспешно включили второй фонарик. Как ни странно, мы тут же сосредоточились на новой загадке, позабыв о своих страхах. Те, что оставили часть снаряжения на дне огромного цилиндра и отправились на разведку к морской пучине, могли в любую минуту вернуться, но мы почему-то перестали принимать их во внимание. Беловатое существо, неуклюже ковылявшее впереди, было не менее шести футов росту, но мы ни минуты не сомневались, что оно не из тех, кто побывал в лагере Лейка. Те были выше и темнее, а по земле двигались, несмотря на свою приспособленность к жизни под водой, быстро и уверенно, – это мы поняли из барельефов. И все же, не буду скрывать, мы испугались. На какое-то мгновение нас охватил безотчетный ужас, пострашнее прежнего, осознанного, с которым мы ожидали встречи с существами, опередившими нас на пути к туннелю. Разрядка, впрочем, наступила быстро, стоило белому увальню свернуть, переваливаясь, в проход под арку, где к нему присоединились двое собратьев, приветствуя его появление резкими, пронзительными криками. Это был всего лишь пингвин, хотя и значительно превосходящий размерами обычных королевских пингвинов. Полная слепота еще более усугубляла отталкивающее впечатление, которое производил этот альбинос.
Мы последовали за нелепым созданием, а когда, ступив под арку, направили лучи обоих фонариков на безучастно топчущуюся в проходе троицу, то поняли, что слепыми были и остальные два представителя этого неизвестного науке вида пингвинов-гигантов. Они напоминали нам древних животных с барельефов Старцев, и мы быстро смекнули, что эти недотепы наверняка были потомками тех прежних великанов, которые выжили, уйдя от холода под землю; вечный мрак разрушил пигментацию и лишил их зрения, сохранив как бы в насмешку ненужные теперь узкие прорези для глаз. Мы ни на минуту не сомневались, что они и теперь обитают на берегах подземного моря, и это свидетельство продолжающегося существования пучины, по-прежнему дарующей тепло и пристанище тем, кто в них нуждается, наполнило нас волнующими чувствами.
Интересно, что заставило этих трех увальней покинуть привычную среду обитания? Особая атмосфера разора и заброшенности, царящая в громадном мертвом городе, не позволяла предположить, что он был для них сезонным пристанищем, а полнейшее равнодушие животных к нашему присутствию заставляло сомневаться, что их с обжитых мест могли вспугнуть опередившие нас незнакомцы – если, конечно, не набросились на пингвинов с целью пополнить свой запас продовольствия. А может, животных раздразнил висевший в воздухе едкий запах, от которого бесились собаки? Тоже маловероятно, ведь их предки жили в полном согласии со Старцами, и это должно было продолжаться и под землей. В сердцах посетовав, что не можем сфотографировать в интересах науки эти удивительнейшие экземпляры, мы обогнали их, еще долго слыша, как они гогочут и хлопают крыльями-ластами, и решительно направились вдоль указанного ими сводчатого коридора к неведомой бездне.
Вскоре на стенах исчезли барельефы, а коридор, став заметно ниже, резко пошел под уклон. Видимо, неподалеку находился вход в туннель. Мы поравнялись еще с двумя пингвинами; впереди слышались крики и гогот их собратьев. Неожиданно коридор оборвался, и у нас перехватило дыхание – перед нами находилась большая сферическая пещера, диаметром сто, а высотой пятьдесят футов; во все стороны от нее расходились низкие сводчатые галереи, и только один ход, пятнадцати футов высотой, нарушая симметрию, зиял огромной черной пустотой. То был, несомненно, путь, ведущий к Великой бездне.
Под сводом пещеры, которой явно пытались в свое время придать резцом вид небесной сферы (зрелище впечатляющее, хотя художественно малоубедительное), бродили незрячие и ко всему равнодушные пингвины-альбиносы. Туннель зазывно чернел, приглашая спуститься еще ниже, манил и сам вход, которому резец придал декоративную форму двери. Из таинственно зияющего отверстия, казалось, тянуло теплом, нам даже почудились струйки пара. Кого же еще, кроме пингвинов, скрывали эти бездонные недра и эти бесконечные ячейки, пронизывающие землю и гигантские хребты? Нам пришло в голову, что дымка, окутывавшая вершины гор, которой мы любовались с самолета и которую Лейк, обманувшись, принял за проявление вулканической активности, могла быть всего лишь паром, поднимающимся из самых глубин земли.
Туннель был выложен все теми же крупными глыбами, и поначалу ширина в нем равнялась высоте. Стены украшали редкие картуши, приметы позднего упаднического искусства, все здесь сохранилось превосходно – и кладка, и резьба. На каменной пыли отпечатались следы пингвинов и тех, других, опередивших нас. Одни следы вели в сферическую пещеру, другие – из нее. С каждым шагом становилось все теплее, и вскоре мы, расстегнув теплые куртки, шли нараспашку. Кто знает, не происходят ли там, под водой, вулканические выбросы, благодаря которым подземное море сохраняет тепло? Довольно скоро кладку сменила гладкая скальная поверхность, но это никак не отразилось на размерах туннеля, да и картуши украшали стены с той же регулярностью. Иногда спуск становился слишком крутым, и тогда мы нащупывали под ногами каменные ступени. Несколько раз нам попадались небольшие боковые галереи, не обозначенные на нашем плане, впрочем, они никак не могли нас запутать и помешать нашему быстрому возвращению, напротив, в случае опасности мы могли в них укрыться. Неприятный едкий запах тем временем все усиливался. Учитывая обстоятельства, лезть в туннель было чистым безумием, но в некоторых людях страсть к познанию перевешивает все, ей уступает даже инстинкт самосохранения, именно эта страсть и гнала нас вперед. Мы повстречали еще нескольких пингвинов. Сколько нам предстояло идти? Согласно плану, крутой спуск начинался за милю до бездны, но предыдущие скитания научили нас не очень-то доверяться масштабам на барельефах.
Через четверть мили едкий запах стал почти невыносимым, и мы с особой осторожностью проходили мимо боковых галерей. Струйки пара, напротив, исчезли – температура теперь всюду выровнялась, такого контраста, как при входе в туннель, больше не было. Становилось все жарче, и поэтому мы не удивились, увидев брошенную на пол до боли знакомую теплую одежду и скарб. В основном это были меховые куртки и палатки, пропавшие из лагеря Лейка, и нам совсем не хотелось рассматривать странные прорези, сделанные похитителями, подгонявшими вещи по своим фигурам. Вскоре число и размеры боковых галерей резко увеличилось, видимо, начинался район изрешеченных подземными ходами-ячейками предгорий.
К едкой вони теперь примешивался какой-то новый, не столь резкий запах, откуда он взялся, мы не понимали и только гадали: может, что-то гниет, или так своеобразно пахнет какая-нибудь неизвестная разновидность подземных грибов? Неожиданно туннель как по волшебству (карты нас к этому не подготовили) вдруг расширился, сменившись просторной, по-видимому, естественного происхождения пещерой овальной формы, с ровным каменным полом приблизительно семидесяти пяти футов длиной и пятидесяти – шириной. Отсюда расходилось множество боковых галерей, теряясь в таинственной мгле.
При ближайшем рассмотрении пещера оказалась вовсе не естественного происхождения: перегородки между отдельными ячейками были сознательно разрушены. Сами стены были неровными, с куполообразного потолка свисали сталактиты, а вот пол, казалось, только что вымели – никаких тебе обломков, осколков и даже пыли совсем немного. Чисто было и в боковых галереях, и это нас глубоко озадачило. Новый запах все усиливался, он почти вытеснил прежнее зловоние. От необычной чистоты, граничащей прямо-таки со стерильностью, мы потеряли дар речи, это казалось настолько необъяснимым, что произвело на нас более жуткое впечатление, чем все прежние странности. Прямо перед нами начиналась галерея, вход в которую был отделан более тщательно, чем все прочие; нам следовало выбрать его: на это указывали ведущие к нему внушительные груды пингвиньего помета. Решив не рисковать, мы, во избежание всяких случайностей, начали вновь рвать бумагу: ведь на следы рассчитывать не приходилось, чистота была прямо идеальная – никакой пыли. Войдя в галерею, мы привычно осветили фонариком стены и застыли в изумлении: как снизился уровень резьбы! Нам уже было известно, что во времена строительства туннелей искусство у Старцев находилось в глубоком упадке, и сами недавно воочию в этом убедились. Но теперь, на подступах к загадочной бездне, мы увидели перемены настолько разительные, что не могли найти им никаких объяснений. И форма, и содержание немыслимо деградировали, говорить о каком-либо мастерстве исполнения просто не приходилось.
В новой манере появилось нечто грубое, залихватское – никакой тонкости. Резьба в орнаментальных завитках была слишком глубокой, и Денфорту пришла мысль, что, возможно, здесь происходило как бы обновление рисунка, своего рода палимпсест – после того как обветшала и стерлась старая резьба. Новый рисунок был исключительно декоративным и традиционным – сплошные спирали и углы – и казался грубой пародией на геометрический орнамент Старцев. Нас не оставляла мысль, что не только техника, но само эстетическое чувство подверглось здесь грубому перерождению, а Денфорт уверял меня, что здесь не обошлось без руки «чужака». Рисунок сразу же вызывал в памяти искусство Старцев, но это сравнение порождало в нас одновременно и глубокое внутреннее неприятие. Непроизвольно вспомнилось мне еще одно неудачное подражание чужому стилю – пальмирские скульптуры, грубо копирующие римскую манеру. Те, что шли перед нами, тоже заинтересовались резьбой, об этом говорила использованная батарейка, брошенная рядом с наиболее типичным картушем.
Однако из-за недостатка времени мы бросили на эти необычные барельефы лишь беглый взгляд и почти тут же возобновили путь, хотя далее довольно часто направляли на стену лучи фонариков, высматривая, не появились ли еще какие-нибудь новшества. Но все шло как прежде, разве что увеличивалось расстояние между картушами: слишком много отходило от туннеля боковых галерей. Нам повстречалось несколько пингвинов, мы слышали их крики, но нас не оставляло чувство, что где-то в отдалении, глубоко под землей, гогочут и кричат целые стаи этих больших птиц. Новый запах непонятного происхождения почти вытеснил прежний, едкий. Вновь появившиеся в воздухе струйки пара говорили о нарастающей разнице температур и о близости морской бездны, таящейся в кромешной мгле. И тут вдруг, совершенно неожиданно, мы увидели впереди, прямо на сверкающей глади пола, какое-то препятствие – нет, совсем не пингвинов, а что-то другое. Решив, что непосредственной опасности как будто нет, мы включили второй фонарик.
XI
И вот снова слова застывают у меня на губах. Казалось бы, пора привыкнуть спокойнее на все реагировать, а может, даже ожесточиться, но в жизни случаются такие переживания, что ранят особенно глубоко, от них невозможно исцелиться, рана продолжает ныть, а чувствительность настолько обостряется, что достаточно оживить в памяти роковые события, и снова вспыхивают боль и ужас. Как я уже говорил, мы увидели впереди, на чистом блестящем полу, некое препятствие, и одновременно наши ноздри уловили все тот же новый запах, многократно усилившийся и смешавшийся с едкими испарениями тех, кто шел перед нами. При свете фонариков у нас не осталось никаких сомнений в природе неожиданного препятствия; мы не побоялись подойти поближе, потому что даже на расстоянии было видно, что распростертые на полу существа не способны больше никому причинить вреда – так же как и шестеро их товарищей, похороненных под ужасными пятиконечными надгробиями из льда в лагере несчастного Лейка. Как и у собратьев, почивших в ледяной могиле, у них были отсечены некоторые члены, а по расползавшейся темно-зеленой вязкой лужице было понятно, что печальное событие случилось совсем недавно. Мы увидели только четверых, хотя из посланий Лейка явствовало, что звездоголовых существ должно быть не менее восьми. Зрелище потрясло и одновременно удивило нас: что за роковая встреча произошла здесь, в кромешной тьме?!
Напуганные пингвины разъяренно щелкали клювами; по доносившимся издалека крикам мы поняли, что впереди – гнездовье. Неужели звездоголовые, потревожив птиц, навлекли на себя их ярость? Судя по характеру ран, такого быть не могло: ткани, которые с трудом рассек скальпелем Лейк, легко выдержали бы удары птичьих клювов. Кроме того, огромные слепые птицы вели себя исключительно мирно.
Может, звездоголовые поссорились между собой? Тогда вина ложилась на четверых отсутствующих. Но где они? Прячутся неподалеку и выжидают удобный момент, чтобы напасть на нас? Медленно продвигаясь к месту трагедии, мы опасливо поглядывали в сторону боковых галерей. Что бы здесь ни случилось, это очень напугало пингвинов, они необычайно всполошились. Возможно, схватка завязалась недалеко от гнездовья, где-нибудь на берегу бездонной темной пучины: ведь поблизости не было птичьих гнезд. Может, звездоголовые бежали от преследователей, хотели поскорее добраться до оставленных саней, но тут убийцы нагнали тех, кто послабее, и прикончили? Можно представить себе панику среди звездоголовых, когда нечто ужасное поднялось из темных глубин, распугав пингвинов, и те с криками и гоготом бросились в бегство.
Итак, мы опасливо приближались к загромоздившим проход истерзанным созданиям. Но не дошли, а, слава Создателю, бросились прочь, опрометью понеслись назад по проклятому туннелю, по его гладкому, скользкому полу, мимо издевательских орнаментов, открыто высмеивающих искусство, которому подражали. Мы бросились бежать прежде, чем уяснили себе, что же все-таки увидели, прежде чем наш мозг опалило знание, из-за которого никогда уже нам не будет на земле покоя!
Направив свет обоих фонариков на распростертые тела, мы поняли, что более всего встревожило нас в этой жуткой груде тел. Не то, что жертвы были чудовищно растерзаны и искалечены, а то, что все были без голов. Подойдя еще ближе, мы увидели, что головы не просто отрубили, а изничтожили каким-то дьявольским способом – оторвали или, скорее, отъели. Кровь, темно-зеленая, все еще растекавшаяся лужицей, источала невыносимое зловоние, но теперь его все больше забивал новый, неведомый запах – здесь он ощущался сильнее, чем прежде, по дороге сюда. Только на совсем близком расстоянии от поверженных существ мы поняли, где таится источник этого второго, необъяснимого запаха. И вот тогда Денфорт, вспомнив некоторые барельефы, живо воспроизводящие жизнь Старцев во время перми, сто пятьдесят миллионов лет назад, издал пронзительный, истошный вопль, отозвавшийся мощным эхом в этой древней сводчатой галерее со зловещей и глубоко порочной резьбой на стенах.
Секундой позже я уже вторил ему: в моей памяти тоже запечатлелся старинный барельеф, на котором неизвестный скульптор изобразил покрытое мерзкой слизью и распростертое на земле тело обезглавленного Старца; это чудовищные шогготы убивали таким образом своих жертв – отъедая головы и высасывая из них кровь; происходило это в годы их неповиновения, во время изнурительной, тяжелой войны с ними Старцев. Высекая эти кошмарные сцены, художник нарушал законы профессиональной этики, хотя и изображал события, уже канувшие в Лету: ведь шогготы и последствия их деяний явно были запретным для изображения предметом. Несомненно, на это существовало табу. Недаром безумный автор «Некрономикона» пылко заверял нас, что подобные твари не могли быть созданы на Земле и что они являлись людям только в наркотических грезах. Бесформенная протоплазма, до такой степени способная к имитированию чужого вида, органов и процессов, что копию трудно отличить от подлинника. Липкая пузырчатая масса… эластичные пятнадцатифутовые сфероиды, легко поддающиеся внушению послушные рабы, строители городов… все строптивее… все умнее… живущие и на земле, и под водой… и все больше постигающие искусство подражания! О Боже! Какая нелегкая дернула этих нечестивых Старцев создать этих тварей и пользоваться их услугами?!
Теперь, когда мы с Денфортом воочию увидели блестящую, маслянистую черную слизь, плотно обволакивающую обезглавленные тела, когда в полную силу вдохнули этот ни на что не похожий мерзкий запах, источник которого мог себе представить только человек с больным воображением – исходил он от слизи, которая не только осела на телах, но и поблескивала точечным орнаментом на грубо и вульгарно переиначенных картушах, – лишь теперь мы всем своим существом прочувствовали, что такое поистине космический страх. Мы уже не боялись тех четверых, которые сгинули неведомо где и вряд ли представляли теперь опасность. Бедняги! Они-то как раз не несли в себе зла. Природа сыграла с ними злую шутку, вызвав из векового сна: какой трагедией обернулось для них возвращение домой! То же станет и с остальными, если человеческое безумие, равнодушие или жестокость вырвут их из недр мертвых или спящих полярных просторов. Звездоголовых нельзя ни в чем винить. Что они сделали? Ужасное пробуждение на страшном холоде в неизвестную эпоху и, вполне вероятно, нападение разъяренных, истошно лающих четвероногих, отчаянное сопротивление, и, наконец, впридачу – окружившие их неистовые белые обезьяны в диковинных одеяниях… несчастный Лейк… несчастный Гедни… и несчастные Старцы. Они остались до конца верны своим научным принципам. На их месте мы поступили бы точно так же. Какой интеллект, какое упорство! Они не потеряли головы при встрече с неведомым, сохранив спокойствие духа, как и подобает потомкам тех, кто изображен на барельефах! Кого бы они ни напоминали внешним обликом – морских звезд или каких-то наземных растений, мифических чудищ или инопланетян, по сути своей они были людьми!
Они перевалили через заснеженные хребты, на склонах которых ранее стояли храмы, где они возносили хвалу своим богам; там же они прогуливались когда-то в зарослях древесных папоротников. Город, в который они так стремились, спал, объятый вечным сном, но они сумели, как и мы, прочитать на древних барельефах историю его последних дней. Ожившие Старцы пытались разыскать своих соплеменников здесь, в этих легендарных темных недрах, и что же они нашли? Примерно такие мысли рождались у нас с Денфортом при виде обезглавленных и выпачканных мерзкой слизью трупов. Затем мы перевели взгляд на резьбу, вызывавшую отвращение своей вульгарностью, над которой жирно поблескивала только что нанесенная гнусной слизью надпись из точек. Теперь мы поняли, кто продолжал жить, победив Старцев, в подводном городе на дне темной бездны, по краям которой устроили свои гнездовья пингвины. Ничего здесь не изменилось. Должно быть, и теперь над пучиной все так же дымятся клубы пара.
Шок от ужасного зрелища обезглавленных, перепачканных гнусной слизью тел был так велик, что мы застыли на месте, не в силах вымолвить ни слова, и только значительно позже, делясь своими переживаниями, узнали о полном сходстве наших мыслей. Казалось, прошли годы, на самом же деле мы стояли так, окаменевшие, не более десяти-пятнадцати секунд. И тут в воздухе навстречу нам поплыли легкие струйки пара, как бы от дыхания приближающегося к нам, но еще невидимого существа, а потом послышались звуки, которые, разрушив чары, открыли нам глаза, и мы опрометью бросились наутек мимо испуганно гогочущих пингвинов. Мы бежали тем же путем, топча брошенную нами бумагу, по извивавшимся под ледяной толщей сводчатым коридорам – назад, скорее в город! Выбежав на дно гигантского цилиндра, мы заторопились к древнему пандусу; оцепенело, автоматически стали карабкаться вверх – наружу, к спасительному солнечному свету! Только бы уйти от опасности!
Мы считали, в соответствии с гипотезой Лейка, что трубные звуки издают те, которые сейчас, в большинстве своем, были уже мертвы. Значит, кто-то уцелел! Денфорт позже признался, что именно такие звуки, только более приглушенные, он слышал при нашем вступлении в город, когда мы осторожно передвигались по ледяной толще. Они удивительно напоминали завывания, доносившиеся из горных пещер. Не хотелось бы показаться наивным, но все же прибавлю еще кое-что, тем более что Денфорту, по странному совпадению, пришла в голову та же мысль. Этому, конечно, способствовал одинаковый круг чтения; Денфорт к тому же намекнул, что, по его сведениям, По, работая сто лет назад над «Артуром Гордоном Пимом», пользовался неизвестными даже ученым тайными источниками. Как все, наверное, помнят, в этой фантастической истории некая огромная мертвенно-белая птица, живущая в самом сердце зловещего антарктического материка, постоянно выкрикивает некое никому неведомое слово, полное рокового скрытого смысла: «Текели-ли! Текели-ли!»
Уверяю вас, именно его мы расслышали в коварно прозвучавших за клубами белого пара громких трубных звуках. Они еще не отзвучали, а мы уже со всех ног неслись прочь, хотя знали, как быстро перемещаются Старцы в пространстве: выжившему участнику этой немыслимой бойни, тому, кто издал этот непередаваемый трубный клич, не стоило большого труда догнать нас – хватило бы минуты. Мы смутно надеялись, что нас может спасти отсутствие агрессии и открытое проявление нами добрых намерений – в преследователе могла проснуться любознательность. В конце концов, зачем причинять нам вред, если ему ничто не угрожает? Пробегая по галерее, где невозможно было укрыться, мы на секунду замедлили бег и, нацелив назад лучи фонариков, заметили, что облако пара рассеивается. Неужели мы наконец увидим живого и невредимого жителя древнего города? И тут снова прозвучало: «Текели-ли! Текели-ли!».
Преследователь отставал; может, он ранен? Но мы не решались рисковать: ведь он, услышав крик Денфорта, не убегал от врагов, а устремился вперед. Времени на размышления не было, оставалось только гадать, где сейчас пребывали убийцы его соплеменников, эти непостижимые для нас кошмарные создания, горы зловонной, изрыгающей слизь протоплазмы, покорившие подводный мир и направившие посланцев на сушу, где те, ползая по галереям, испоганили барельефы Старцев. Скажу откровенно, нам было жаль оставлять этого последнего и, возможно, раненого жителя города на почти верную смерть.
Слава Богу, мы не замедлили бег. Пар вновь сгустился, мы летели вперед со всех ног, а позади, хлопая крыльями, испуганно кричали пингвины. Это было само по себе странно, если вспомнить, как вяло реагировали они на наше присутствие. Вновь послышался громкий трубный клич: «Текели-ли! Текели-ли!» Значит, мы ошибались. Звездоголовый не был ранен, он просто задержался у трупов своих товарищей, над которыми поблескивала на стене надпись из гнусной слизи. Неизвестно, что означала дьявольская надпись, но она могла оскорбить звездоголового: похороны в лагере Лейка говорили о том, что Старцы безмерно чтут своих усопших. Включенные на полную мощь фонарики высветили впереди ту, уже известную нам большую пещеру, где сходилось множество подземных ходов. Мы облегченно вздохнули, вырвавшись наконец из плена загаженных шогготами стен: даже не разглядывая мерзкую резьбу, мы ощущали ее всем своим естеством.
При виде пещеры нам пришло также в голову, что, возможно, наш преследователь затеряется в этом лабиринте. Находившиеся здесь слепые пингвины-альбиносы пребывали в страшной панике, казалось, они ожидают появления чего-то ужасного. Можно попробовать притушить фонарики и в надежде, что испуганно мечущиеся и гогочущие огромные птицы заглушат наш слоновий топот, юркнуть прямиком в туннель: кто знает, вдруг удастся обмануть врага. В туманной дымке грязный, тусклый пол основного туннеля почти не просматривался, разительно отличаясь от зловеще поблескивавшей позади нас галереи; тут даже Старцам с их шестым чувством, позволявшим до какой-то степени ориентироваться в темноте, пришлось бы туго. Мы и сами боялись промахнуться, угодить не в тот коридор, ведь у нас была одна цель – мчаться что есть силы по туннелю в направлении мертвого города, а попади мы ненароком в одну из боковых галерей, последствия могли быть самые непредсказуемые.
То, что мы сейчас живы, доказывает, что существо, гнавшееся за нами, ошиблось и выбрало не тот путь, мы же чудом попали куда надо. И еще нам помогли пингвины и туман. К счастью, водяные пары, то сгущаясь, то рассеиваясь, в нужный момент закрыли нас плотной завесой. А вот раньше, когда мы только вбежали в пещеру, оставив позади оскверненную гнусной резьбой галерею, и в отчаянии оглянулись назад, вот тогда дымка несколько разошлась, и перед тем как притушить фонарики и, смешавшись с пингвиньей стаей, попытаться незаметно улизнуть, мы впервые увидели догонявшую нас тварь. Судьба была благосклонна к нам позже, когда скрыла нас в тумане, а в тот момент она явила нам свой грозный лик: мелькнувшее видение отняло у нас покой до конца наших дней.
Заставил нас обернуться извечный инстинкт догоняемой жертвы, которая хочет знать, каковы ее шансы, хотя, возможно, здесь примешались и другие подсознательные импульсы. Во время бегства все в нас было подчинено одной цели – спастись, мы не замечали ничего вокруг и, уж конечно, ничего не анализировали, но в мозг тем не менее, помимо нашей воли, поступали сигналы, которые посылало наше обоняние. Все это мы осознали позже. Удивительно, но запах не менялся! В воздухе висело все то же зловоние, которое поднималось ранее над измазанными слизью, обезглавленными трупами. А ведь запаху следовало бы измениться! Этого требовала простая логика. Теперь должен преобладать прежний едкий запах, неизменно сопровождавший звездоголовых. Но все наоборот: ноздри захлестывала та самая вонь, она нарастала с каждой секундой, становясь все ядовитее.
Казалось, мы оглянулись одновременно, как по команде, но на самом деле, конечно же, первым был один из двоих, хотя второй тут же последовал его примеру. Оглянувшись, мы включили на полную мощность фонарики и направили лучи на поредевший туман. Поступили мы так, возможно, из обычного страха, желая знать, в чем именно заключается опасность, а может, из подсознательного стремления ослепить врага, а потом, пока он будет приходить в себя, скользнув меж пингвинов, юркнуть в туннель. Но лучше бы нам не оглядываться! Ни Орфей, ни жена Лота не заплатили больше за этот безрассудный поступок! И тут снова послышалось ужасное «Текели-ли! Текели-ли!».
Буду предельно откровенным, хотя откровенность дается мне с большим трудом, и доскажу все, что увидел. В свое время мы даже друг с другом избегали говорить на эту тему. Впрочем, никакие слова не передадут и малой толики пережитого ужаса. Зрелище настолько потрясло нас, что можно только диву даваться, как это у нас хватило соображения притушить фонарики да еще выбрать правильное направление. Есть только одно объяснение: нами руководил инстинкт, а не разум. Может, так оно было и лучше, но все равно за свободу мы заплатили слишком большой ценой. Во всяком случае, с рассудком у нас с тех пор не совсем в порядке.
Денфорт совершенно потерял голову; помнится, весь обратный путь он твердил на бегу одно и то же, для любого нормального человека это звучало бы чудовищным бредом – только один я понимал, откуда все взялось. Голос его разносился эхом по коридорам, теряясь среди криков пингвинов и замирая где-то позади, в туннеле, где, к счастью, уже никого не было. Слава Богу, он забубнил этот бред не сразу после того, как оглянулся, иначе нас давно уже не было бы в живых. Страшно даже вообразить себе нашу возможную участь.
«Саут-стейшн – Вашингтон-стейшн – Парк-стейшн – Кендалл-стейшн – Сентрел-стейшн – Гарвард…»
Бедняга перечислял знакомые станции подземки, проложенной из Бостона в Кембридж за тысячи миль отсюда, в мирной земле Новой Англии, но мне его нервный лепет не казался ни бредом, ни некстати проснувшимся ностальгическим чувством. Денфорт находился в глубоком шоке, но я тут же безошибочно уловил пришедшую ему на ум болезненную аналогию.
Оглядываясь, мы ни на минуту не сомневались, что увидим жуткое чудище, но все же вполне определенное – к обличью звездоголовых мы как-то привыкли и смирились с ним. Однако в зловещей дымке вырисовывалось совершенно другое существо, гораздо более гнусное. Оно казалось реальным воплощением «чужого», инородного организма, какие любят изображать наши фантасты, и больше всего напоминало движущийся состав, если смотреть на него с платформы станции метро. Темная громада, усеянная ярко светящимися разноцветными точками, рвалась из подземного мрака, как пуля из ствола.
Но мы находились не в метро, а в подземном туннеле, а за нами гналась, синусоидно извиваясь, кошмарная черная блестящая тварь, длиною не менее пятнадцати футов, изрыгавшая зловоние и все более набиравшая скорость; густой пар окружал ее, восставшую из морских глубин. Это невообразимое чудовище – бесформенная масса пузырящейся протоплазмы – слабо иллюминировало, образуя тысячи вспыхивавших зеленоватым светом и тут же гаснувших глазков, и неслось прямо на нас; массивнее любого вагона, оно безжалостно давило испуганных беспомощных пингвинов, скользя по сверкающему полу – ведь именно эти твари отполировали его до полного блеска. Вновь издевательски прогремел дьявольский трубный глас: «Текели-ли! Текели-ли!». И тут мы вспомнили, что этим нечестивым созданиям, шогготам, Старцы дали все – жизнь, способность мыслить, пластические органы; шогготы пользовались их точечным алфавитом и, конечно же, подражали в звучании языку своих бывших хозяев.
XII
Не все запомнилось нам с Денфортом из нашего поспешного бегства, но кое-что все-таки удержалось в памяти. Помним, как пробежали громадную пещеру, куполу которой Старцы придали черты небесной сферы; как, несколько успокоившись, шли потом коридорами и залами мертвого города, но все это помним как во сне. Как будто мы находились в иллюзорном, призрачном мире, в некоем неизвестном измерении, где отсутствовали время, причинность, ориентиры. Нас несколько отрезвил сумеречный дневной свет, падавший на дно гигантской цилиндрической башни, но мы все же не осмелились приблизиться к оставленным саням и взглянуть еще раз на несчастного Гедни и собаку. Они покоились здесь как на дне огромного круглого мавзолея, и я от всей души надеюсь, что их мертвый сон никто и никогда не потревожит.
Лишь взбираясь по колоссальному пандусу, мы осознали, насколько устали; от долгого бега в разреженной атмосфере перехватывало дыхание, но ничто не могло заставить нас остановиться и перевести дух, пока мы не выбрались наружу и не оказались под открытым небом. Карабкаясь на вершину сработанного из цельных глыб шестидесятифутового цилиндра, пыхтя и отдуваясь, мы тем не менее понимали, что сейчас происходит наше глубоко символичное прощание с городом: параллельно пандусу шли широкой полосой героические барельефы, выполненные в изумительной технике древней эпохи сорок миллионов лет назад, – последний привет от Старцев.
Поднявшись на вершину башни, мы, как и предполагали, обнаружили, что спускаться нам предстоит по замерзшему каменному крошеву, окружившему башню снаружи на манер холма. На западе высились другие, не менее громадные постройки, на востоке же, в той стороне, где дремали вдали занесенные снегом вершины великих гор, здания обветшали и были заметно ниже. Косые лучи низкого антарктического полночного солнца пробивались сквозь строй покосившихся руин, а город по контрасту со знакомым полярным пейзажем казался еще древнее и угрюмее. В воздухе дрожала и переливалась снежная пыль, мороз пробирал до костей. Устало опустив рюкзаки, которые лишь чудом сохранились во время нашего отчаянного бегства, мы застегнули пуговицы на куртках и начали спуск. Потом побрели по каменному лабиринту к подножью гор, где нас дожидался самолет. За весь путь мы ни словом не обмолвились о том, что побудило нас спасаться бегством, так и не позволив побывать на краю загадочной и самой древней бездны на Земле.
Меньше чем через четверть часа мы по крутой древней террасе спустились туда, откуда был виден темный силуэт нашего самолета, оставленного на высокой площадке среди вмерзших в лед редких руин. На полпути к нему мы остановились, переводя дух, и посмотрели еще раз на оставленные позади фантастические каменные джунгли, четко и таинственно отпечатанные на фоне неба. В это время туманная дымка, затягивавшая западную сторону небосвода, рассеялась, снежная пыль устремилась ввысь, сливаясь в некий диковинный узор, за которым, казалось, вот-вот проступит некая страшная, роковая тайна.
За сказочным городом, на совершенно белом небосклоне протянулась тонкая фиолетовая ломаная линия, ее острые углы, озаренные розовым сиянием, призрачно вырисовывались на горизонте. Плоскогорье постепенно шло ввысь – к этому таинственно мерцавшему и манившему венцу; местность пересекало бывшее русло реки, похожее теперь на неровно легшую тень. У нас захватило дух от неземной красоты пейзажа, а сердце екнуло от страха. Далекая фиолетовая ломаная линия была не чем иным, как проступившим силуэтом зловещих гор, к которым жителям города запрещалось приближаться. Эти высочайшие на Земле вершины являлись, как мы поняли, средоточием чудовищного Зла, вместилищем отвратительных пороков и мерзостей; им опасливо поклонялись жители древнего города, страшившиеся приоткрыть их тайну даже на своих барельефах. Ни одно живое существо не ступало на склоны загадочных гор – лишь жуткие, наводящие ужас молнии задерживались в долгие полярные ночи на их острых вершинах, освещая таинственным светом землю далеко вокруг. На полярных просторах они стали как бы прообразом непостижимого Кадата, находившегося за зловещим плато Ленг, о чем смутно упоминается в древних легендах.
Если верить виденным нами барельефам и резным картам, до загадочных фиолетовых гор было почти триста миль, однако очертания их четко проступали над раскинувшейся снежной гладью, а зубчатые вершины, круто взмывая ввысь, вызывали ощущение того, что они находятся на чужой, полной неведомых опасностей планете. Высота этих вершин была немыслимой, недоступной человеческому воображению, они уходили в сильно разреженные слои земной атмосферы, которые посещали разве что призраки – ведь ни один из дерзких воздухоплавателей не остался в живых, чтобы поведать о своем непонятном, не поддающемся объяснению внезапном крушении. Вид гигантских гор заставлял меня не без дрожи вспоминать барельефные изображения, которые подсказывали нам, что великая река могла нести с проклятых склонов нечто, державшее жителей города в смертном ужасе, и я мысленно задавал себе вопрос: а не был ли их страх порождением укоренившегося предрассудка? Я припомнил также, что горы эти своей северной оконечностью выходят к побережью в районе Земли Королевы Мери, где, в тысяче миль отсюда, именно сейчас работает экспедиция сэра Дугласа Моусона, и от всей души пожелал, чтобы ни с научным руководителем, ни с прочими членами экспедиции не случилось ничего дурного и чтобы они даже не заподозрили, сколь опасные гиганты таятся за грядой прибрежных скал. Эти мысли ужасно угнетали меня, нервная система была напряжена до предела, а Денфорт просто находился на грани срыва.
Однако еще задолго до того, как мы, миновав руины пятиконечного Утроения, достигли самолета, наши неопределенные страхи обрели вполне четкую мотивацию. Черные, усеянные вмерзшими в лед руинами склоны Хребтов Безумия, заслонив от нас высоченной стеной восточную часть неба, вновь напомнили нам о таинственных азиатских полотнах Николая Рериха. То и дело возвращаясь мыслями к ужасным бесформенным тварям, которые, изрыгая зловоние, копошились в подземных норах, пронизывавших хребты вплоть до вершин, мы содрогались от страха, представляя, как будем вновь пролетать над круглыми отверстиями, пробуравленными в земле, и как от трубного завывания ветра у нас будет холодеть в груди. Хуже того – кое-какие вершины окутывал туман (бедняга Лейк принял это за проявление вулканической деятельности), и мы ежились, вспоминая туманные завитки в подземном туннеле и представляя себе адскую бездну, от которой восходил весь этот пар.
Самолет благополучно дожидался нас на прежнем месте, и мы, напялив на себя всю теплую одежду, приготовились к взлету. Денфорт легко завел мотор, и самолет без труда плавно взмыл в воздух, унося нас от кошмарного города. Внизу вновь поплыл каменный лабиринт, а мы поднимались все выше, замеряя силу и направление ветра. Должно быть, где-то в верхних слоях зарождалась буря, мы видели, как бешено мчались там облака, но на высоте двадцати четырех тысяч футов, над перевалом, условия для перелета через горы были довольно сносные. Когда мы приблизились к торчащим пикам, вновь послышались странные трубные звуки, отчего у Денфорта, сидевшего у штурвала, затряслись руки. Хотя я был средним пилотом, скорее дилетантом, но тут все же решил вести самолет сам: в сложных условиях лавирования между пиками слишком опасно было доверять управление человеку, потерявшему голову от страха. Денфорт даже не протестовал. Собрав всю свою волю, я сосредоточился на управлении и, стараясь вести самолет как можно увереннее, не сводил глаз с красноватого клочка неба, открывшегося в провале между пиками. Я сознательно избегал смотреть на клубившийся у вершины туман и, слыша тревожные трубные звуки, завидовал в душе Одиссею, который в подобной ситуации, чтобы не внимать чарующему пению Сирен, залепил уши воском.
Денфорт же, оставшись без дела и томясь внутренним беспокойством, не мог спокойно усидеть на месте. Он все время крутил головой: провожал взглядом оставшийся позади город, глядел вперед на приближавшиеся вершины, изрытые пещерами и усеянные прямоугольными руинами, поворачивался то в одну, то в другую сторону, где проплывали внизу заснеженные предгорья с утопавшими в снегу развалинами крепостных стен, а иногда устремлял взор в небо, следя за фантастическими сочетаниями мчавшихся над нами облаков. Вдруг у самого перевала, когда я, вцепившись в штурвал, преодолевал самый ответственный участок пути, раздался его истошный вопль, который чуть не привел к катастрофе: штурвал дрогнул у меня в руках и я едва не потерял управление. К счастью, мне удалось совладать с волнением и мы благополучно завершили перелет, но вот Денфорт… Боюсь, он никогда теперь не обретет душевного равновесия.
Как я уже говорил, Денфорт наотрез отказался поведать мне, что за кошмарное зрелище заставило его завопить с такой силой, а ведь именно оно окончательно лишило юношу покоя. Оказавшись по другую сторону Хребтов Безумия и чувствуя себя в безопасности, мы наконец заговорили, обмениваясь громкими (чтобы перекричать шум мотора и завывания ветра) замечаниями; в основном они касались наших взаимных обещаний не разглашать ничего имеющего отношение к древнему городу. Эти поистине космические тайны не должны были стать достоянием широкой публики, предметом зубоскальства, и, клянусь, я никогда бы и рта не раскрыл, если бы не вполне реальная перспектива работы в тех краях экспедиции Старкуэтера-Мура и прочих научных коллективов. В интересах безопасности человечества нельзя бесцеремонно заглядывать в потаенные уголки планеты и проникать в ее бездонные недра, ибо дремлющие до поры монстры, выжившие адские создания могут восстать ото сна, могут выползти из своих темных нор, подняться со дна подземных морей, готовые к новым завоеваниям.
Мне удалось выпытать у Денфорта, что его последнее ужасное зрительное впечатление напоминало мираж. По его словам, оно не имело ничего общего ни с кубическими сооружениями на склонах, ни с поющими, источающими пар пещерами Хребтов Безумия. Мелькнувшее среди облаков дьявольское видение открыло ему, что таят фиолетовые горы, которых так боялись и к которым не осмеливались приближаться Старцы. Возможно, видение являлось наполовину галлюцинацией, вполне вероятной после перенесенных нами испытаний, а наполовину – тем не распознанным им миражом, который мы уже созерцали, подлетая днем назад к лагерю Лейка. Но что бы это ни было, оно лишило Денфорта покоя до конца его дней.
Иногда с его губ срываются бессвязные, лишенные смысла словосочетания вроде: «черная бездна», «резные края», «протошогготы», «пятимерные, наглухо закрытые конструкции», «мерзкий цилиндр», «древний Фарос», «Йог-Сотот», «исходная белая студнеобразная структура», «космический оттенок», «крылья», «глаза в темноте», «лунная дорожка», «первозданный, вечный, неумирающий» и прочие странные словосочетания. Придя в себя, он ничего толком не объясняет, связывая свои темные высказывания с неумеренным чтением в юные годы опасной эзотерической литературы. Денфорт, один из немногих, осмелился дочитать до конца источенный временем том «Некрономикона», хранившийся под замком в библиотеке университета.
Помнится, когда мы летели над Хребтами Безумия, небо хмурилось, и хотя я ни разу не посмотрел вверх, но, думаю, клубившиеся снежные вихри принимали там фантастические очертания. Быстро бегущие облака могли усилить, дополнить и даже исказить картину, воображение – с легкостью разукрасить ее еще больше, а к тому времени, когда Денфорт впервые заикнулся о своем кошмарном видении, оно успело также обрасти аллюзиями из его давнего чтения. Не мог узреть он так много в одно мгновение.
Тогда же, над хребтами, он истошно вопил одно и то же – безумные, услышанные нами одновременно слова: «Текели-ли! Текели-ли!»
Тайна Чарлза Декстера Уорда
Жизненныя соли зверей тако приготовлять и сохранять можно, что ученый муж в комнате своей хоть целый Ноев ковчег соберет и форму всякого зверя из праха подымет. Такожде из солей человеческих философ способен без преступной некромантии форму любого предка из пепла возродить, где бы его тело прежь огню ни предали.
Бореллий
Перевод Екатерины Романовой
I. Исход и пролог
1
Недавно из частной лечебницы для душевнобольных близ Провиденса, Род-Айленд, исчез в высшей степени необыкновенный человек. Звали его Чарлз Декстер Уорд, а в больницу его поместил убитый горем отец, на глазах которого незначительные странности в поведении сына переросли в зловещую манию с наклонностью к насилию и поразительно глубокими переменами в образе и характере мыслей. Врачи признавались, что состояние пациента – совершеннейшая для них загадка, ведь отклонения носили как общий физиологический, так и психологический характер.
Во-первых, пациент выглядел много старше своих лет (ему было двадцать шесть). Душевные болезни действительно имеют свойство старить, однако на лице молодого человека как будто лежала едва уловимая печать, каковая отмечает лица глубоких стариков. Во-вторых, естественные процессы в его организме отличались невиданной в медицинской практике несообразностью: дыхание и сердцебиение поразила загадочная аритмия, голос почти полностью пропал, пищеварение крайне замедлилось, а нервные реакции на раздражители не походили на известные – будь то здоровые или патологические. Кожа была болезненно холодной и сухой, клеточная структура тканей выглядела неестественно грубой и рыхлой. Вдобавок у Уорда отчего-то исчезло большое родимое пятно на правом бедре, а на груди появилась диковинная черная родинка. Кроме того, все врачи и исследователи сходились во мнении, что обмен веществ в организме Уорда недопустимо замедлен.
Не поддавались объяснениям и перемены в психике Чарлза Уорда. Его безумие не имело ни малейшего сходства с недугами, описанными даже в самых современных научных трудах, вдобавок душевной болезни сопутствовала такая острота ума, что Уорд мог бы стать гениальным ученым или выдающимся политиком, не прими его рассудок столь причудливых и безобразных форм. Доктор Уиллет, семейный врач Уордов, подтвердил, что изрядные умственные способности пациента, если рассматривать их отдельно от душевной болезни, после припадка стали и вовсе незаурядными. Действительно, Уорд с детства интересовался литературой и историей, но даже в самых удачных его трудах не чувствовалось той удивительной прозорливости и способности проникновения в суть вещей, какие он проявлял во время осмотров психиатрами. Нелегко было найти вескую причину для помещения Уорда в больницу – таким ясным и острым казался его ум; лишь свидетельства других людей и странные пробелы в кругозоре (при столь редкой проницательности) позволили врачам признать его невменяемым. До самого дня исчезновения Уорд много читал и охотно, насколько позволял слабый голос, беседовал с окружающими; многие внимательные наблюдатели (не сумевшие, однако, предсказать его побег) прочили Уорду скорейшую выписку и возвращение домой.
Мысль о выписке Уорда ужасала лишь доктора Уиллета, принимавшего роды у матери Чарлза Уорда и с тех пор наблюдавшего за развитием его души и тела. Недавно он стал свидетелем страшных событий и сделал жуткое открытие, о котором боялся поведать своим скептически настроенным коллегам. Отношение Уиллета к делу Чарлза Декстера Уорда – само по себе загадка. Он был последним, кто видел пациента перед побегом из лечебницы, и после разговора с юношей, по свидетельству нескольких человек, пребывал в состоянии ужаса и одновременно облегчения. Побег Чарлза Уорда по сей день остается нераскрытой тайной лечебницы доктора Уэйта. Пациент не мог сбежать через окно, открытое над пропастью в шестьдесят футов, и все же после разговора с доктором Уиллетом юноша в самом деле исчез. У многих, правда, сложилось впечатление, что доктор мог бы рассказать больше о той последней встрече с Чарлзом, если бы знал, что ему поверят. После того как он покинул палату, работники лечебницы долго и тщетно стучали в запертую дверь. Когда же ее вскрыли, пациента внутри не оказалось, а промозглый апрельский ветер из открытого окна поднял в воздух облако тонкой голубовато-серой пыли, которая чуть не задушила вошедших. Незадолго до этого громко выли собаки, но то было еще при докторе Уиллете, и вскоре они успокоились. Врачи сразу же позвонили отцу Уорда, однако тот не столько удивился, сколько опечалился. Когда же доктор Уэйт нанес ему личный визит, мистер Уорд уже побеседовал с доктором Уиллетом и оба категорически отрицали свою причастность к побегу Чарлза. Несколько догадок удалось выжать лишь из близких друзей Уиллетта и Уорда-старшего, однако они были столь неправдоподобными и надуманными, что доверия не вызывали. До сего времени не обнаружено ни единого следа пропавшего безумца.
Чарлз Уорд с детства интересовался стариной – несомненно, формированию его увлечений способствовали освященный веками родной город и реликвии прошлого, коих оказалось немало в фамильном особняке на Проспект-стрит, стоящем на самой вершине холма. С годами любовь Чарлза к древностям только усиливалась, и в конце концов история, генеалогия, колониальная архитектура и интерьеры целиком захватили мысли юноши, вытеснив все прочее из круга его интересов. Об этих предпочтениях необходимо помнить, изучая историю душевной болезни Чарлза Декстера Уорда; пусть они не составляли ее ядра, характерную форму его безумию придали именно они. Пробелы в картине мира, выявленные психиатрами, неизменно касались современной жизни, на фоне которых особенно ярко выделялись обширные познания пациента в области давно минувшего. Казалось, Уорд словно бы перенесся в прошлый век посредством некоего таинственного самогипноза. Еще удивительнее было то, что его интерес к старине внезапно иссяк; он словно бы забросил источник знаний, вычерпав его до дна, а все умственные усилия направил на знакомство с окружающим миром, познания о котором вдруг начисто и безвозвратно стерлись из его разума. Сей факт Чарлз Уорд пытался всячески скрыть, но каждому было ясно, что его жажда к чтению и беседам с окружающими объясняется отчаянными попытками наверстать упущенное, вобрать как можно больше знаний о собственной жизни и культурно-бытовых особенностях современного мира, о которых должен быть осведомлен всякий, кто родился в 1902 году и получил образование в учебных заведениях своего времени. Теперь психиатры задаются вопросом, как же беглецу со столь искаженными и убогими воззрениями удается существовать в нашем сложном мире; большинство убеждены, что он «затаился» и восполняет пробелы в знаниях.
Начало душевной болезни Уорда также стало для психиатров предметом жарких споров. Доктор Лайман, выдающийся бостонский врач, считает временем ее зарождения 1919–1920 годы, когда мальчик доучивался в школе Моисея Брауна. Тогда-то он и переключился с изучения прошлого на оккультные науки, а затем отказался поступать в университет, объясняя это тем, что ему предстоят более важные исследования. Гипотеза эта подтверждается внезапной переменой в деятельности Уорда: он вдруг принялся копаться в городских архивах и бродить по старым кладбищам в поисках некой могилы, где в 1771 году был захоронен его предок по имени Джозеф Кервен. Личные бумаги этого человека Чарлз случайно обнаружил за деревянными панелями ветхого дома в Олни-корте, который, как известно, Кервен выстроил для себя в середине XVIII века и где жил до самой смерти. Словом, зимой 1919–1920-го в Чарлзе Уорде произошли перемены, из-за которых он бросил занятия историей и полностью погрузился в жадное изучение оккультных наук – как дома, так и за границей, – которое прерывал временами лишь с тем, чтобы продолжить на удивление упорные поиски могилы давнего предка.
Доктор Уиллет, однако, решительно против этой гипотезы. В качестве довода он приводит близкое знакомство с пациентом, а также сделанные им недавно чудовищные открытия. Эти исследования и находки наложили на разум Уиллета тяжелый отпечаток: голос его дрожит, когда он пытается о них рассказать, а руки трясутся, стоит ему взять перо. Уиллет признает, что зима 1919–1920-го действительно отмечает собой начало прогрессирующего ухудшения, каковое достигло своей ужасной кульминации в полном умственном помешательстве 1928 года. Однако его личные наблюдения показывают, что здесь многое необходимо уточнить. Спокойно соглашаясь, что мальчик всегда был несколько неуравновешен, чрезмерно впечатлителен и восторжен в своих реакциях на окружающие явления, Уиллет наотрез отказывается признавать, что вышеупомянутые первые перемены ознаменовали собой переход от нормального психического состояния к безумию, и приводит письмо Уорда о неком открытии или переоткрытии, способном в значительной степени изменить человечество. Настоящее безумие, убежден Уиллет, пришло вместе с другими, более поздними переменами в его сущности: после обнаружения портрета Кервена и его личных бумаг; после того как Уорд побывал в странном европейском замке и при загадочных обстоятельствах прочел ужасные заклинания, на которые получил ответ и в страшном возбуждении написал последнее отчаянное письмо; после волны вампиризма, пронесшейся по городу, и странных слухах из деревни Потакет; после того как из памяти пациента вдруг стерлось понятие о современном мире, а психика и характер претерпели неуловимые изменения, замеченные впоследствии столь многими.
Лишь после всего этого, тщательно подчеркивает Уиллет, его пациенту стали присущи некоторые страшные качества и особенности. Вдобавок доктор с содроганием заверяет, что Уорд не лгал, говоря об открытии, которое может изменить мир. Во-первых, свидетелями обнаружения бумаг Джозефа Кервена стали двое весьма надежных и неглупых рабочих. Во-вторых, Уорд сам однажды показывал доктору Уиллету эти старинные бумаги и страницу из дневника Кервена – то есть в подлинности документов сомнений не возникало. Потайную нишу, в которой Уорд их нашел, давно заделали, но много позже Уиллет своими глазами увидел их в самой немыслимой и невообразимой обстановке. Загадочные письма Орна и Хатчинсона; улики касательно таинственного исчезновения доктора Аллена; карандашная записка, начертанная средневековым минискулом и обнаруженная Уиллетом в собственном кармане после страшных и незабываемых событий, – все свидетельствовало в пользу правдивости этого смелого заявления.
Самым же убедительным доводом можно считать ужасающие результаты, которые доктор получил после чтения некой двойной магической формулы, – они фактически доказывали подлинность бумаг и их кошмарное значение, хотя сами эти бумаги более недоступны человечеству.
2
На прежнюю жизнь Чарлза Уорда стоит смотреть как на столь же глубокую старину, что и реликвии прошлого, которыми он так истово увлекался. Осенью 1918 года, проявив изрядный интерес к военной подготовке, которой тогда уделяли большое значение, он поступил в школу Моисея Брауна. Главный корпус, возведенный в 1819-м, всегда пленял своей красотой юного любителя старины, и разбитый вокруг просторный парк тоже отвечал его тонкому вкусу. Со сверстниками Чарлз общался мало; свободное от учебы и военной подготовки время он проводил дома, в долгих прогулках или поисках исторических и генеалогических сведений, что хранились в архивах городской ратуши, парламента, в читальном зале публичной библиотеки, исторического общества, университетских библиотеках Джона Картера Брауна и Джона Хея, а также совсем недавно открытой библиотеке Шепли на Бенефит-стрит. Несложно представить, как он выглядел в то время: высокий подтянутый юноша со светлыми волосами, серьезным пытливым взглядом и немного сутулыми плечами, одетый слегка небрежно и создающий впечатление скорее безобидного и неуклюжего, нежели привлекательного человека.
Его прогулки всегда были вылазками в прошлое, во время каковых он умудрялся из множества реликвий чарующего старинного города восстановить цельную картину минувших веков. Дом его представлял собой великолепный кирпичный особняк в георгианском стиле на вершине чрезвычайно крутого холма, вздымающегося к востоку от реки. Из задних окон его флигелей Чарлз завороженно смотрел на теснящиеся шпили, купола, крыши и верхушки небоскребов делового района, на пурпурные холмы за городом. Здесь он родился, и с этого прекрасного крыльца в классическом стиле няня когда-то выкатила его в коляске на первую прогулку; они проходили мимо белого фермерского домика, построенного двести лет назад и давно проглоченного городом, к статным университетским зданиям на тенистой зеленой улице, где квадратные кирпичные особняки и деревянные дома поменьше с узкими крыльцами промеж дорических колонн величаво дремали среди пышных садов и просторных дворов.
Затем он проезжал в коляске по сонной Конгдон-стрит, протянувшейся чуть ниже по склону холма и заставленной домами на высоких террасах. Деревянные домики здесь были постарше, ведь на этот холм когда-то начинал карабкаться растущий город; во время подобных прогулок Чарлз, должно быть, и проникся духом старинной колониальной деревни. Няня любила сидеть на скамейках в парке Проспект Террас и болтать с полисменами. Одним из первых воспоминаний Чарлза было раскинувшееся на западе огромное море крыш, куполов, шпилей и далеких холмов в дымке, которое он увидел однажды утром с этой великолепной смотровой площадки: таинственный фиолетовый город на фоне апокалипсических закатных облаков – алых, золотистых, багровых и загадочно-зеленоватых. Громадный мраморный купол здания парламента штата вырисовывался на фоне пылающего неба, увенчанный статуей с фантастическим ореолом.
Немного повзрослев, Чарлз начал подолгу гулять – сначала нетерпеливо таская за собой няню, а потом уже в одиночку, погрузившись в мечтательные размышления. Он шел все дальше и дальше по практически отвесному склону, каждый раз проникая чуть глубже в старинные и причудливые кварталы древнего города. Он с опаской спускался по вертикальной Дженккс-стрит с каменными заборами и старомодными коттеджами в колониальном стиле и входил на тенистую Бенефит-стрит, где впереди высилась деревянная громада с двумя парадными входами, обрамленными ионическими пилястрами, а за спиной стоял доисторический дом с мансардной крышей и остатками первобытных фермерских построек. Дальше располагался особняк судьи Дарфи, почти полностью растерявший былое георгианское великолепие. Эти места потихоньку превращались в трущобы, но вязы-титаны бросали на улицы живительную тень, и потому мальчик шел дальше на юг, мимо длинных верениц дореволюционных домов с центральными дымовыми трубами и классическими крыльцами. Дома с восточной стороны улицы сидели на высоких фундаментах, а ко входу с разных сторон вели две каменные лестницы с перилами, и маленький Чарлз представлял их новенькими, только что выстроенными, а по крашеным тротуарам, теперь таким истоптанным и стертым, сновали люди в пышных париках и красных туфлях с каблуками.
Не теряя крутизны, склон спускался на запад к старой Таун-стрит, которую основатели города проложили вдоль речного берега в 1636 году. Здесь переплетались множество улочек и переулков, заставленных сутулыми и покосившимися домишками невообразимой старины. Однако, как ни завораживали они маленького Чарлза, пройтись по древним крутым мостовым он решился еще очень не скоро – боялся, что они вдруг окажутся сном или порталом в непостижимый ужас. Куда безопасней и приятней было идти дальше по Бенефит-стрит: мимо железного забора церкви Святого Иоанна, задней стены здания колониальной легислатуры, построенного в 1761 году, и рассыпающейся громады «Золотого шара» – гостиницы, в которой однажды останавливался сам Джордж Вашингтон. На Митинг-стрит – ранее называвшейся Джейл-лейн и Кинг-стрит – он вновь смотрел наверх, на восток, и видел изогнутую лестницу, без которой обратно было не забраться, а внизу – старую кирпичную школу, улыбающуюся через дорогу зданию типографии, прозванному «Головой Шекспира», где еще до революции печатались «Провиденс газетт» и «Кантри джорнал». Наконец Чарлз приближался к великолепной Первой баптистской церкви 1775 года с несравненной колокольней Гиббса, георгианскими крышами и куполами. Отсюда на юг уходили респектабельные кварталы, чудесные соцветия старинных особнячков; однако и здесь сплетение узких переулков манило вниз, на запад, – окунуться в призрачную многофронтонную древность, в пестрое буйство гниения и упадка, где старая зловещая береговая линия еще помнила великолепные ост-индские времена с их многоязычной нищетой и пороком, смрадными верфями и мутноглазыми торговцами корабельным скарбом, а переулки назывались Золотой, Серебряный, Монетный, Дублон, Соверен, Гульден, Доллар, Четвертак и Цент.
Немного повзрослев и осмелев, Уорд стал время от времени совершать вылазки в этот водоворот покосившихся домишек с выломанными оконными рамами, порушенных лестниц, извилистых парапетов, загорелых лиц и неведомых запахов; там он петлял между Саут-Мейн и Саут-Уотер, заглядывая в доки, где еще стояли древние пароходы, и возвращался на север вдоль складов с крутыми крышами, в конце концов упираясь в площадь у Большого моста, где крепко стояло на своих древних арках здание рынка, построенное в 1773 году. На этой площади Уорд останавливался и впитывал пьянящую красоту старого города, что поднимался на восток георгианскими шпилями и был увенчан громадным куполом новой Научной церкви Христа, – так купол собора Святого Павла венчает Лондон. Уорду особенно нравилось приходить сюда ближе к вечеру, когда косые лучи солнца покрывали золотом старый рынок, древние кровли и колокольни, а дремлющие верфи, пристанище кораблей Ост-Индской компании, утопали в волшебстве. После такого долгого любования городом у юноши от поэтического восторга едва не кружилась голова, и в сумерках он отправлялся в обратный путь, мимо белой церкви по крутым узким улочкам, где первые огни уже зажигались в окнах с мелким переплетом и веерообразных окошках над парадными дверями, к которым вели каменные лестницы с причудливыми коваными перилами.
Взрослея, Уорд все чаще отправлялся на поиски разительных контрастов. Первую половину прогулки он проводил в полуразрушенных колониальных кварталах к северо-западу от дома, где холм спускался к гетто и негритянскому кварталу района Стэмперс-хилл – отсюда до революции отправлялись почтовые кареты в Бостон. Затем Уорд шел в изысканные южные кварталы на Джордж-, Беневолент-, Пауэр- и Уильямс-стрит – там на старом склоне сохранились в первозданном виде великолепные поместья, обнесенные каменными стенами сады и крутая зеленая тропинка, хранившая множество ароматных воспоминаний.
Прогулки эти вкупе с прилежной учебой, несомненно, во многом обусловили любовь Уорда к древностям и истории, обширные познания в которой затем и вытеснили все остальное из его разума; они наглядно показывают нам ту духовную почву, из которой в роковую зиму 1919–1920-го проклюнулись побеги, принесшие затем столь страшные и странные плоды.
Доктор Уиллет убежден, что до той злополучной зимы первых перемен интерес Чарлза Уорда к старине был совершенно здоровым. Кладбища его особенно не манили, разве только красотой могильных памятников да исторической ценностью; склонным к насилию или жестокости он никогда не был. Но затем Чарлз как-то исподволь и незаметно стал уделять много внимания одной генеалогической находке, сделанной им годом раньше: среди предков по материнской линии он обнаружил некоего долгожителя по имени Джозеф Кервен, который приехал в Провиденс из Салема в 1692 году и о котором ходили чрезвычайно удивительные и неприятные слухи.
Прапрадед Уорда по имени Уэлком Поттер в 1785 году женился на некой «Анне Тиллингаст, дочери миссис Элизы, дочери капитана Джеймса Тиллингаста», о чьем отце не сохранилось никаких сведений. Позже, в 1918-м, изучая городские архивы, молодой генеалог наткнулся на запись о смене фамилии: миссис Элиза Кервен, вдова Джозефа Кервена, в 1772 году решила сменить фамилию мужа на девичью, Тиллингаст, а заодно изменить и фамилию дочери. Причину она указала следующую: «Имя мужа стало предметом всеобщих попреков вследствие того, что открылось после его кончины и о чем прежде ходили одни лишь досужие слухи, в полной мере затем подтвердившиеся».
Запись эта обнаружилась совершенно случайно после того, как Чарлз разъединил две аккуратно склеенные и перенумерованные страницы.
Чарлзу стало ясно, что он нашел своего прежде никому не известного прапрапрадеда. Находка поразила его вдвое сильней еще и потому, что он уже не раз слышал странные и разрозненные истории про этого человека, о котором не осталось доступных архивных сведений – как будто кто-то сговорился уничтожить всякую информацию о нем из памяти человечества. Исключительность и пикантность сохранившихся преданий будили желание разузнать, о чем же столь упорно молчали хроникеры колониальных времен… и наводили на мысль, что молчали они неспроста.
До сих пор Чарлз Уорд не придавал особого значения слухам о Джозефе Кервене, и фантазия его дремала; но стоило вскрыться их родству с этой одиозной личностью, как он начал систематически охотиться за любыми доступными сведениями о своем предке. Эти лихорадочные поиски неожиданно увенчались успехом: старые письма, дневники и груды неопубликованных мемуаров, хранившиеся на затканных паутиной чердаках Провиденса, проливали немало света на занятия Джозефа Кервена, о которых авторы не сочли нужным умалчивать. Важная информация поступила даже из далекого Нью-Йорка, где в музее-таверне Фрэнсиса сохранилась род-айлендская переписка дореволюционных лет. Но главной находкой – и роковой, по мнению Уиллета, – стала стопка бумаг за деревянными панелями полуразрушенного дома в Олни-корте. Именно они, несомненно, и вскрыли черную пропасть безумия, в которую упал юный Чарлз.
II. Ужас прошлого
1
Джозеф Кервен, если верить легендам, которые Уорд слышал и читал, был личностью крайне необычной, таинственной и жуткой. Он сбежал из Салема в Провиденс – тихую гавань для всех недовольных и инакомыслящих – в самом начале охоты на ведьм, испугавшись, что его затворничество и увлечение алхимией вызовут подозрение у горожан. Он был бледным молодым человеком лет тридцати, который вскоре стал почетным гражданином Провиденса и приобрел участок к северу от особняка Грегори Декстера, в начале Олни-стрит. Его дом построили в районе Стэмперс-хилла к западу от Таун-стрит, который впоследствии стал называться «Олни-корт». В 1761 году Кервен построил на месте старого домика дом побольше, который и стоит там по сей день.
Итак, первая странная особенность Джозефа Кервена заключалась в том, что он почти не постарел со дня своего приезда в Провиденс. Он занимался морской торговлей, потом приобрел верфи неподалеку от Майл-энд-Коув, помогал перестраивать Большой мост в 1713-м, а в 1723-м стал одним из основателей Конгрегационалистской церкви на холме; все это время он обладал непримечательной внешностью человека средних лет. Шли десятилетия, и свойство это стало привлекать широкое внимание общества, однако на все расспросы он отвечал, что унаследовал моложавый вид от своих закаленных предков, которые вели простой и здоровый образ жизни. Как эта простота соотносилась с постоянными разъездами скрытного торговца, а также с его горящими ночами напролет окнами, оставалось загадкой для горожан. Неудивительно, что они стали придумывать другие объяснения его вечной молодости. Большинство людей сходились во мнении, что прекрасный внешний вид ему помогают сохранять различные химические снадобья, которые он без конца варит в лаборатории своего особняка. Ходили слухи о странных веществах, которые Кервен закупал в Ньюпорте, Бостоне или Нью-Йорке, а также привозил на кораблях из Лондона и Индии. Когда же старый доктор Иавис Боуэн из Рехобота открыл аптеку за Большим мостом, разговоры и сплетни о лекарствах, кислотах и металлах, постоянно привозимых молчаливому затворнику, больше не затихали. Убежденные в том, что Кервен обладает некими тайными медицинскими знаниями, многие жители Провиденса стали приходить к нему с самыми разными хворями – в надежде на помощь. Хотя своими намеками и уклончивыми ответами он лишь подтверждал эти догадки, да вдобавок всегда одаривал желающих зельями странных цветов, лекарства эти редко приносили пользу людям. Но вот прошло пятьдесят лет, а лицом и сложением Кервен постарел от силы на пять, и по городу пошла недобрая молва. Кервен наконец мог насладиться полным уединением, которого так алкал.
Частные письма и дневники того времени дают еще одно объяснение тому, почему люди сначала дивились Кервену, а потом стали его бояться и избегать, как чумы. Он любил кладбища, где его можно было застать в любую погоду и в любое время дня и ночи, однако никто не видел, чтобы Кервен раскапывал могилы или занимался иными сомнительными делами. Он купил себе ферму на Потакет-роуд, где жил летом и куда частенько, даже среди ночи, отправлялся верхом на лошади. На ферме работало всего два человека: мрачные престарелые индейцы племени наррагансетт, бессловесный и исполосованный шрамами муж и отвратительного вида жена (дурнота ее, возможно, объяснялась примесью негритянской крови). В пристройке к фермерскому дому находилась лаборатория, где Кервен проводил большинство своих опытов. Любопытные носильщики и посыльные, доставлявшие к небольшой красной двери бутылки, мешки и коробки, обменивались потом рассказами о фантастических колбах, ретортах, перегонных кубах и печах, которые они успели разглядеть в комнатке с низкими полками, и шепотом прочили молчаливому «химику» (под химией они имели в виду алхимию) скорое открытие Философского камня. Ближайшие соседи, Феннеры, жившие в четверти мили от фермы, рассказывали о странных и жутких звуках, доносившихся по ночам из дома Кервена – криках и сдавленных стонах. Недоумение вызывали и огромные стада домашнего скота, толпившиеся на пастбищах, – одинокому человеку и двум его слугам не могло понадобиться столько мяса, молока и шерсти. Причем скот этот постоянно менялся, и у кингстонских фермеров покупали все новые и новые стада. Наводила ужас на местных жителей и одна из внешних построек фермы – высокое каменное здание с узенькими щелями вместо окон.
Зевакам с Большого моста тоже было что порассказать о городском жилище Кервена в Олни-корте – не о новеньком доме, построенном в 1761-м, когда старику должно было стукнуть почти сто лет, а о старинном особняке с мансардной крышей, чердаком без окон и крытыми гонтом стенами, после сноса которого Кервен тщательно сжег все доски. Здесь загадок было меньше, однако ночные бдения хозяина, молчаливость двух смуглых слуг, омерзительное бормотание невероятно древней француженки-домработницы, огромное количество пищи, приносимое в дом, где жили всего четыре человека, а также странные приглушенные разговоры, доносившиеся из-за стен среди ночи или на рассвете, – все это вкупе со слухами о потакетской ферме обеспечило особняку недобрую славу.
В избранных кругах, несомненно, тоже ходили слухи о доме Кервена, поскольку участие в торговой и религиозной жизни города подразумевало завязывание знакомств с уважаемыми людьми, в общество которых он легко влился благодаря превосходному образованию. Он происходил из хорошего рода: Кервенов (или Корвинов) из Салема знала вся Новая Англия. Выяснилось, что в молодости Джозеф много путешествовал, некоторое время жил в Англии и по меньшей мере дважды плавал на восток. Когда он все-таки заговаривал (случалось это нечасто), речь выдавала в нем благородного и образованного англичанина. По какой-то загадочной причине общество Кервена не интересовало. Никогда не проявляя к гостям открытого нерасположения, он воздвигал вокруг себя столь непроницаемую стену молчания и сдержанности, что любая попытка заговорить с ним казалась большинству людей неуместной.
В его повадках чувствовалось едва уловимое сардоническое высокомерие, как будто всех собеседников он заведомо считал людьми безынтересными, а сам вращался среди существ куда более возвышенных и могущественных. В 1738 году из Бостона в Провиденс приехал доктор Чекли, знаменитый умник и остряк, новый приходской священник Королевской церкви. Он не преминул навестить господина, о котором был столь наслышан, однако очень скоро покинул его дом: в речи хозяина дома ему послышалось нечто недоброе и зловещее. Чарлзу Уорду, как вспоминает его отец, очень хотелось узнать, что же сказал таинственный старик бойкому и жизнерадостному священнику, но авторы всех дневников как один писали, что доктор Чекли не желал повторять услышанное. Этот славный человек был неприятно потрясен и с тех пор, вспоминая о Джозефе Кервене, всегда утрачивал знаменитую веселость и обходительность манер.
Чуть более ясна причина, по которой еще один человек с прекрасным воспитанием и вкусом избегал общества надменного отшельника. В 1746 году Джон Меррит, престарелый англичанин с обширными познаниями в литературе и науке, переехал из Ньюпорта в Провиденс – город, столь стремительно укрепляющий позиции и догоняющий по значимости его родину, – и скоро выстроил себе особняк в сердце самого респектабельного района. Он жил со вкусом и комфортом, держал превосходную карету, слуг в ливреях и был гордым обладателем микроскопа, телескопа и великолепной библиотеки. Узнав, что Кервен – хозяин лучшей частной библиотеки Провиденса, мистер Меррит сразу же нанес ему визит и был принят куда радушней прочих гостей. Его искреннее восхищение книжными полками, ломящимися от греческой, латинской и английской классики, а также великолепной подборкой научных трудов Парацельса, Агриколы, Ван Гельмонта, Сильвия, Глаубера, Бойля, Бургаве, Бехера и Шталя настолько польстило Кервену, что он пригласил гостя посетить его лабораторию на ферме – подобной чести не удостаивался еще никто. Двое без промедлений сели в карету мистера Меррита и отправились в путь.
Мистер Меррит потом уверял, что ничего по-настоящему ужасного на ферме не увидел, но одних названий книг по магии, алхимии и теологии, которые Кервен хранил в своей особой библиотеке, было достаточно, чтобы надолго проникнуться к их обладателю чувством глубокого отвращения. Возможно, однако, что на восприятие мистера Меррита повлияло и выражение лица Кервена во время демонстрации библиотеки. Жуткое собрание, помимо дюжины классических трудов, включало произведения чуть ли не всех известных человечеству каббалистов, демонологов и колдунов и представляло собой настоящий кладезь сведений по таким сомнительным областям знаний, как алхимия и астрология. С менаровским изданием Гермеса Трисмегиста, «Turba Philosophorum», «Liber Investigationis» Джабира ибн Хайана и «Ключом к мудрости» Артефия тесно соседствовали кабаллистический «Зогар», полное собрание сочинений Альберта Великого под редакцией Питера Джэмми, «Великое искусство» Раймунда Луллия в издании Зецнера, «Thesaurus Chemicus» Роджера Бэкона, «Clavis Alchimiae» Фладда и «De Lapide Philosophico» Иоганна Тритемия. В большом объеме там были представлены сочинения средневековых арабов и иудеев, и мистер Меррит побледнел, узнав в толстом томе под неприметным названием «Обычаи индийских мусульман» запрещенный «Некрономикон» безумного араба Абдула Альхазреда, о котором несколько лет назад ходили ужасные слухи, – после того как были разоблачены чудовищные ритуалы, проводимые жителями глухой рыбацкой деревушки Кингспорт в заливе Массачусетс.
Однако, как ни странно, больше всего обеспокоила сего славного джентльмена сущая мелочь. На огромном столе красного дерева лежала корешком вверх раскрытая книга Бореллия, на полях и между строк которой было множество комментариев, написанных рукой Кервена. Книга оказалась раскрыта примерно на середине, и готические строчки одного из абзацев были подчеркнуты столь неровной и жирной чертой, что мистер Меррит не удержался и прочел его. То ли содержание абзаца, то ли тревожный характер линий, то ли все вместе произвело на Меррита страшное и неизгладимое впечатление. В своих дневниках он вспоминал эти строчки до конца жизни, а однажды попытался процитировать их своему близкому другу доктору Чекли – но священник так встревожился, что ему пришлось замолчать. Строчки эти гласили:
«Жизненныя соли зверей тако приготовлять и сохранять можно, что ученый муж в комнате своей хоть целый Ноев ковчег соберет и форму всякого зверя из праха подымет. Такожде из солей человеческих философ способен без преступной некромантии форму любого предка из пепла возродить, где бы его тело прежь огню ни предали».
Однако самые страшные слухи о Джозефе Кервене ходили у доков в южном конце Таун-стрит. Моряки – народ суеверный, и даже матерые морские волки, ходившие в бесконечные плавания на кораблях с ромом, рабами и патокой, лихие капитаны каперов и бригов, принадлежавших Браунам, Кроуфордам и Тиллингастам, – все принимались лихорадочно чертить в воздухе знаки-обереги, завидев сухощавого, обманчиво молодого человека со светлыми волосами и немного сутулыми плечами, когда тот входил на склад на Дублон-стрит или переговаривался с капитанами и хозяевами грузов на длинном пирсе, куда без конца причаливали кервеновские суда. Его собственные работники и капитаны боялись и ненавидели его, а матросов он набирал из всякого сброда на Мартинике, Синт-Эстатиусе, в Гаване и Порт-Ройяле. Частота, с какой менялись эти матросы, пробуждала в остальных суеверный ужас. Когда судно приставало к берегу, экипаж отпускали в увольнение на сушу, а стоило всем снова собраться на борту, как обязательно кого-нибудь не досчитывались. Почти всегда пропадали те матросы, которых отправляли с поручениями на ферму в Потакете, и это обстоятельство не укрылось от внимания остальных. Вскоре Кервен начал испытывать серьезные трудности с набором экипажа. Стоило матросам узнать слухи о зловещих верфях Провиденса, как несколько человек непременно сбегали, а найти им замену на островах Вест-Индии становилось все тяжелей.
К 1760 году Джозеф Кервен стал настоящим изгоем, которого подозревали в таинственных связях с демонами и прочих страшных преступлениях – тем более жутких от того, что никто не мог их толком назвать, описать и даже доказать. Последней каплей стала история с пропавшими в 1758 году солдатами. В марте и апреле того года два королевских полка, направлявшихся в Новую Францию, были временно расквартированы в Провиденсе, после чего из обоих полков стали убывать солдаты – такое количество исчезновений нельзя было списать на дезертирство. Прошел слух, что Кервена часто видят беседующим с юношами в красных мундирах. Когда несколько из них пропали, жители Провиденса вспомнили об исчезнувших без вести моряках. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, останься полки в городе на более долгий срок.
Тем временем дела негоцианта процветали. Кервен фактически единолично торговал в Провиденсе селитрой, черным перцем и корицей, а также стал вторым после Браунов импортером медной посуды, индиго, хлопка, шерсти, соли, снастей, железа, бумаги и всевозможных английских товаров. Почти целиком зависели от Кервена такие торговцы, как Джеймс Грин – хозяин магазинчика «Слон» в Чипсайде, Расселы, чья лавка была у Большого моста под вывеской «Золотой орел», Кларк и Найтингейл – хозяева «Рыбы на сковородке». А связи с местными винокурами, хозяевами молочных ферм, наррагансеттскими коноводами и ньюпортскими свечниками сделали его одним из ведущих экспортеров колонии.
Хоть Кервена и подвергли остракизму, чувства ответственности перед обществом он все-таки не лишился. Когда сгорело здание колониальной легислатуры, он любезно подписался на лотерею, благодаря которой собрали средства на строительство нового кирпичного дома, по сей день красующегося на прежней главной улице города. В том же 1761 году он помог восстановить Большой мост после октябрьского урагана и закупил много книг для публичной библиотеки, пострадавшей от пожара в легислатуре. Затем Кервен активно участвовал в лотерее, на выручку от которой у вечно грязной Маркет-парад и изрезанной колеями Таун-стрит появилась новая красивая брусчатка и кирпичные пешеходные дорожки посередине. Примерно в это же время он выстроил себе простой, но элегантный дом с великолепными резными пилястрами. Когда в 1743 году сторонники Уайтфильда откололись от церкви доктора Коттона на холме и основали на другом берегу свою собственную, Кервен последовал за ними – вот только религиозный пыл в нем быстро иссяк и церковь он посещал нечасто. Впрочем, уже очень скоро он вновь стал подчеркнуто набожен, словно решил развеять окутавшую его черную тень, которая сделала его изгоем и грозила, если вовремя не предпринять строгих мер, навредить его делам.
2
Поистине захватывающим и одновременно жалким зрелищем было наблюдать, как этот странный бледный человек – на вид средних лет, но в действительности ему было не меньше ста, – наконец пытается выйти из облака всеобщего презрения и страха. Но такова уж власть денег и внешних приличий: отношение к нему в обществе действительно стало заметно лучше, особенно после того, как прекратились исчезновения моряков. Вдобавок он начал тщательно скрывать свои походы на кладбище, и больше его там никто не видел; утихли и сплетни о жутких криках на потакетской ферме. Еду и скот Кервен по-прежнему закупал в огромных количествах, но до недавнего времени, когда Чарлз Уорд поднял архивы со счетами и заказами Кервена в библиотеке Шепли, никому не приходило в голову провести параллель между количеством гвинейских негров, которых он ввозил в страну вплоть до 1766 года, и необъяснимо малым числом купчих, удостоверяющих продажу этих рабов торговцам с Большого моста и плантаторам округа Наррагансетт. Словом, когда возникала острая необходимость, этот страшный человек мог проявить необычайную хитрость и изобретательность.
Эффект от запоздалого исправления, конечно, был невелик. Кервена продолжали избегать и сторониться; людям было достаточно уже одного того, что в свои сто лет он так молодо выглядит. Кервен понимал, что рано или поздно дурная репутация испортит ему торговлю, а для проведения опытов и исследований требовались изрядные средства. Поскольку смена города лишила бы его добытых большим трудом торговых преимуществ, о переезде не могло быть и речи. По здравому размышлению Кервен понял, что должен как можно скорей восстановить добрые отношения с жителями Провиденса, чтобы его появление больше не становилось сигналом к перешептыванью, внезапным отлучкам «по важным делам» и общему напряжению обстановки. Слугами в его доме давно работали нищие лентяи, которых никто другой нанимать не хотел, и они причиняли ему немало хлопот; из прежних капитанов и матросов с ним соглашались работать лишь те, над кем он имел какую-нибудь власть, будь то закладная, долговая расписка или тайные сведения, могущие нанести существенный урон их благосостоянию. Кервен, о чем с трепетом писали авторы различных дневников, обладал почти сверхъестественным даром по добыванию компрометирующих семейных тайн. В последние пять лет его жизни многим казалось, что сведения, которыми он свободно располагал, могли сообщить ему лишь мертвецы.
Примерно в это время коварный негоциант предпринял последнюю попытку восстановить свое положение в обществе. Абсолютный отшельник и изгой, Кервен вдруг решил заключить брак по расчету, взяв в жену леди, безупречная репутация которой не дала бы подвергать дальнейшему остракизму его дом. Возможно, на то имелись и другие, более глубокие причины – причины столь неподдающиеся человеческому восприятию, что лишь найденные через полтора столетия бумаги стали поводом для страшных догадок.
Естественно, он понимал, с каким ужасом и негодованием воспримет его ухаживания любая девушка, поэтому решил подыскать себе такую жену, на родителей которой мог бы оказать существенное давление. Подобных кандидаток оказалось немного, поскольку у Кервена были очень высокие требования к будущей супруге по части внешности, образования и положения в обществе. В конце концов поиски привели его в дом одного из самых лучших и давних его капитанов, вдовца с благородным происхождением и непререкаемым авторитетом по имени Дьюти Тиллингаст, чья дочь Элиза была наделена всеми достоинствами, какие только можно пожелать, за исключением наследства. Капитан Тиллингаст целиком и полностью находился во власти Кервена; после страшной беседы, состоявшейся в его доме с куполом на Пауэрс-лейн-стрит, он был вынужден благословить сей богохульный союз.
Элизе Тиллингаст в то время было восемнадцать лет; она получила самое лучшее воспитание и образование, какое только мог предоставить ей разорившийся отец. Элиза посещала школу Стивена Джексона напротив Корт-хаус-перейд и училась всем тонкостям ведения домашнего хозяйства у матери, пока та не погибла от оспы в 1757 году. Вышивки Элизы, сделанные ею в возрасте девяти лет, по сей день украшают комнаты Род-Айлендского исторического общества. После смерти матери девочка взяла все домашнее хозяйство на себя, и в помощницах у нее была только чернокожая старуха. Несомненно, споры с отцом по поводу брака с Кервеном причинили ей немало боли, однако об этом никаких сведений не сохранилось. Помолвку с Эзрой Уиденом, вторым помощником капитана судна «Энтерпрайз», пришлось разорвать. 7 марта 1763 года в Баптистской церкви, в присутствии всех знатных персон города, состоялась свадьба Элизы и Джозефа Кервена – церемонию проводил Сэмюэль Уиндзор-младший. В «Газетт» по этому поводу написали коротенькую заметку, но из большинства сохранившихся экземпляров того номера ее либо вырвали, либо вырезали. Единственную уцелевшую копию газеты удалось найти в архивах известного частного коллекционера, и Чарлз Уорд не мог не подивиться и не улыбнуться бездушной обходительности языка, которым была написана заметка:
«Минувшим вечером мистер Джозеф Кервен, купец сего города, сочетался законным браком с Элизой Тиллингаст, дочерью капитана Дьюти Тиллингаста, – истинной леди, чьи несомненные достоинства вкупе с истинной красотой да принесут счастье и согласие сему славному союзу».
Собрание писем судьи Дарфи и мистера Арнольда, незадолго до первого приступа безумия обнаруженное Чарлзом в частной коллекции господина Мелвилла Ф. Питерса с Джордж-стрит, проливает весьма яркий свет на то, какое негодование вызвал в обществе сей нечестивый союз. Однако авторитета Тиллингастов это не подорвало, и в дом Джозефа Кервена вновь потянулись люди, которых прежде он ничем не мог заманить на порог. Конечно, полностью в общество его не приняли, и супруге его пришлось немало пострадать, однако стена полного остракизма все же рухнула. К вящему удивлению самой Элизы и всех остальных, Кервен относился к жене с поразительным уважением и любовью. В новом доме не осталось и следа от его прежних занятий, и хотя Кервен часто отлучался на ферму в Потакете, где его жена никогда не бывала, дома он вел себя совершенно нормально. Лишь один человек не прекратил с ним открытой вражды – юный помощник капитана, с которым Элиза Тиллингаст столь внезапно разорвала помолвку. Эзра Уиден поклялся отомстить Кервену, и хотя по натуре он был человек мягкий и незлобивый, теперь он лелеял одну-единственную цель, не сулившую мужу-узурпатору ничего хорошего.
7 мая 1765 года родился единственный ребенок Кервена, дочь Анна; преподобный Джон Грейвз крестил ее в Королевской церкви, прихожанами которой, дабы найти компромисс между конгрегационалистскими убеждениями мужа и баптистскими – жены, недавно стали оба супруга. Запись об этом рождении, как и о заключении брака двумя годами раньше, тщательно вымарали из всех церковных и городских архивов; Чарлзу Уорду удалось найти их лишь после того, как он узнал о смене фамилии вдовы и собственном родстве с Кервеном, каковое открытие пробудило в нем безудержный интерес и впоследствии привело к безумию. Запись о рождении нашлась весьма удивительным образом: благодаря переписке с наследниками лоялиста Грейвза, который после начала революции сбежал из Провиденса, прихватив с собой копию церковного архива. Уорд решил испытать этот источник, поскольку знал, что его прапрабабушка Анна Тиллингаст Поттер относилась к епископальной церкви.
Вскоре после рождения дочери – события, которое он встретил с необычайным для его холодной натуры восторгом, Кервен решил позировать для портрета. Художником стал одаренный шотландец по имени Космо Александр, который впоследствии поселился в Ньюпорте и был одним из первых учителей Гилберта Стюарта. Портрет повесили в библиотеке заново отстроенного дома, но ни в одном из дневников, где упоминалась картина, не было сведений о ее дальнейшей судьбе. В это время ученый стал проявлять необычайную рассеянность и почти все свое время проводил на потакетской ферме. Он постоянно пребывал, как свидетельствовали окружающие, в состоянии тщательно скрываемого возбуждения, словно вот-вот должно было свершиться нечто удивительное. Это явно имело отношение к химии и алхимии, поскольку Кервен перевез на ферму множество книг по этим темам.
Между тем его интерес к жизни Провиденса не угас, и он не упускал случая помочь таким деятелям как Стивен Хопкинс, Джозеф Браун и Бенджамин Уэст в попытках поднять культурный уровень города, который тогда был гораздо ниже ньюпортского, где издавна покровительствовали гуманитарным наукам. В 1763 году Кервен помог Дэниелу Дженкксу открыть книжный магазин, после чего стал там постоянным покупателем; оказывал поддержку нуждающейся «Газетт», свежий номер которой каждую среду печатался в «Голове Шекспира». Что касается политики, он горячо поддерживал губернатора Хопкинса в борьбе с партией Уорда, основная сила которой была сосредоточена в Ньюпорте. А чрезвычайно убедительная речь Кервена в Хэчерс-холле против обособления Северного Провиденса позволила ему вновь закрепить свое положение в обществе. Один лишь Эзра Уиден цинично усмехался его напускному пылу и клятвенно заверял остальных, что все это – лишь прикрытие для страшных дел, свершаемых в самых черных глубинах Тартара. Мстительный молодой человек принялся систематически собирать сведения о Кервене в порту и часами проводил на верфи с плоскодонкой наготове, чтобы преследовать маленькую лодку, которая время от времени покидала кервеновский склад и отправлялась куда-то вниз по заливу. Вдобавок он пристально наблюдал за потакетской фермой и однажды подобрался так близко, что его жестоко искусали собаки, спущенные стариками-индейцами.
3
В 1766 году в Джозефе Кервене произошли последние перемены. Это случилось внезапно и получило широкую огласку среди любопытных горожан: Кервен вдруг скинул с себя возбужденное ожидание, точно старый плащ, и его место занял плохо скрываемый триумф. Он с явным трудом удерживал себя от публичных выступлений по поводу своей находки или открытия, однако необходимость сохранить это в тайне все же не дала ему поделиться радостью с остальными, поскольку никаких объяснений он так и не предоставил. Именно после этих странных перемен, произошедших с ним в начале июля, Кервен стал поражать окружающих сведениями, которые могли сообщить ему разве что давно почившие родственники.
Однако тайные занятия Кервена после этого не прекратились. Напротив, они стали еще интенсивней; его торговыми делами теперь занимались лишь те капитаны, которых он сковал по рукам и ногам угрозой полного банкротства. Кервен совершенно забросил работорговлю, поскольку она приносила все меньше прибыли, и каждую свободную минутку проводил на потакетской ферме и в местах, не столь далеких от кладбища, – люди наблюдательные начали задаваться вопросом, действительно ли старый негоциант так уж изменил своим привычкам. Эзра Уиден, который из-за частых дальних плаваний мог следить за Кервеном лишь изредка и недолго, все же обладал мстительным упорством, несвойственным практичным горожанам; он подверг дела своего заклятого врага такому тщательному изучению, какому они прежде никогда не подвергались.
Странные маневры кервеновских судов горожане объясняли трудными временами: каждый колонист, казалось, решил всеми силами бороться с Законом о сахаре, серьезно подорвавшем морскую торговлю. Контрабанда стала нормой в заливе Наррагансетт, и ночные перевозки незаконных грузов уже никого не удивляли. Однако Уиден, еженощно следивший за лодками, которые тайно выплывали со складов Кервена, вскоре утвердился во мнении, что зловещий негоциант тщательно скрывается вовсе не от боевых кораблей Его Величества. До перемен 1766 года в этих лодках обычно перевозили закованных в цепи негров, которых высаживали на берег неподалеку от Потакета, а затем везли через поле на ферму Кервена, где держали в огромном каменном здании с пятью узкими щелочками вместо окон. Но после тех перемен схема стала иной. Кервен забросил работорговлю, и на какое-то время ночные вылазки в море тоже прекратились. Однако весной 1767-го негоциант возобновил свою деятельность на новый лад. Из безмолвных черных доков снова стали выплывать лодки, но теперь они шли гораздо дальше, возможно, до самого Намквит-пойнта, где принимали груз с каких-то странных и постоянно меняющихся кораблей. Матросы Кервена затем доставляли этот груз на прежнее место неподалеку от Потакета, откуда транспортировали его по суше на ферму и запирали в том же загадочном каменном здании, где раньше держали рабов. Груз состоял в основном из ящиков и сундуков, многие из которых были тяжелыми, вытянутыми и подозрительно похожими на гробы.
Уиден всегда следил за фермой с неусыпным вниманием, на протяжении долгого времени посещая ее каждую ночь – за исключением тех ночей, когда на земле лежал снег и могли остаться видимые следы. Но даже тогда Уиден подходил как можно ближе, стараясь ходить по тропинкам или твердому льду протекающей рядом речушки: он высматривал следы, оставленные другими. Поскольку дозоры то и дело приходилось прерывать из-за плаваний, он нанял себе сменщика – приятеля по имени Елеазар Смит, который продолжал слежку в его отсутствие. При желании они могли бы пустить по городу весьма любопытные слухи, но не делали этого, чтобы не спугнуть жертву и выведать как можно больше. Друзья сговорились найти какое-нибудь подтверждение своим догадкам и лишь затем что-либо предпринимать. Видимо, им открылось нечто поистине ужасное: Чарлз нередко жаловался родителям, что Уиден сжег все свои записи. Единственные сведения об открытии обнаружились в довольно бессвязном дневнике Елеазара Смита, а также в письмах других людей, которые лишь робко повторяли слова Уидена и Елеазара: согласно им, ферма была лишь прикрытием для чего-то столь гнусного и омерзительного, для зла столь безграничного и непостижимого, что человеческий разум не в силах даже его осознать.
Известно, что Уиден и Смит еще на ранних этапах своего расследования узнали об огромной сети катакомб и туннелей, проложенных под фермой, где помимо двух стариков-индейцев трудились сотни рабов. Дом был древней реликвией середины семнадцатого века с остроконечной крышей, огромной дымовой трубой и витражными окнами. Лаборатория располагалась в северной пристройке с односкатной крышей, которая спускалась почти до самой земли. Здание стояло в отдалении от всех остальных построек, однако, судя по голосам разных людей, доносившимся оттуда в разное время дня и ночи, в дом можно было попадать тайными подземными ходами. Голоса эти до 1766 года что-то неясно бормотали, шептали или вопили, к ним то и дело и примешивались загадочные песнопения и молитвы. Однако после 1766-го они приобрели необычайно жуткий характер: смиренные безжизненные стоны сменялись воплями ярости, громогласными спорами и жалобными мольбами, учащенным хриплым дыханьем и криками протеста. Языки были разные, но Кервен знал их все – его сиплый голос с узнаваемым акцентом часто произносил в ответ упреки или угрозы. Иногда казалось, что в доме собралось несколько человек: Кервен, пленники и их стражи. Таких голосов ни Уиден, ни Смит никогда прежде не слышали, и многие языки казались им совершенно незнакомыми, хотя оба часто бывали в разных уголках света. Сами разговоры всегда напоминали допросы, словно бы Кервен пытался силой добыть из обезумевших от страха или бунтующих пленников какие-то сведения.
Многие из подслушанных разговоров Уиден записал дословно – на ферме часто разговаривали на английском, французском и испанском, а эти языки он прекрасно знал. Однако ни одной записи тех бесед не сохранилось. Впоследствии он признался, что лишь немногие из леденящих душу разговоров касались семей Провиденса; большая часть вопросов и ответов, которые он сумел разобрать, имели отношение к истории и различным наукам, весьма отдаленным местам и эпохам. Однажды, к примеру, некоего человека допрашивали на французском языке о Черном Принце и расправе над жителями города Лимож в 1370 году – словно бы он по какой-то неведомой причине мог знать о тех событиях. Кервен спросил узника – если тот вообще был узником – о причинах гибели трех тысяч человек: истребили их потому, что на алтаре в древнеримском склепе под собором нашли символ козла, или потому, что Черный Человек из Верхней Вьенны произнес три слова? Не получив желаемого ответа, инквизитор прибегнул к крайним мерам, поскольку тут же раздался страшный визг, за которым последовала внезапная тишина, глухое проклятье и тяжелый удар.
Ни один из этих разговоров Уидену и Смиту не удалось увидеть собственными глазами, поскольку окна всегда были плотно зашторены. Но однажды, во время допроса на неизвестном им языке, на портьеру упала тень допрашиваемого, один вид которой привел Уидена в ужас: она напомнила ему о марионетках, которых он видел в Хэчерс-Холле осенью 1764 года, когда некий артист из Джермантауна показывал публике любопытный механический спектакль. На плакате, зазывавшем зрителей, было написано:
«Вы увидите знаменитый город Иерусалим с Храмом Соломона, царским троном, знаменитыми башнями и холмами, а также страсти Христовы от Гефсиманского сада до распятия на Голгофе; искусное зрелище на самого любопытного и взыскательного зрителя».
Именно в ту ночь Уиден, подкравшись во время разговора поближе к окну, от ужаса подскочил на месте, и охранявшие дом индейцы спустили на него собак. После этого случая всякие допросы в доме прекратились, и Уиден со Смитом решили, что Кервен перенес поле своей деятельности под землю.
Тому, что под землей действительно что-то располагалось, было много свидетельств. Местами оттуда доносились едва различимые крики и стоны, а никаких построек поблизости не было. В зарослях кустарника вдоль реки, где за крутым холмом начиналась долина Потакет, обнаружилась тяжелая деревянная дверь с каменным обрамлением – очевидно, то был вход в пещеры под холмом. Кто и когда его построил, Уиден сказать не мог, однако он часто подчеркивал, что со стороны реки там вполне могли незаметно трудиться рабочие. Да, Джозефу Кервену было чем занять своих матросов-полукровок! Во время сильных весенних дождей 1769-го два друга постоянно следили за крутым речным берегом – на случай, если паводок вынесет на поверхность какие-нибудь подземные тайны. Наградой им было обилие человеческих и животных костей в глубоких промоинах на берегу. Конечно, на задворках скотной фермы, где в стародавние времена к тому же находилось индейское кладбище, подобные находки были вполне объяснимы, но Уиден и Смит пришли к другим выводам.
В январе 1770-го, пока они раздумывали, что же им делать с этими ужасными открытиями, произошел странный случай с баржей «Форталеза». Летом прошлого года близ Ньюпорта контрабандисты сожгли таможенный корабль «Либерти», и раздосадованный адмирал Уоллес, командовавший тогда таможенным флотом, стал с удвоенной бдительностью следить за неизвестными судами. Так, однажды ранним утром боевая шхуна «Лебедь» под управлением капитана Чарлза Лесли после недолгого преследования захватила барселонскую баржу «Форталеза», следовавшую, согласно бортовому журналу, из Каира в Провиденс. Когда судно обыскали на предмет контрабандных товаров, таможня с удивлением обнаружила, что груз целиком состоит из египетских мумий, предназначенных «матросу А. Б. В.», который должен был забрать их близ Намквит-пойнта и доставить в нужное место. Личность таинственного матроса капитан баржи Мануэль Арруда счел своим долгом не разглашать. Вице-адмирал в Ньюпорте пришел в замешательство: с одной стороны, груз не назовешь контрабандным, с другой – дело явно нечисто и разрешения на ввоз мумий они не давали. В конечном итоге он решил последовать совету контролера Робинсона и отпустить судно, но запретить ему входить в воды Род-Айленда. Потом пошли слухи, что баржу видели в бостонской гавани, хотя открыто в порт она не входила.
Необычный этот случай не мог не получить широкой огласки в Провиденсе, и мало кто сомневался в связи между грузом с мумиями и зловещим Джозефом Кервеном. Его экзотические исследования, частые поставки странных химических веществ, подозрительная любовь к кладбищам, о которой все прекрасно знали… нетрудно было догадаться, кому именно в Провиденсе предназначался столь жуткий груз. Словно понимая, что подобных подозрений не избежать, Кервен несколько раз с нарочитой беспечностью обмолвился в обществе о химической уникальности древних бальзамических жидкостей, надеясь таким образом объяснить случившееся и одновременно не указывать прямо на свое участие. Уидена и Смита, это, разумеется, не успокоило, и они продолжали строить безумные догадки о чудовищных опытах Кервена.
Следующей весной опять шли сильные дожди, и дозорные внимательно следили за речным берегом позади потакетской фермы. Вода вновь смыла толстый слой земли и обнажила множество костей, но подземных пещер и туннелей так и не открыла. Правда, странные слухи поползли по деревне Потакет, что находилась примерно в миле по течению от фермы, где река переливалась через уступ и каскадами спускалась в мирную лагуну. На склоне холма теснились причудливые старинные домики, а в сонных доках дремали рыбацкие лодки. Из этих безмятежных мест стали поступать жуткие слухи о непонятных предметах, плывущих по реке и исчезающих в пучине водопада. Конечно, Потакет – река длинная и минует немало поселений с кладбищами, а дожди той весной шли сильные и продолжительные; но рыбаков на мосту напугал дикий взгляд, каким посмотрел на них один из этих «предметов», прежде чем свалиться в водопад, и страшный крик другого – он почти разложился и пребывал вовсе не в том состоянии, чтобы кричать. Эти слухи погнали Смита (Уиден тогда ушел в очередное плавание) на берег реки, где непременно должны были остаться следы обширного обвала. Но попасть на крутой берег оказалось невозможно: обвал оставил за собой твердую стену из земли и кустарника. Смит думал даже устроить экспериментальные раскопки, но быстро бросил эту затею, испугавшись неудачи (или, наоборот, его устрашил возможный успех). Будь на его месте Уиден, он бы наверняка поступил иначе.
4
К осени 1770-го Уиден решил, что пришла пора рассказать остальным о своих открытиях. В его распоряжении было множество фактов, которые легко увязывались в единое целое, и второй свидетель – на случай, если его собственное суждение было замутнено ревностью и жаждой мести. В качестве первого доверенного лица Уиден избрал капитана Джеймса Мэтьюсона с «Энтерпрайза», который, с одной стороны, хорошо знал Эзру и не усомнился бы в правдивости его слов, а с другой – пользовался достаточным авторитетом – в городе его бы выслушали с уважением. Разговор состоялся в верхних комнатах таверны Томаса Сабина рядом с доками. Пришел туда и Смит, чтобы в случае необходимости подтвердить каждое слово Уидена. Капитан Мэтьюсон был крайне поражен услышанным. Как и все жители города, он давно подозревал своего соседа Джозефа Кервена в темных делах, и теперь его подозрения подтвердились. В конце беседы он стал очень мрачен и велел молодым людям хранить полное молчание. Мэтьюсон решил сам распространить полученную информацию среди примерно десяти выдающихся жителей Провиденса, узнать их мнение и последовать любому их совету. Как бы то ни было, все нужно держать в строжайшей тайне, потому что ни городские констебли, ни армия не смогут уладить такое дело. И прежде всего нельзя посвящать в это впечатлительный народ: не приведи Бог, повторится жуткая Салемская история, которая случилась меньше века назад и погнала Кервена с насиженных мест.
Доверенными лицами Мэтьюсон избрал доктора Бенджамина Уэста, чей труд о прохождении Венеры по диску Солнца обнаружил в нем крепкого ученого и мыслителя; президента университета Джеймса Маннинга, который совсем недавно переехал из Уоррена и временно проживал в здании школы на Кинг-стрит, дожидаясь окончания строительства нового университетского здания на Пресвитэриан-лейн; бывшего губернатора Стивена Хопкинса, члена Ньюпортского философского общества и человека весьма широких взглядов; Джона Картера, издателя «Газетт»; всех четырех братьев Браун – Джона, Джозефа, Николаса и Моисея, – городских магнатов; старого Иависа Боуэна, человека весьма эрудированного и первым узнавшего о странных покупках Кервена; и, наконец, капитана Абрахама Уиппла, приватира небывалой храбрости и силы духа, который поведет за собой остальных в случае, если придется прибегнуть к активным действиям. Всех этих почтенных господ предполагалось собрать вместе, посвятить в случившееся и возложить на них ответственность за решение, уведомлять или не уведомлять губернатора колонии Джозефа Уонтона о дальнейших мерах.
Миссия капитана Мэтьюсона увенчалась неожиданным успехом; хотя среди посвященных два или три человека отнеслись к услышанному весьма скептически, все как один были убеждены в необходимости тайных, решительных и слаженных мер. Кервен, несомненно, угрожал благоденствию города и колонии в целом, и угрозу эту нужно было искоренить любой ценой. В конце декабря 1770 года компания именитых горожан встретилась в доме Стивена Хопкинса – обсудить первые пробные шаги. Они внимательно изучили заметки Уидена, предоставленные капитаном Мэтьюсоном, а также вызвали самих Уидена и Смита для дачи личных показаний. Нечто сродни суеверному страху охватило всех присутствующих еще до того, как собрание закончилось, однако в этом страхе сквозила решимость, нашедшая самое яркое отражение в грубовато-простодушной и звучной брани капитана Уиппла. Губернатора решили ни во что не посвящать, поскольку здесь требовалось нечто большее, чем вмешательство закона. Кервена, обладавшего некой таинственной силой, о могуществе которой оставалось лишь гадать, нельзя было просто попросить покинуть город – страшную неведомую кару сулила такая просьба всем обратившимся. К тому же переезд Кервена ничего бы не решил: нечистое бремя легло бы на другой город, но не исчезло. Всюду царило беззаконие, и люди, долгие годы игравшие в прятки с королевским таможенным флотом, не боялись предпринять более крутые меры, если того требовал долг. Кервена можно было застать врасплох: отправить на его ферму рейдерскую группу из матерых приватиров и дать ему последний шанс оправдаться. Если выяснится, что он обыкновенный безумец, развлекающий себя воплями и разговорами на разные голоса, надо будет просто поместить его в лечебницу. Если же под землей действительно обнаружится некая ужасная тайна, Кервен и все, что с ним связано, должно исчезнуть с лица земли. Дело можно провернуть тихо, и даже вдове не обязательно сообщать, что они узнали.
Пока эти серьезные меры только обсуждались, в городе произошло событие столь страшное и необъяснимое, что на какое-то время во всей округе говорили только об этом. Однажды лунной и снежной январской ночью тишину над рекой и холмом пронзили жуткие вопли. Проснувшиеся жители прильнули к окнам, и люди близ Уэйбоссет-пойнта увидели, как в проруби у «Головы Шекспира» барахтается и мечется странное белое существо. Где-то вдалеке лаяли собаки, но стоило подняться шуму разбуженного города, как лай утих. Люди с фонарями и мушкетами отправились узнать, что происходит, и ничего не нашли. На следующее утро, однако, на ледяных глыбах у южной опоры Большого моста обнаружили огромное, абсолютно нагое мускулистое тело. Личность этого человека стала предметом бесчисленных бесед и перешептываний, причем сплетничала главным образом не молодежь, а старики – застывшее лицо с выпученными от ужаса глазами пробудило в патриархах города кое-какие воспоминания. Дрожа и хрипя, они обменивались пугающими сплетнями: отвратительные черты мертвеца делали его как две капли воды похожим на человека, умершего пятьдесят лет назад.
Эзра Уиден лично присутствовал при находке; вспомнив о собачьем лае, раздававшемся минувшей ночью, он отправился по Уэйбоссет-стрит и через мост Мадди-Док к тому месту, откуда он доносился. Уиден рассчитывал на интересное открытие и не удивился, когда на краю жилого квартала, где улица переходила в Потакет-роуд, обнаружились весьма любопытные следы. За нагим великаном бежала целая свора собак и множество людей в сапогах. По следам, оставшимся на снегу, легко можно было проследить их обратный путь: преследователи бросили погоню, когда подошли слишком близко к городу. Уиден зловеще улыбнулся и на всякий случай прошел по следам до конца, то есть до кервеновской фермы близ Потакета. Он много бы дал за то, чтобы посмотреть на истоптанный двор перед фермой, однако при свете дня побоялся проявлять чрезмерный интерес. Доктор Боуэн, к которому Уиден сразу же направился с докладом, провел вскрытие найденного тела – и пришел в полное замешательство. Пищеварительный тракт великана никогда не работал, а кожа представляла собой необъяснимо грубую и рыхлую ткань. Пораженный слухами о том, что великан очень похож на давно почившего кузнеца Дэниэля Грина, чей правнук теперь работал представителем Кервена на грузовых судах, Уиден провел небольшое расследование и в конце концов нашел могилу Грина. Той же ночью группа из десяти человек посетила старое Северное кладбище напротив Герренденс-лейн. Они вскрыли могилу и обнаружили ее, как и предполагали, совершенно пустой.
Тем временем почтальонов попросили перехватывать всю корреспонденцию Джозефа Кервена, и незадолго до означенного случая с нагим трупом ему пришло письмо от некого Иедедии Орна из Салема, которое заставило участников заговора глубоко задуматься. Приводим выдержку из письма, сохранившегося в личных архивах семьи Смит:
«Я восхищен Вашими упорными изысканиями в области Древних материй, однако успехи мистера Хатчинсона из Салем-виллидж внушают куда меньше радости. Лишь толику надобного собрал Х., и из оной толики поднялось живое воплощение ужаса. То, что Вы мне милостиво прислали, надлежит исправить: или же в материалах недостает какой-то части, или Вы неверно записали слова. Я сам пребываю в растерянности, ибо нет у меня должного опыта в химии, дабы последовать по стопам Бореллия или же постичь умом книгу «Некрономикон», каковую вы мне советуете. Однако обращаю Ваше внимание на предостережение мистера Мэзера из «Magnalia —»: с осторожностью надобно взывать к неизвестному, ибо слышал я, какие неописуемые ужасы могут явиться на зов. Заклинаю Вас вновь: не взывайте к тому, что не возможете потом вернуть в небытие и что в ответ призовет на борьбу с Вами нечто, против чего даже самые могущественные Ваши заклинания и орудия будут бессильны. Зовите меньшее, дабы большее не пожелало Вам ответить. Я пришел в сущий ужас, когда узнал, что Вам теперь известно о содержимом того сундука черного дерева, что принадлежал Бену Зариатнатмику, ибо ясно мне, кто мог Вам сие сообщить. И вновь прошу Вас писать на имя Иедедии, а не Саймона, ибо в сем обществе человеку не след жить сверх отмеренного, и Вы знаете о моих планах вернуться в Салем в качестве собственного сына. С нетерпением ожидаю того дня, когда Вы откроете мне, что Черный Человек выпытал у Косидия Сильвана в склепе под римским валом. Равным же образом буду премного признателен, ежели Вы пришлете мне упомянутые материалы».
Второе неподписанное письмо из Филадельфии тоже наталкивало на странные мысли, особенно следующий пассаж:
«Впредь постараюсь пересылать материалы токмо Вашими судами, как Вы просите, однако я не знаю, когда их точно ждать. Относительно нашего же дела, мне осталось добыть единственную составную часть. Я бы хотел увериться, что правильно понял Ваши слова. Вы сообщаете, что ежели мы хотим добиться наилучшей пользы и результата, надобно собрать все части до единой и ничего не упустить. Однако добыть все разом представляется мне большим риском, особливо в городе (как то: в соборе Святого Петра, Святого Павла, Святой Марии или же в Церкви Христа), где это и вовсе нельзя осуществить. Памятуя, какие изъяны были в том, что явилось на мой зов в прошлом октябре, и сколько перевел я живых экземпляров, дабы найти верный способ, буду отныне всецело следовать Вашим указаниям. С нетерпением жду Вашего брига и ежедневно справляюсь о его прибытии на верфи мистера Биддла».
Третье подозрительное письмо было на неизвестном языке – даже алфавита такого никто раньше не видел. В дневнике Смита, обнаруженном Чарлзом Уордом, приведена часто повторяющаяся последовательность символов, скопированных неуклюжей рукой. Ученые Брауновского университета сказали, что это либо амхарская письменность, либо абиссинская, но слово узнать не смогли. Ни одно из этих писем Кервену так и не доставили, однако исчезновение Иедедии Орна из Салема свидетельствует, что провиденские заговорщики все же предприняли кое-какие незаметные меры. В Пенсильванском историческом обществе также сохранилось несколько весьма любопытных писем к доктору Шиппену касательно некоего подозрительного и неприятного господина, проживающего в Филадельфии. Но принимались и более серьезные шаги: главные плоды уиденовских изысканий стоит искать в действиях группы закаленных моряков и старых верных приватиров, собиравшихся на складе Брауна. Медленно, но верно план по полному искоренению Кервена приобретал все более четкие очертания.
Кервен, несмотря на все меры предосторожности, явно почувствовал угрозу: окружающие замечали его крайне встревоженный и почти напуганный вид. Его карету часто видели в городе и на Потакет-роуд, а напускное благодушие, посредством которого он пытался бороться с нелюбовью горожан, мало-помалу испарялось. Его ближайшие потакетские соседи, Феннеры, рассказывали, как однажды ночью из крыши загадочного каменного здания с высокими узкими окнами выстрелил яркий луч света – они сразу же сообщили об увиденном Джону Брауну из Провиденса. Мистер Браун был своеобразным предводителем группы, вознамерившейся сжить Кервена со света, и он заверил Феннеров, что скоро будут приняты весьма решительные меры. Посвятить их в происходящее было необходимо: они так или иначе стали бы свидетелями налета. Браун солгал им, что Кервен – шпион ньюпортской таможни и все шкиперы, купцы и фермеры открыто или тайно проголосовали за то, чтобы от него избавиться. Поверили Феннеры в эту ложь или нет (все-таки на их глазах происходило немало странного и жуткого), неизвестно, однако человека с такой репутацией легко можно было заподозрить хоть во всех смертных грехах. Мистер Браун возложил на Феннеров ответственную миссию: следить за домом негоцианта и регулярно докладывать о любых происшествиях.
5
Вероятность того, что Кервен все же догадался о готовящемся налете и предпринимает какие-то меры (об этом, возможно, свидетельствовал таинственный луч света), заставила группу решительно настроенных заговорщиков поторопиться с исполнением плана. Согласно дневнику Смита, 12 апреля 1771 года в десять часов вечера у таверны Терстена, что находилась на Уэйбоссет-пойнте против Большого моста, собралось около ста человек. Из главных заговорщиков, помимо Джона Брауна, присутствовали доктор Боуэн с набором хирургических инструментов, президент Маннинг без своего знаменитого парика (самого большого парика в колонии), губернатор Хопкинс в темном плаще и в компании брата-мореплавателя Изека, которого он с позволения остальных недавно посвятил в готовящийся план, Джон Картер, капитан Мэтьюсон и капитан Уиппл – последний должен был повести за собой налетчиков. Эти почтенные господа собрались в задней комнате таверны на совещание, после чего капитан Уиппл вышел в большой зал, взял с собравшихся моряков обет молчания и раздал последние наставления. Елеазар Смит сидел вместе с главными заговорщиками и дожидался прибытия Эзры Уидена, задачей которого было следить за Кервеном и доложить, как только его карета отправится на ферму.
Примерно полодиннадцатого с Большого моста послышался грохот и скрип колес. В столь поздний час и без донесения Уидена всем стало ясно: обреченный на погибель человек выехал из дома – в последний раз вершить свое греховное колдовство. Минутой позже, когда тающий в ночи скрип и лязг стихли за мостом Мадди-Док, к таверне подъехал Уиден, и налетчики стали в боевом порядке выстраиваться на улице, вооружившись кто охотничьими, кто кремниевыми ружьями, а кто и огромными китобойными гарпунами. Уиден и Смит присоединились к налетчикам, а за ними вышли капитан Уиппл, руководитель налета, капитан Изек Хопкинс, Джон Картер, президент Маннинг, капитан Мэтьюсон и доктор Боуэн. Ровно к одиннадцати подоспел и Моисей Браун, который на предварительном собрании в таверне не присутствовал. Все эти почтенные граждане и около сотни моряков без промедления отправились в путь: мрачные и чуть напуганные, они вскоре оставили за собой Мадди-Док и начали подъем по Броад-стрит к Потакет-роуд. Сразу за церковью Элдера Сноу некоторые налетчики оборачивались и бросали прощальный взгляд на Провиденс, что простирался под молодыми весенними звездами. Шпили и крыши домов темными силуэтами поднимались в небо, а из бухточки к северу от Большого моста дул соленый ветер. Вега взбиралась на высокий холм на другом берегу; очертания леса на его вершине прерывались контуром недостроенного университетского здания. У подножия холма и вдоль узких улочек на склоне дремал старинный город Провиденс, ради безопасности и душевного покоя которого сто с лишним жителей решили раз и навсегда искоренить чудовищное зло.
Спустя час с четвертью налетчики подошли к дому Феннеров, где выслушали последнее донесение о будущей жертве. Кервен приехал около получаса назад, вскоре после этого небо опять пронзил яркий луч, и больше ни в одном из окон фермы свет не загорался – так было и прежде. Уже во время разговора с Феннерами на юге вновь полыхнуло, и налетчики поняли: страшное и удивительное совсем рядом. Капитан Уиппл приказал войску разделиться на три части. Один отряд под командованием Елеазара Смита встанет у берега и будет сторожить пристань – на случай, если Кервен уже вызвал подкрепление, – пока к ним не пошлют гонца с просьбой о помощи. Второй отряд под командованием Изека Хопкинса должен незаметно пробраться в речную долину, обойти ферму и топорами, порохом или иными доступными способами уничтожить тяжелую дубовую дверь под крутым высоким холмом. Наконец, третий отряд отправится к дому и прилегающим внешним постройкам. Треть этого отряда с капитаном Мэтьюсоном во главе пойдет к загадочному каменному зданию, еще одна треть под руководством капитана Уиппла окружит сам дом, а оставшиеся матросы будут держать оцепление вокруг всей фермы, пока не услышат сигнал тревоги – значит, их помощь требуется в другом месте.
Единственный громкий свист станет сигналом для берегового отряда, чтобы выломать дубовую дверь в холме и ждать дальнейших указаний, отлавливая все, что может выйти из-под земли. Еще два свистка – и они двинутся в подземелье навстречу врагу или остальным налетчикам. Ровно то же самое свистки будут означать для тех, кто подойдет к каменному зданию: сначала нужно выломать дверь, затем начать спуск под землю навстречу главному или береговому отряду. Третий сигнал – он же сигнал тревоги, – состоящий из трех свистков подряд, призовет на помощь оцепление из двадцати человек, которым надлежит разделиться и войти в подземелье с двух сторон – через дом и через каменное здание.
Капитан Уиппл был абсолютно убежден в существовании катакомб и при планировании налета руководствовался этой верой. Он взял с собой очень мощный и громкий свисток, так что ошибок с толкованием сигналов возникнуть не могло. Пристань располагалась вне пределов слышимости, и к резервному отряду у берега в случае необходимости послали бы гонца. Моисей Браун, Джон Картер и капитан Хопкинс пошли на берег, а президента Маннинга с капитаном Мэтьюсоном направили к каменному зданию. Доктор Боуэн в компании Эзры Уидена остался в отряде капитана Уиппла, которому предстояло штурмовать сам дом. Облава должна была начаться, как только гонец от капитана Хопкинса доберется до капитана Уиппла и сообщит, что береговой отряд готов к наступлению. Тогда предводитель даст первый сигнал, и все три отряда начнут одновременную атаку по всем фронтам. Незадолго до часу ночи все налетчики покинули дом Феннеров: одни ушли сторожить пристань, вторые искать дубовую дверь в холме, а третьи – окружать постройки кервеновской фермы.
Елеазар Смит, который присоединился к береговому отряду, пишет в своем дневнике о том, как моряки без инцидентов добрались до места и долго ждали, прежде чем вдалеке послышался едва различимый свисток, а за ним – вроде бы крики и взрывы. Позже одному моряку из отряда показалось, что он слышит выстрелы, а еще позднее сам Смит ощутил в небе грохот неведомых и страшных слов. Незадолго до рассвета к ним прибыл единственный изможденный гонец с безумными глазами, от одежды которого исходила странная, ни на что не похожая вонь. Он велел морякам незаметно разойтись по домам и никогда никому не рассказывать о событиях этой ночи и о человеке, называвшем себя Джозеф Кервен. Поведение и взгляд гонца оказались куда красноречивей, чем слова: увиденное раз и навсегда лишило покоя душу и разум крепкого закаленного матроса. То же самое стало и со всеми остальными, кто побывал в ужасном подземелье: увидев нечто необъяснимое и неописуемое, они словно бы навек утратили – или, напротив, обрели – какую-то частичку души. Они испытали нечто неподвластное человеческому разуму и с тех пор не могли это забыть, однако никому не поведали о случившемся: человеческим слабостям все же есть предел. А гонец своим видом и поведением так напугал береговой отряд, что страх запечатал и их губы. Лишь считаные слухи просочились в город, и дневник Елеазара Смита – единственное дожившее до наших дней письменное свидетельство той ночной экспедиции.