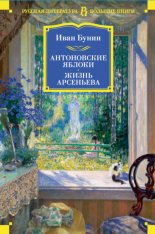Смерть в середине лета Мисима Юкио
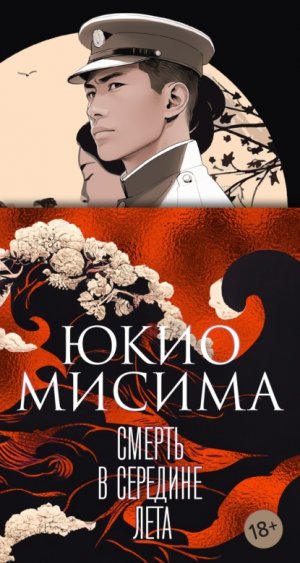
Смерть в середине лета
В роскошное царствование лета смерть поражает нас сильнее…
Ш. Бодлер. Искусственный рай
В курортном местечке А., расположенном у южной оконечности полуострова Идзу, отличные пляжи – чистые и немноголюдные. Тут, правда, неровное дно и слишком большие волны, но зато вода прозрачна, а песчаные отмели словно специально созданы для купания. Единственная причина, по которой здешнее побережье еще не заполнили толпы отдыхающих, как в соседнем районе Сонан, – это неудобство сообщения: до местечка от станции надо два часа трястись на автобусе.
Гостиница «Эйракусо» и принадлежащие ей коттеджи – чуть ли не единственное место, где можно остановиться в А. Сувенирных лавчонок с камышовыми крышами, которые летом так уродуют песчаные пляжи, здесь одна-две, не больше. Покрытый белым песком берег необычайно красив, а в самом его центре, нависнув над морем, возвышается заросшая соснами скала, до того причудливая, что кажется творением мастера садового искусства. Во время прилива скала до половины скрывается под водой.
Вид на море прекрасен. Когда задует западный ветер, унося прочь туманную дымку, как на ладони видны далекие островки: Осима поближе, Тосима – подальше, а между ними крошечный треугольный конус Утонэсима. На юге, за дальним мысом Нанаго, виднеется еще один мыс – Сакаи, отрог того же горного массива, уходящий глубоко в морскую пучину; еще дальше выглядывают мыс Цумэки и мыс, именуемый Дворец Дракона Яцу, – по ночам с южной его точки по морю чертит круги луч маяка.
После обеда Томоко Икута легла подремать у себя в номере. Глядя на эту молодую женщину, свернувшуюся калачиком на кровати – из-под короткого бледно-розового платья высовывались круглые колени, – трудно было поверить, что это мать троих детей: пухлые руки, свежее личико, улыбчивый рот делали Томоко похожей на совсем юную девушку. Было жарко – на лбу и переносице спящей выступила испарина. Ровно жужжала муха, комната раскалилась от солнца, словно огромный медный колокол; ленивый безветренный день был в разгаре; плавно, в такт сонному дыханию колыхалась розовая ткань платья.
Почти все постояльцы гостиницы ушли на море. Номер Томоко находился на втором этаже. Прямо под окном стояли бело-синие качели, на просторном газоне были расставлены разноцветные стулья, столики; возле щита с колышками на траве валялись брошенные кольца. В саду не было ни души, лишь изредка пролетали пчелы, но шум прибоя заглушал их тихое жужжание. Сразу за живой изгородью начиналась сосновая роща, потом шла полоса песка, за которой уже пенились морские волны. Под зданием гостиницы протекал ручей, перед впадением в море он разливался пошире, и после обеда туда выпускали гусей, которые хлопали по воде крыльями и хрипло гоготали.
Итак, у Томоко было трое детей: шестилетний Киёо, пятилетняя Кэйко и трехлетний Кацуо. Все трое отправились на пляж с Ясуэ, сестрой мужа Томоко. Молодая мать попросила безотказную золовку приглядеть за детьми, а сама решила немного поспать.
Ясуэ была старой девой. Когда у Томоко родилась дочка и ей стало трудно управляться с двумя детьми, она, посоветовавшись с мужем, пригласила золовку, жившую в провинции, в свой токийский дом. Трудно сказать, отчего Ясуэ не вышла замуж. Пусть она не была красавицей, но все-таки и не уродина. К ней несколько раз сватались, но она всем отказывала, так и упустила время. Ясуэ души не чаяла в старшем брате и мечтала жить в Токио, тем более что домашние намеревались выдать ее замуж за какого-то богатого старика из местных. Так что предложение Томоко пришлось по душе.
Золовка умом не блистала, но зато имела ровный и покладистый характер. Она обращалась к Томоко как к старшей, хотя та была гораздо моложе, и вообще относилась к жене брата с подчеркнутым уважением. Со временем ее провинциальный говор стал почти незаметен. Она помогала Томоко по хозяйству, нянчила малышей, а после того как брат отправил ее на курсы шитья, стала вдобавок и обшивать всю семью. Ясуэ частенько ходила на Гиндзу[1], разглядывала витрины модных магазинов и, завидев платье или костюм нового фасона, тут же срисовывала его в специальный блокнот – продавщицы ей даже несколько раз делали замечания.
Сегодня Ясуэ отправилась на пляж в зеленом купальнике, самом что ни на есть наимоднейшем. Правда, он был не собственного ее производства, а куплен в универмаге. Ясуэ очень гордилась своей белоснежной кожей и не признавала загара, поэтому, едва выйдя из воды, спешила спрятаться под зонт. Детишки строили песчаную крепость, и Ясуэ от нечего делать тоже стала сыпать на свои ослепительно белые ляжки мокрый песок. Песок быстро подсыхал и осыпался, образуя на ногах затейливые темные зигзаги, посверкивавшие осколками ракушек. Вдруг, испугавшись, что грязь не отмоется, Ясуэ быстро смахнула рукой всю эту красоту. Из горки песка выбралась какая-то полупрозрачная мошка и улетела прочь.
Ясуэ оперлась на локти, раскинула ноги пошире и стала глядеть на море. Над горизонтом громоздились слоистые облака; величественные и неторопливые, они, казалось, поглощали своим суровым сияющим безмолвием и крики, и плеск морских волн.
Лето было в разгаре, и в свирепом сиянии солнца чувствовалась чуть не ярость.
Детям надоело возиться в песке. Они побежали по мелководью, поднимая фонтаны брызг. Ясуэ тут же вышла из мечтательного оцепенения, вскочила на ноги и бросилась следом за племянниками. Однако дети не затевали ничего опасного – они и сами побаивались ревущих валов. Каждый раз, когда волна, разбившись, откатывалась обратно, вода на отмелях крутилась маленькими водоворотами. Киёо и Кэйко, взявшись за руки, зашли в море по грудь и стояли там, чувствуя, как вода толкает их в спину. Песок медленно уходил из-под ног, было жутковато, и глаза обоих оживленно блестели.
– Будто кто-то за ноги тащит, ага? – сказал Киёо.
Ясуэ подошла к детям и предупредила их, чтобы глубже они не заходили. Потом показала на оставшегося в одиночестве маленького Кацуо и поругала старших: как же это они оставили братика одного, пусть вылезают из воды и поиграют с ним. Киёо и Кэйко не слушали тетку. У них была общая тайна – оба чувствовали, как песок потихоньку уползает из-под подошв. Брат с сестрой, не разжимая рук, переглянулись и засмеялись.
Стоять на солнце Ясуэ не нравилось. Она опасливо посмотрела на свои плечи, потом на грудь. Белая кожа напомнила ей снега родного края. Ясуэ слегка ущипнула себя повыше лифчика и улыбнулась – кожа была горячей. Тут она заметила, что под длинные ногти попали песчинки, и подумала: вернемся с пляжа, надо будет подстричь.
Когда она подняла глаза, Киёо и Кэйко исчезли. Вышли на берег, решила Ясуэ. Однако на песке по-прежнему стоял один Кацуо. Малыш показывал пальцем в море, его личико странно кривилось.
У Ясуэ сжалось сердце. Она обернулась к воде. Волна как раз откатывалась от берега, и впереди, метрах в двух, в бурлящей пене, Ясуэ увидела маленькое смуглое тельце – вода вертела его и тащила прочь. Мелькнуло синее пятно – плавки Киёо.
Сердце Ясуэ заколотилось еще сильней. Молча, с искаженным от ужаса лицом она сделала шаг вперед. В этот миг высокая волна, каким-то чудом до самого берега не растерявшая силу, ударила Ясуэ в грудь и разбилась о песок. Женщина рухнула как подкошенная. С ней случился инфаркт.
Кацуо громко заплакал, к нему подбежал какой-то молодой человек. Потом сразу несколько мужчин бросились в воду. От загорелых тел бегущих во все стороны разлетались брызги.
Двое или трое видели, как Ясуэ упала, однако сначала не придали этому значения, думая, что она сейчас поднимется. Но в подобных случаях охватывает некое предчувствие, и теперь, ничего еще не зная, люди, спешащие на помощь Ясуэ, чувствовали, что дело неладно.
Ясуэ перенесли на берег и уложили на горячий песок. Глаза ее были широко раскрыты, зубы крепко стиснуты – казалось, она не отрываясь смотрит на что-то очень страшное. Один из мужчин попытался нащупать пульс. Пульса не было. Кто-то предположил, что женщина в глубоком обмороке. Один из толпы узнал Ясуэ и воскликнул:
– Эта женщина живет в «Эйракусо».
Решили послать за администратором гостиницы. Эта миссия досталась одному из местных мальчишек, и, боясь, как бы его не опередили, подросток понесся по песку к гостинице с невероятной быстротой.
Появился администратор. Это был мужчина лет сорока, в белых шортах и белой же мятой майке, подхваченной широким шерстяным поясом. Администратор заявил, что, прежде чем оказывать помощь пострадавшей, ее нужно перенести в гостиницу. Кто-то пытался возражать, но двое парней уже подхватили тело и потащили его вперед. Там, где лежала Ясуэ, на песке осталась влажная вмятина.
Кацуо, хныча, заковылял следом. Его тут же кто-то поднял и посадил на плечи.
Послеобеденный сон Томоко был прерван. Опытный в обращении с постояльцами администратор легонько тронул ее за плечо.
– А? – спросила Томоко.
– Тут такое дело… Дама, которую зовут Ясуэ-сан…
– Что с ней?
– Ее приводят в чувство. За доктором уже послали.
Томоко вскочила с постели и вместе с администратором поспешно вышла из номера. Ясуэ лежала в углу сада, на траве, рядом с качелями. На ней, оседлав неподвижное тело, восседал голый мужчина – пытался сделать искусственное дыхание. Тут же, в нескольких шагах, была наскоро навалена груда ящиков из-под мандаринов и ворох соломы, еще двое мужчин пытались развести костер. Огонь никак не желал разгораться, только дым валил – ящики и солома не успели просохнуть после вчерашнего ливня. Иногда, когда дым тянулся к лицу лежащей Ясуэ, еще один доброволец отгонял его веером.
От рывков подбородок Ясуэ то поднимался, то опускался, и всем казалось, что она уже дышит. По дочерна загорелой спине спасателя, пятнистой от просеянных сквозь листву лучей, стекали струйки пота. Раскинутые на траве белые ноги Ясуэ были мертвенно-бледными и неестественно толстыми. Ноги оставались равнодушными к отчаянной борьбе, в которой участвовала половина тела.
Томоко опустилась на землю.
– Ясуэ, Ясуэ! – взывала она. Потом, заливаясь слезами, быстро и невнятно запричитала: – Ой, неужели ее не спасут, что же это такое, да что я мужу скажу!
Вдруг Томоко резко обернулась.
– А дети? – спросила она.
Стоящий поблизости немолодой рыбак обнял за плечи испуганно надувшего губки Кацуо.
– Гляди, вон твоя мама.
Увидев сына, Томоко пробормотала:
– Приглядите за ним, пожалуйста.
Пришел врач и тоже стал делать искусственное дыхание. Костер наконец разгорелся, лицо Томоко раскраснелось от жара, и она ни о чем уже не помнила. По лбу Ясуэ полз муравей. Томоко раздавила его пальцем и смахнула. Потом появился еще один – он прополз по колеблемым ветерком волосам, вскарабкался на ухо. Томоко раздавила и этого. У нее появилось дело – давить муравьев.
Четыре часа продолжались попытки оживить тело. Лишь когда признаки посмертного окоченения стали несомненны, врач сдался. Тело накрыли простыней и отнесли на второй этаж. Уже стемнело, и один из добровольных помощников, оставшийся не у дел, взбежал по лестнице и зажег в комнате свет.
Томоко совсем выбилась из сил, ею овладела бездумная, не лишенная приятности апатия. Горя она не чувствовала. Вспомнив о малышах, Томоко спросила:
– А где дети?
– Вроде, в гостиной, с ними Гэнго играет, – ответили ей.
– Все трое там?
– Этого я не знаю…
Люди стали переглядываться. Протиснувшись сквозь них, Томоко сбежала вниз по лестнице. Давешний рыбак, Гэнго, одетый в гостиничный халат, сидел в кресле с Кацуо, на плечи которого была накинута мужская рубашка. Они листали книжку с картинками. Кацуо на картинки не смотрел, он думал о чем-то другом.
Когда Томоко появилась в дверях гостиной, сидевшие там постояльцы, которые уже знали о несчастье с Ясуэ, перестали обмахиваться веерами и обернулись к молодой женщине.
– Где Кэй-тян[2] и Киё-тян?!
Кацуо испуганно смотрел на мать. Всхлипнув, он тихо пролепетал:
– Кэй-тян и Киё-тян буль-буль.
Томоко, позабыв даже обуться, побежала на пляж. Сосновые иголки, которыми был усыпан песок в роще, больно кололи ей ноги. Вода поднялась, и теперь, чтобы попасть на пляж, пришлось сначала подняться на скалу, а потом спуститься. Сверху хорошо просматривался весь белый песчаный берег. Один-единственный желтый с белым зонт торчал в песке, Томоко сразу его узнала.
Подошли люди из гостиницы. Томоко потерянно бродила вдоль линии прибоя. Когда ее попытались увести, она раздраженно смахнула чужие руки с плеч:
– Вы что, не понимаете? Здесь где-то двое детей!
Не все присутствующие слышали от Гэнго про пропавших детишек, и эти люди решили, что Томоко от горя не в себе.
Может показаться невероятным, что за четыре часа хлопот над безжизненным телом Ясуэ никто не вспомнил о двух малышах, – ведь постояльцы привыкли видеть ребятишек втроем. Поразительно и то, что мать, как бы ни была она потрясена случившимся, не почувствовала опасности, угрожавшей ее маленьким детям.
Но иногда трагическое происшествие создает своего рода психологический водоворот, заставляющий каждого человека в толпе мыслить одним-единственным, наиболее примитивным образом. За пределы этой очевидной траектории выбраться непросто, еще сложнее противопоставить ей свою версию. Поднятая с постели Томоко сразу же, без малейших сомнений, приняла установившуюся точку зрения на случившееся.
Всю ночь на побережье с интервалами в несколько метров горели костры, каждые полчаса мужчины заходили в воду, пытаясь найти утопленников. Томоко не отлучалась с берега ни на минуту. Спать она не могла – слишком велико было возбуждение, да и выспалась она после обеда.
Рассвело. По просьбе полиции в это утро рыбаки не вышли в море закидывать сети.
Из-за крайнего левого мыса взошло солнце. В лицо дохнуло утренним ветром. Сегодняшний восход был для нее страшен. Ей казалось, что с наступлением дня весь ужас происшедшего станет несомненным, трагедия обретет реальность.
– Вам надо отдохнуть, – сказал кто-то из стариков. – Мы разбудим вас, когда найдем их. Положитесь на нас.
– И то верно, – подхватил администратор, его глаза покраснели после бессонной ночи. – Столько несчастий, столько горя – заболеете еще. Подумайте о муже.
Томоко страшно было помыслить о предстоящей встрече с мужем. Это все равно что предстать перед судом, думала она. Но, так или иначе, встречи было не избежать. Новая неотвратимая мука неумолимо приближалась и представлялась Томоко еще одним звеном в цепи сваливавшихся на нее несчастий.
Наконец она набралась решимости дать мужу телеграмму. К тому же под этим предлогом можно было уйти с пляжа, а то ей уже начинало казаться, что ныряльщики ждут от нее каких-то особых указаний.
Томоко повернулась было идти, но оглянулась. Море дышало покоем. Рябь на волнах вспыхивала серебристыми бликами. Из воды выпрыгивали рыбешки, будто распираемые безудержной веселостью. Собственное несчастье показалось Томоко страшной несправедливостью.
* * *
Мужу Томоко Масару Икуте было тридцать пять лет. Он окончил институт иностранных языков и еще до войны работал в американской торговой фирме, так что английским владел в совершенстве, на работе его ценили. Человек он был немногословный, но прекрасный работник. Теперь он возглавлял филиал американской автомобильной компании. Он разъезжал на принадлежавшем фирме автомобиле (главным образом, для рекламы) и получал в месяц целых 150 тысяч иен. Были у него и кое-какие побочные доходы, так что Масару без труда содержал семью, включавшую кроме жены, сестры и троих детей еще и горничную. Не было никакой экономической необходимости сокращать это семейство разом на три рта.
Томоко предпочла телефону телеграф, потому что боялась разговора с мужем. Получив телеграмму, служащая токийского почтового отделения, как это делается обычно, позвонила по телефону адресату. Масару Икута как раз собирался на работу. Услышав звонок, он подумал, что это из фирмы, и, не ожидая ничего дурного, снял трубку.
– Срочная телеграмма из А., – услышал он женский голос, и сразу тревожно защемило сердце. – Читаю. Слушаете? «Ясуэ умерла. Точка. Киёо и Кэйко пропали. Точка. Томоко».
– Прочтите снова, пожалуйста.
Во второй раз телеграмма звучала точно так же. «Ясуэ умерла. Киёо и Кэйко пропали». Масару ощутил прилив злобы. Словно вдруг, ни с того ни с сего, ему вручили уведомление об увольнении. Он положил трубку, в груди все клокотало от обиды.
Пора было садиться в машину и ехать в фирму. Масару тут же позвонил и предупредил, что его не будет. Сначала он хотел поехать до А. на своей машине, но потом решил, что вряд ли стоит в таких расстроенных чувствах садиться за руль, – дорога чересчур длинна и опасна. Тем более, он недавно попал в аварию. Итак, Масару предпочел ехать поездом до Ито, а оттуда взять такси.
Поистине удивителен процесс, происходящий в душе человека, с которым стряслось нечто неожиданное. Масару еще не знал толком, что именно произошло в А., но, перед тем как отправиться в дорогу, захватил из дому побольше денег. Он знал, что трагические происшествия всегда требуют расходов.
В такси по дороге на вокзал Масару не испытывал никаких особых чувств: вернее всего, его душевное состояние можно было бы сравнить с нетерпением полицейского инспектора, спешащего поскорее попасть к месту преступления. Масару не столько переживал, сколько пытался предположить, что же там все-таки произошло, – он прямо дрожал от любопытства, так хотелось узнать все подробности события, которое произведет столь значительные перемены в его жизни.
В такие минуты несчастье, мысли о котором мы вечно гоним подальше от себя, мстит нам за пренебрежение полной мерой. Как гоняемся мы за счастьем в хорошие времена, как носимся с ним, но что от него проку в ненастные дни нашей жизни? Редко сталкиваемся мы с несчастьем, и трудно нам при встрече сразу распознать его черты.
«Могла бы позвонить, да, видно, побоялась, – безошибочно определил Масару ход мыслей жены. – Так или иначе, все равно нужно ехать и разобраться во всем самому».
Он смотрел из окна такси на токийские улицы. Был самый разгар лета, от толп прохожих, одетых в белое, сияние утра делалось еще нестерпимее. Густо чернела тень аллей, напряженно натянулся красно-белый тент над входом в чей-то отель, словно с трудом удерживая раскаленный металл льющихся с неба лучей. Выкопанная совсем недавно земля на участке, где велись строительные работы, уже ссохлась и побурела.
Весь окружавший Масару мир продолжал жить так, будто ничего не случилось: Масару даже мог, если бы захотел, уверить себя в том, что у него все в порядке. Он ощутил странную, какую-то детскую досаду. Нет, ну действительно: где-то далеко стряслось нечто, в чем он нисколечко не виноват, и сразу же отрезало его от всего остального мира.
Чтобы доехать до Ито, надо садиться в поезд на Сонан и в Ацуми сделать пересадку. Утром в будний день свободных мест в вагоне было сколько угодно.
Как подобает сотруднику иностранной фирмы, Масару даже в самую жару носил пиджак и галстук. Одеколон заглушал запах пота, но временами по спине, вдоль позвоночника, и по животу стекали холодные струйки.
Масару подумал, что из всех пассажиров нет никого несчастнее, чем он, и эта мысль сразу словно бы перевела его в новое качество, подняла на более высокую ступень. Или спустила ступенью ниже? Теперь он не такой, как все, его природа отлична. Это ощущение было для Масару внове. Младший сын богатого провинциального семейства, он с гимназических лет жил в Токио, у дяди (теперь уже покойного); денег из дому ему присылали достаточно, так что нахлебником он себя не чувствовал; всю войну тихо проработал в департаменте информации, дававшем бронь от армии; потом женился на девушке из хорошей токийской семьи; получил свою долю наследства, построил дом, добился завидного – да еще какого завидного – положения. Масару всегда считал себя удачливее и способнее других, но чтобы ощутить себя человеком иного по сравнению со всеми качества, – такого с ним еще не случалось.
Наверное, человеку, родившемуся с огромным родимым пятном на спине, иногда ужасно хочется закричать:
– Эй, господа! Вот вы смотрите на меня и не знаете, что под одеждой, на спине, у меня здоровенное пятно винного цвета!
Вот и Масару с трудом сдерживался, чтобы не объявить пассажирам:
«Эй, господа! Вот вы сидите тут и не знаете, что я сегодня лишился двоих детей, да еще и сестры в придачу!»
Масару совсем пал духом. Хоть с детьми бы как-нибудь обошлось, взмолился он. Может быть, дети просто заблудились где-нибудь, а Томоко в панике телеграфировала «пропали». Может, он едет в поезде, а домой уже принесли новую телеграмму, что все хорошо? Масару всецело погрузился в собственные переживания, они сейчас казались ему значительнее самого происшествия. Ну почему он сразу же не позвонил из дому в «Эйракусо»?
Площадь перед станцией в Ито была залита солнцем. Такси полагалось заказывать в маленькой дощатой будке. Солнце безжалостно просвечивало диспетчерскую насквозь, и висевшие на стене листки расписаний покоробились и пожелтели.
– Сколько стоит доехать до А.? – спросил Масару.
– Две тысячи, – ответил диспетчер, сидевший в фуражке, но с полотенцем, обмотанным вокруг шеи. То ли его одолевала скука, то ли диспетчер от природы был такой любезный, но он добавил: – Если вы не очень спешите, ехали бы на автобусе. Он через пять минут отходит.
– Спешу. Меня срочно вызвали – несчастье с родственниками.
– А-а. Мне уже рассказывали. Утонувшие в А. – ваши родственники? Какой кошмар – двое детишек и женщина.
Несмотря на яркое солнце, у Масару потемнело в глазах. С этой минуты и до прибытия в А. он не произнес ни слова.
Шоссе от Ито до А. особой живописностью не отличается. Пыльная дорога петляет по горам, моря с нее не видно. Когда такси, разъезжаясь с встречным автобусом, подавалось к обочине, по открытым окнам хлестали ветки – словно испуганная птица хлопала крыльями, – и на тщательно отутюженные брюки Масару сыпались хлопья пыли.
Масару никак не мог решить, как ему держаться с женой. Вряд ли можно было вести себя, как говорится, «естественно», поскольку испытываемые им чувства никак не подходили к ситуации. Может быть, неестественная реакция и есть самая естественная?
Такси въехало в А. Старый рыбак, несший корзинку со ставридами, шагнул с дороги на пыльную траву, пропуская машину. Его лицо почернело от солнца, на одном глазу белело мутное бельмо. Похоже, старик возвращался с мыса Накама, с рыбалки. Летом в здешних водах ловят ставриду, рыб-ворчунов, камбалу, моллюсков, а на берегу выращивают мандарины, грибы сиитакэ, апельсины.
Показались почерневшие от времени ворота гостиничного двора. Навстречу такси, стуча деревянными сандалиями, выбежал администратор. Масару машинально потянулся за бумажником.
– Я – Икута, – сказал он.
– Такое несчастье, такое несчастье, – низко поклонился администратор. Масару расплатился с шофером, кивнул администратору и сунул ему тысячеиеновую бумажку.
Томоко и Кацуо ждали в номере. В соседней комнате стоял гроб с телом Ясуэ – из Ито привезли сухого льда и обложили им труп. Теперь, когда приехал Масару, тело сожгут.
Масару вошел в номер первым, администратор – за ним. Томоко, недавно прилегшая наконец отдохнуть, испуганно обернулась и вскочила с кровати. Заснуть она так и не смогла.
Волосы ее растрепались, халат измялся. Словно преступница, ожидающая приговора, Томоко одернула на себе халат и опустилась на колени. Движения ее были стремительны, будто она продумала все свое поведение заранее. Томоко украдкой заглянула в лицо мужу, потом рухнула на пол и залилась слезами.
Масару очень не хотелось при администраторе обнимать и утешать рыдающую жену. Это еще хуже, чем при постороннем лежать с ней в постели, подумал он. Масару снял пиджак и поискал глазами вешалку.
Томоко, оказывается, все видела. Она быстро поднялась с пола, вынула из шкафа голубую пластмассовую вешалку и взяла у мужа пропахший потом пиджак. Масару сел на кровать рядом с Кацуо, который, разбуженный рыданиями матери, открыл глаза, но продолжал тихонько лежать. Масару посадил сына на колено. Тот не шевельнулся, так и застыл, словно кукла. Какой же он легонький, подумал Масару. Будто игрушку в руках держишь.
Томоко решилась произнести слова, которых, по ее разумению, ждал от нее муж. Присев в углу и не переставая плакать, она пролепетала:
– Прости меня, прости…
Администратор, торчавший в дверях, тоже прослезился.
– Извините, что вмешиваюсь, – сказал он, – но вы уж ее не вините. Когда все это случилось, госпожа спала, она не виновата.
У Масару возникло неприятное ощущение, что все это он уже видел когда-то или читал нечто похожее в книге.
– Понимаю, понимаю, – кивнул он. Потом, как бы следуя ритуалу, поднялся – Кацуо он по-прежнему прижимал к себе, – подошел к жене и положил ей руку на плечо. Жест получился вполне натуральным.
Томоко зарыдала еще пуще.
Тела Киёо и Кэйко нашли на следующий день. Полиция вела поиски по всему побережью, и в конце концов у подводной скалы ныряльщики обнаружили двух маленьких утопленников. Над трупами успела поработать морская живность, в каждой ноздре нашли по нескольку крошечных крабиков.
* * *
Происшествия такого рода выходят за пределы обычных людских представлений и привычек, но ни в какие иные моменты жизни условности и традиции не занимают столь важного места. Супруги превосходно вписались в роль убитых горем родителей, принимая многочисленные соболезнования и знаки сочувствия.
Любая смерть – это, в определенном смысле, деловая операция, так что дел у четы Икута хватало. У главы семьи, Масару, можно сказать, почти не оставалось времени, чтобы как следует предаться скорби. А Кацуо, пораженному этой вереницей праздников, казалось, что взрослые затеяли какую-то игру.
В конце концов семья справилась с многосложной процедурой. Денежные подношения от соболезнующих составили довольно значительную сумму (следует отметить, что, когда глава семьи, которую постигло горе, жив и вполне трудоспособен, пожертвования почему-то всегда больше).
Масару и Томоко сами поражались своей суетливости. Томоко просто не могла понять, как может уживаться в ней горе, от которого впору помрачиться рассудку, с преувеличенным вниманием ко всяким мелочам. Ела она, не замечая вкуса, с застывшей скорбной маской на лице, – но аппетит тем не менее был зверский.
Томоко очень боялась момента, когда из Канадзава приедут родители Масару, но те еле-еле успели к похоронам. Вновь она заставила себя произнести страшные слова: «Это я, я во всем виновата». Но потом кинулась жаловаться своим родителям:
– Это меня надо пожалеть в первую очередь! Ведь я двоих детей потеряла! А все только молча меня осуждают! Они думают, что это я во всем виновата! Ну почему я должна просить у них прощения?! Как будто я им нянька какая-нибудь, у которой по недосмотру хозяйские дети утонули! А виновата-то не я, а их ненаглядная Ясуэ. Ее счастье, что она умерла. Почему, почему никто не понимает, что больше всех страдаю я? Ведь я мать! Я разом двоих детей лишилась!
– Ты несправедлива, доченька. Никто тебя и не думает винить. Ведь мать Масару-сан сказала: «Больше всех жаль бедняжку Томоко», и заплакала, глядя на тебя.
– Это она только на словах.
Томоко безо всякой на то причины чувствовала глубочайшее неудовлетворение. Она ощущала себя заброшенной и одинокой – никто не может оценить и понять ее страданий. Она перенесла такое горе, что имеет право на любые, самые невероятные привилегии, а вместо этого должна просить прощения у свекрови! Нет, и собой Томоко была крайне недовольна. Не в силах справиться с раздражением, от которого, как от экземы, огнем горело все тело, Томоко бежала искать утешения к матери.
И невдомек было бедняжке, что в отчаяние ее приводит скудость и несовершенство человеческих чувств вообще. Действительно, абсурд – один человек погиб или десять, слезы все льют одинаково. Могут ли слезы служить мерилом чувства? И какого? Какой видится она, Томоко, другим? И в еще большее отчаянье приходила она, когда пыталась заглянуть в собственную душу и видела там лишь мрак и неопределенность.
Томоко поражало, почему она до сих пор жива. Часами стоит в трауре – в самую жару – и хоть бы что, даже в обморок не падает. Иногда подкатывала дурнота, но каждый раз выручало острое, невыразимое словами чувство – страх смерти.
– Оказывается, я сильнее, чем думала, – сказала она, прижимаясь заплаканным лицом к матери.
Вдруг Томоко пришло в голову, что ей совершенно не жаль умершую Ясуэ. Она была слишком мягкосердечна, чтобы испытывать ненависть к покойной, но если нечто, схожее с ненавистью, и оставило свой след в ее душе, причиной тому стали злосчастные четыре часа, в течение которых Томоко думала только об умершей золовке, начисто забыв о собственных детях.
Ее злило, когда Масару в разговоре с родителями плакал, жалея горемычную сестру, так и умершую старой девой.
«Неужели какая-то там сестра для него так же важна, как собственные дети», – думала Томоко. Она постоянно пребывала в напряжении. Даже после бессонной ночи, проведенной возле покойных перед кремацией, Томоко не смогла уснуть. И ничего, даже голова не болела. Наоборот, мысли были ясными и трезвыми.
Знакомые, беспрестанно наведывавшиеся с соболезнованиями, все спрашивали о самочувствии Томоко, и один раз она, не выдержав, отрезала:
– Оставьте, ради бога, мое самочувствие в покое. Жива я или умерла – какая теперь разница?!
Однако она больше не помышляла о самоубийстве, и боязнь лишиться рассудка тоже ее оставила. У нее была весьма веская причина продолжать жить дальше – ради Кацуо. Но иногда, глядя, как очередная гостья, одетая в траур, читает маленькому Кацуо детскую книжку, и радуясь тому, что не ушла из жизни в самые первые, страшные часы, Томоко неожиданно ловила себя на мысли: а что если просто у нее не хватило мужества, не хватило любви? В такие вечера, положив голову на грудь мужа, она смотрела остановившимися, пустыми, как у кролика, глазами на пол, на пятно света от торшера и жалобно повторяла:
– Во всем виновата я. Моя безответственность. Я вообще не имела права поручать Ясуэ-сан заботу о своих детях.
Голос Томоко был лишен выражения, словно она взывала к пустынным горам, которые могли ответить ей только эхом.
Масару понимал, что означают эти приступы самообвинений. Жене хотелось, чтобы на нее обрушилась какая-нибудь кара. Она, можно сказать, жаждала этой кары…
После поминок, ознаменовавших двухнедельный срок несчастья, жизнь семьи начала входить в нормальное русло. Многие предлагали супругам взять с собой ребенка и уехать куда-нибудь на курорт – отдохнуть и забыться. Но Томоко одинаково боялась и моря, и гор, и горячих источников; она не могла забыть поговорку: беда не приходит одна.
Как-то вечером, уже в конце лета, Томоко вдвоем с Кацуо отправилась на Гиндзу. Она условилась встретиться с Масару после работы и сходить куда-нибудь вместе поужинать.
Кацуо уже успел привыкнуть, что ему ни в чем нет отказа. Папа и мама вдруг стали такие ласковые, что даже страшно делалось. И обращались с ним теперь так, словно он был хрупкой стеклянной игрушкой, а уж когда надо было перейти улицу, тут мама просто с ума сходила: подхватит Кацуо на руки и со всех ног перебегает дорогу, враждебно озираясь на застывшие перед светофором машины.
В глаза Томоко бросились купальники, еще выставленные в витрине магазина, и она вздрогнула. На одном из манекенов был зеленый купальник, очень похожий на тот, который купила себе Ясуэ. Томоко отвела глаза и поспешила пройти мимо. Потом уже она все пыталась вспомнить, была у манекена голова или нет: то ей казалось, что не было, то вдруг мерещилось мертвое лицо Ясуэ – глаза закрыты, мокрые волосы спутались. Теперь в каждом манекене Томоко чудился утопленник.
Поскорее бы лето кончилось, подумала она. В самом звучании этого слова ей слышалось смрадное дыхание смерти. И сияние лета тоже казалось ей смрадным.
Еще оставалось время, и Томоко зашла в универмаг – до закрытия было минут тридцать-сорок. Кацуо потребовал пойти в отдел игрушек, и они поднялись на третий этаж. Мимо секции детских купальников Томоко протащила сына чуть не бегом. Мамаши азартно копались в груде выставленных на распродажу плавок. Одна вертела в руках синие купальные трусики, потом подняла их повыше, чтобы вечернее солнце через окно осветило товар получше. Ярко вспыхнула металлическая пряжка. Не терпится ей саван для своего сыночка подобрать, подумала Томоко.