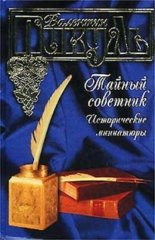Связь без брака Распопов Дмитрий

Данная книга является художественным произведением. Имена, персонажи, компании, места, события и инциденты являются либо продуктами воображения автора, либо используются фиктивным образом. Любое сходство с реальными людьми, живыми или мертвыми, или фактическими событиями является случайным.
Также автор не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя, сигарет, нетрадиционным отношениям, педофилии, смене пола и другим действиям, запрещенным законами РФ. В описанном мире другая система времени, возрастов и система исчисления. Все герои при пересчете на нашу систему совершеннолетние.
Автор осуждает употребление наркотиков, алкоголя и сигарет, нетрадиционные отношения, педофилию, смену пола и другие действия, запрещенные законами РФ.
___________
Глава 1
– Иван Николаевич, – я пьяно ударил пустым стаканом по замызганной клеёнке стола, – да как вы такое можете говорить?! В СССР всё было лучше! Уж точно лучше, чем сейчас!
Мой сосед и собутыльник, составляющий мне компанию все три года после ухода моей жены, покачал головой. У нас была с ним разница в двадцать лет, и если я застал лишь изменчивые восьмидесятые, когда вся страна понимала, что что-то вскоре должно произойти, то сосед был пятидесятого года рождения и помнил гораздо больше СССР, чем я, и был куда категоричнее в том, что раньше было лучше.
– Никита, – он покачал головой, доливая мне в стакан ещё на два пальца, не забывая и про себя, – я тебе уже столько раз рассказал про свою жизнь, но ты постоянно, как этот плешивый, что появляется на экране телека, затягиваешь старую пластинку. Не было всё хорошо! Точнее, не у всех было это хорошо! Я ведь тебе рассказывал про детство, про армию и про тюрьму, в конце концов! Начинать сначала?!
– Мне кажется, вы сгущаете краски, Иван Николаевич, – пьяно икнул я, прикладывая руку к губам, чтобы палёная водка не полезла обратно, и постарался запить всё побыстрее томатным соком, за упаковку которого нам пришлось подраться у мусорного ящика с бомжами рядом с «Пятёрочкой», куда каждый вечер выкидывали просрочку.
– Как директор мог спокойно насиловать воспитанников, и об этом никто не знал? А воспитатели? А проверяющие? В конце концов, дети же выпускались из интерната, они могли рассказать об этом в милиции уже потом, когда им ничего не грозило!
Старик посмурнел и отрицательно покачал головой.
– Двадцатый раз тебе говорю. Никто никому ничего не рассказывал! За стукачество старшаки били и били сильно, так что, прожив там даже месяц, ты навсегда закрываешь рот или оказываешься на кладбище, а после выпуска… оно тебе нужно, сообщать всем о себе такие подробности? Проще было забыть, как страшный сон, и никогда туда не возвращаться.
– Ну хорошо, ладно, интернат, – махнул я рукой и чуть не сбил на пол трёхлитровую банку с мутным рассолом, в котором плавали огурцы, наша основная закуска, – но в школе, которую вы посещали при этом вашем интернате, учителя видели синяки? Сломанные руки?
– Все мы были для воспитателей словно невидимки, – он стал заводиться от злости, – опять ты начинаешь одно и то же? Ничего не смог бы ты сделать! Ни-че-го! Даже если всё начать сначала, то любой остался бы ещё одним маленьким винтиком большого механизма, которым было тогда государство – Союз Советских Социалистических Республик.
– Не согласен, – я тоже покачал головой, – я бы точно изменил хоть что-то.
– Никита! – он угрожающе прорычал и показал кулак, сплошь, как и рука, покрытый синими, расплывшимися от старости татуировками, – сейчас опять огребёшь от меня!
– Вы бы так лучше в интернате себя грозно вели, глядишь, и в тюрьме бы не оказались, – рассмеялся я, и тут обычно уравновешенный собутыльник молча схватил со стола лежащий там складной охотничий нож и практически без замаха ударил мне в грудь.
Боль окатила меня с ног до головы, и когда он вытащил его из раны, я сначала удивлённо потрогал то место, куда пришёлся удар, недоумённо рассматривая руку, полностью оказавшуюся в крови. Боль волнами накатывала и накатывала, стали холодеть ноги, затем руки, и последнее, что я услышал, перед тем как потерять сознание, – это его обеспокоенный голос.
– Никита? Никита, очнись, харе притворяться!
***
– Иван, вставай, собирайся, – услышал я женский голос и, открыв глаза, увидел, как в комнате, где я лежу на кровати, напротив двери у зеркала стояла незнакомая мне женщина лет тридцати в смешном старом ситцевом платье, коричневых туфлях на низком каблуке, но почему-то в небольшой шляпке, которую она поправила и повернулась ко мне.
– Вставай, машина уже ждёт во дворе, нехорошо людей заставлять ждать! Я и так дала тебе возможность выспаться.
– А куда мы идём? – не понимая, где я, кто эта женщина и что ей от меня надо, я медлил, ведь последним, что помнил, был мой собутыльник в занюханной квартире и его удар ножом мне в грудь.
– В новое место, я вчера тебе о нём говорила, – уклончиво ответила она, смотря за тем, как я встаю с кровати, – меньше вопросов, Иван, быстрее собирайся!
Тут я удивился ещё сильнее, но тем не менее поднялся, изумляясь от того, что мои руки тонкие, словно веточки, а белая майка-алкоголичка и чёрные семейные трусы, присутствующие на мне, словно вернулись из детства. В точно таких же я ходил в своё время в школу.
Собрав, видимо, приготовленные заранее немногочисленные вещи, лежащие аккуратной стопкой на стуле возле кровати, и сложив их в ранец, я надел школьную форму и повязал галстук, поправив воротник рубашки.
– Я готов, – оповестил я женщину.
– Наконец-то! – её губы скривились, и она качнула головой в сторону входной двери. Выйдя в коридор, я понял, что мы живём в общежитии, поскольку этот длинный коридор со множеством одинаковых дверей друг напротив друга мне был уж слишком хорошо знаком. В подобном я и сам прожил, учась в институте. Стояло раннее утро, так что никого, кроме нас, не было, и мы спустились вниз, выйдя из двери, провожаемые удивлённым взглядом вахтёра, сидевшего на своём месте.
– «Волга»? – я ещё сильнее удивился, увидев чёрную машину, к которой подвела меня женщина и, поприветствовав шофёра в военной форме, села сама на переднее сиденье, а мне сказала занять заднее. Сняв ранец и поправив кожаные лямки, я забрался во вкусно пахнущий, чистый салон и, боясь его запачкать, аккуратно присел, поставив ранец с вещами себе на колени.
Рыкнув мотором, машина тронулась с места. Водитель с женщиной не разговаривал, и так, молча, мы довольно длительное время ехали по улицам явно небольшого посёлка, давая тем самым перевести мне дух и осмотреться.
«Где я? – вертел я головой по сторонам, не узнавая улицы и дома, – ни одного знакомого места».
Правда, вскоре этот вопрос ушёл на последний план, поскольку люди и вывески, которые редко встречались на улицах просыпающегося посёлка с весьма разбитыми дорогами и встречающимися частными деревянными домами, вызвали у меня приступ лёгкой паники.
– Какое сегодня число? – с дрожью в груди спросил я у женщины.
– Двадцать пятое, ты что, забыл, что ли? – недовольно ответили мне, даже не повернув голову в мою сторону.
– А год какой?
Водитель громко хмыкнул, а женщина, извинившись, удостоила меня взглядом.
– Иван, никакие ухищрения тебе не помогут, решение принято, и ты пока поживёшь в новом месте.
«Что она заладила “новое место” да “новое место”, – не понял я, – что за место такое? Вот бы ещё помнить вчерашний разговор с ней».
Через двадцать минут поездки мы свернули влево с дороги и поехали по небольшой грунтовке к огороженной территории, за высоким забором которой виднелось трёхэтажное прямоугольное довольно-таки длинное здание.
Скрипнув тормозами, «Волга» остановилась, и женщина сказала водителю, что она скоро, на что он лишь кивнул, не ответив ничего вслух.
– Идём за мной! – сказала она, выходя из машины и дожидаясь, когда я выберусь с заднего сиденья и надену на себя ранец.
Идя за ней по дорожке, выложенной квадратными бетонными плитами, я почувствовал на себе множественные взгляды. Подняв глаза, я увидел, как из многих окон здания на меня смотрят дети, много детей. Сердце впервые сделало тревожный перестук, а спина похолодела.
Мы зашли внутрь, и женщина поздоровалась с вахтёром, рядом с которым стояло два взрослых подростка лет по шестнадцать, которые стали осматривать меня жадными взглядами, заставившие чувствовать себя ещё более неуютно, особое их внимание привлёк мой рюкзак.
– Жди здесь! – женщина показала мне на стул, когда мы прошли по гулкому длинному коридору и свернули к двери, обитой коричневым дерматином, на которой висела синяя табличка с золотыми буквами. Она вошла внутрь, а я поднялся на ноги со стула и прочитал надпись:
«Директор школы-интерната № 3 п. Квиток
Свиридова И. В.»
Словно холодный душ обрушился на меня от этой невзрачной таблички, поскольку именно с неё всегда начинал свой рассказ о детстве мой незадачливый убийца. Она так сильно врезалась ему в память, поскольку именно здесь его жизнь разделилась на две половины: до этой таблички – беззаботное, пусть и голодное детство с друзьями, а после – проживание в интернате вдали от мамы и родственников, откуда, собственно, и начался его путь грабителя и убийцы.
Я ещё раз протёр маленькими кулаками глаза, но табличка никуда не делась, а это значило, что я попал после своей смерти туда, в тело четырнадцатилетнего Ивана Николаевича Добряшова, в тот день, когда двадцать пятого августа 1964 года собственная мать привезла и отдала его в школу-интернат, поскольку её новый ухажёр, полковник из ближайшей к посёлку воинской части, не захотел иметь чужих детей в своей семье и поставил её перед выбором. Свадьба или сын. Женщина, чей первый муж скончался, заснув пьяным на колхозном поле и попав под комбайн, не имея перспективы найти себе в небольшом посёлке ещё одного такого же мужчину, колебалась недолго. Роман Аркадьевич был уроженцем Москвы, холост, красив, и только чудо, что он остановил свой взгляд на ней, а не на сотне женщин, которые вились рядом, только чтобы он их заметил и увёз отсюда после окончания своего срока назначения в местной воинской части.
Мои воспоминания, которые весьма красочно и неоднократно описывал мне Иван Николаевич, прервались стуком двери, и его мама вышла из кабинета, подойдя ко мне.
– Зайди в кабинет, директор хочет с тобой поговорить.
– Ты меня бросаешь? – я поднял взгляд, чтобы хорошо запомнить её лицо. Сам Иван рассказывал, что он тогда был в какой-то прострации и мало что понимал, осознание произошедшего наступило только вечером того же дня.
Женщина отвела взгляд и поджала губы.
– Иван, я сказала, зайди в кабинет! – повторила она.
Я, понимая, что, если сейчас упаду и буду биться в истерике, только ухудшу своё нынешнее положение, поднял ранец и, не оглядываясь, вошёл в кабинет.
– Доброе утро, – поздоровался я с женщиной необъятных размеров, имевшей сиреневые волосы, стянутые на голове в тугой пучок. Большие очки из дешёвого оранжевого пластика только чудом висели у неё на носу.
– Сразу начну с главного, – она смотрела на меня словно на вошь и цедила слова по капле, как воду из графина, – если будешь слушаться воспитателей, твоя жизнь будет хорошей, если нет, она весьма усложнится. Ясно?
– Да.
– Да, Инесса Владимировна.
– Да, Инесса Владимировна, – послушно повторил я за ней.
– Отлично, – её взгляд если и стал теплее, то не больше чем на один градус, – сейчас я выделю тебе сопровождающего, он покажет твою комнату и кровать. Выучи все правила нашей школы наизусть, в понедельник тебя о них спросят. Понятно?
– Да, Инесса Владимировна.
Она хмыкнула, затем вышла за дверь и через пять минут вернулась в сопровождении крупного парня с короткой причёской и такими огромными кулаками, что мне стало по-настоящему страшно. Об этой опознавательной черте мне рассказывал Иван, заметив, что этот Илья Подгубный, так звали подростка, был первым, кто его серьёзно избил в жизни. До этого школьные драки или выяснения отношений между дворами были просто лёгким массажем по сравнению с тем, что произошло этим вечером, когда его привезли в интернат, и продолжалось целую неделю после. У местных это называлось пропиской новичков, чтобы они сразу понимали, куда попали и кто здесь главный, и никого не волновало, ребёнок из какой семьи попал в интернат. Если оказался здесь, ты должен был подчиняться местным правилам и негласным законам.
– Илья, будь добр, проводи Ивана, думаю, поселим его в четвёртой комнате, там было свободное место.
– Слушаюсь, Инесса Владимировна, – подобострастно ответил тот, а женщина лишь отмахнулась, показывая, что мы можем проваливать.
Поднимались по лестницам на третий этаж мы молча и так же зашли в комнату, на которой висела медная, начищенная до сверкающего блеска цифра «4». Отовсюду на меня смотрели дети и подростки различных возрастов. Насколько видел я, здесь были как семилетки, так и ребята моего возраста, причём в одном крыле жили только мальчики, а во втором, отгороженном от первого и лестницы железной решёткой, виднелись девичьи лица.
Открыв дверь и пройдя внутрь, сопровождающий обратился к лежащему на кровати подростку.
– Пузо, принимай, новое мясо.
– Губа, ну чё, б…ть, к нам-то, – возмутился тот, – только свободно дышать стали, посели его к Сиплому.
– Корова сказала сюда, значит, сюда, – тот не повёл и ухом, – введи его в курс дела.
– Хорошо, – тот покорно кивнул.
Подросток жадно посмотрел на мой ранец, но всё же вышел.
Лежавший на кровати, едва закрылась дверь, тут же сорвался с места и походя врезал мне под дых, забрав ранец, когда я сложился, хватая воздух ртом.
Подросток судорожно выбрасывал мои вещи, которые были там аккуратно сложены, и, не найдя ничего интересного для себя, разочарованно вздохнул.
– Б…ть, ещё один нищеброд.
Кинув ранец на пол, он вернулся на сильно скрипнувшую панцирную кровать и щёлкнул пальцами. С соседней койки тут же бросился к нему подросток лет десяти и, подбежав, опустился перед ним на колени.
– Резче, Заяц, резче надо выполнять команды, – пожурил позвавший и дал ему лёгкий щелбан.
– Пузо, – поканючил тот, – ну я же отдал тебе свой обед, прости меня.
– Давай займись нищебродом, тогда прощу, – смиловался тот, – да и за ужином хлеб мне с маслом отдашь ещё.
– Конечно, – тот согласно кивнул и, получив ещё один барский щелбан, встал на ноги и подошёл ко мне.
– Чё разлёгся, собери вещи и займи вон ту койку у двери, – в его голосе, когда он обращался ко мне, моментально появились властные нотки, – быстрее давай!
Пытаясь восстановить дыхание, я стал судорожно собирать выброшенные из ранца вещи и, с трудом закрыв кожаную крышку, прошёл к указанному месту. Там стояла просто кровать, даже без матраса или постельных принадлежностей.
– Выходные поспишь так, в понедельник выйдет на работу комендант, выдаст всё, – словно говоря о мелочах, оповестил меня стоявший рядом и продолжил: – Читать умеешь?
Я лишь молча кивнул.
– О, отлично, дело упрощается, – тут же обрадовался он и, метнувшись к своей кровати, вернулся с тонкой книжицей явно кустарного производства.
– Возьми пока мою, в понедельник тоже выдадут, – вручил он мне её и вернулся к своей кровати, подхватив книгу о «Трёх Мушкетёрах» и вернувшись к чтению.
Третий подросток, сидевший на окне, не обратил на моё существование никакого внимания, посмотрев лишь раз, когда я зашёл в комнату с Губой.
Поставив ранец на тумбочку рядом со своей кроватью, я открыл книжицу и понял, что читать её мне не обязательно, поскольку знал я её и так наизусть благодаря рассказам своего собутыльника, который даже пятьдесят лет спустя зачитывал мне её по памяти.
«Да, точно, он неоднократно хвастался, что у него всегда была отличная память и реакция», – вспомнил я, пробежавшись взглядом по параграфам, выделенным красным шрифтом, и убеждаясь в этом сам, весь текст словно под копирку тут же впечатался в память. Всё было просто и понятно: ты здесь никто, и звать тебя никак, не будешь слушаться или плохо учиться, будешь наказан.
Отложив книгу на сетку кровати, я схватился за голову.
«И что же делать? – в голове билась всего одна мысль, когда сидел и бахвалился на кухне, подначивая пьяного собутыльника, говоря, что всё бы сделал по-другому, я как-то не представлял себе, что могу оказаться в его шкуре, а это коренным образом меняло дело, стоило только посмотреть на свои тонкие руки и ноги, а также вспомнить кулаки парня, приведшего меня сюда. – Сегодня ночью меня изобьют, – вспомнил я. – Нужно попробовать сопротивляться и дать им отпор». Вот только как, я пока себе слабо представлял.
***
День пролетел быстро, мы сходили один раз на обед, поев какой-то бесформенной бурды что на первое, что на второе, и на ужин, где был лишь чай с хлебом и твёрдым, словно каменным, кубиком масла, который у меня тут же молча забрал Пузо. Судя по тому, как возле него образовалось ещё три таких, масло он очень любил. Я не стал спорить, чтобы усыпить их бдительность, так что в бурчащий от голода живот залил лишь сладкий чай без ничего. Самое странное было то, что ко мне никто не подходил, не знакомился, хотя было видно, что детям и подросткам я интересен, но все как один игнорировали моё существование. Если бы попал сюда, не зная местных правил, я бы, конечно, сильно напрягся и переживал, а из рассказов Ивана знал, что так было всегда для новичков. Сначала неделя побоев, только затем с тобой будут общаться – таковы негласные правила этого социума.
К ночи я немного подготовился, сделав себе импровизированный кистень из куска дегтярного мыла, что мне дала с собой его мамаша, и полотенца. Связав всё, я затянул петлю вокруг ладони и лежал на кровати, когда раздался звонок отбоя и везде, кроме тусклых коридоров, погас свет.
Мучителей ждать долго не пришлось, поскольку уже через полчаса скрипнула дверь и четыре тени появились в проёме.
– Эх, пошла потеха, – тихо произнесли в темноте, а следом за этим я скатился с кровати и, встав на ноги, с большим замахом ударил своим самодельным оружием снизу вверх, ориентируясь по тени.
Раздался булькающий звук, и затем на пол что-то упало. На минуту воцарилась тишина, а затем раздался удивлённый возглас.
– Эта с…а Колю вырубил.
– Мочи гниду! – этот голос был мне знаком и принадлежал тому, кто меня провожал до комнаты.
Я успел взмахнуть кистенём ещё два раза, прежде чем меня сбили с ног и на тело и голову посыпался град ударов. Сознание очень быстро меня покинуло.
Глава 2
Очнулся я от громких голосов, которые отдавались в гудящей голове, словно монастырские колокола, во рту был поганый привкус железа, а всё тело неимоверно болело.
– Инесса Владимировна, – мужской голос говорил строго, но с ленцой, – мне плевать, что у вас там за методы воспитания, но тяжкие телесные я покрывать не намерен. Сами с участковым разбирайтесь по этому поводу.
– Виктор Христофорович, ну какие тяжкие телесные, – тут же заверещал женский голос, – упал он, шёл по лестнице и упал с третьего этажа.
– Я всё сказал, – отрезал тот, – их я обязан заявлять, я заявил, дальше не моё дело.
Дальше я плохо слышал, так как голова стала снова кружиться, перед закрытыми глазами поплыли золотистые мушки, и я опять впал в беспамятство.
***
– Эй! – грубый толчок в плечо не только привёл меня в себя, но ещё и вызвал боль во всём теле. Вскрикнув, я открыл глаза, отстраняясь на койке от источника неприятности.
– О, очнулся, – обрадованно сказал сидящий передо мной человек в старой советской милицейской форме, той, что ещё вызывала доверие и уважение граждан. Похоже, мне на личном опыте сегодня выпало проверить, так это было или нет.
– Рассказывай, где ты так, – он достал из кожаной планшетки жёлтый лист бумаги, карандаш и, помусолив его кончик во рту, приготовился слушать.
За его спиной высилась огромная туша директрисы, внимательно слушающей нашу беседу.
– Шёл, упал, споткнулся, дальше ничего не помню, – под её взглядом с трудом ответил я. У меня был соблазн рассказать правду, но что-то во взгляде и позе милиционера заставило меня передумать. К тому же Иван чётко всегда говорил, что обычно ждало стукачей по возвращении в интернат. Он сам пять раз побывал на больничной койке с переломами рук, ног, рёбер, и каждый раз побои списывались на несчастные случаи, так что я знал, что мои признательные показания точно сделают ситуацию ещё хуже.
– Видишь, дорогой, я тебе так и говорила, – замурлыкала директриса, подходя ближе и опираясь на его плечи. – Вечером тебе что приготовить? Борщ или картошку с котлетами?
– Давай и то и другое, – хохотнул он, щипая её за попу, затем складывая свои письменные принадлежности обратно.
– Попрошу Зину взять лучшее мясо, – улыбнулась она.
В памяти тут же всплыло, что Зина – это главная повариха интерната, так что откуда она могла взять лучшее мясо, становилось понятно.
– Ладно, до вечера, Ин, – чмокнул он директрису в подставленную щёку и отбыл.
Женщина, не удостоив меня и взглядом, вышла за ним следом из палаты. Посмотрев по сторонам, я увидел, как с десяток детей, лежавших на соседних кроватях, быстро отвернулись от меня, все сделали вид, что меня нет. Похоже, процедуру посвящения я всё ещё не прошёл.
***
Из больницы, где я в полном одиночестве провёл две недели, поскольку меня никто не навестил, а дети, которые по большей части были из моего же интерната и лежали здесь как с травмами, переломами, так и просто с дизентерией, отказывались общаться, игнорируя моё существование. Так что у меня была масса времени, чтобы обдумать, что же делать дальше и как себя вести. Моя упёртость и жажда доказать Ивану Николаевичу, что систему можно поменять и я способен стать не таким, как все, говорила о том, что нужно сопротивляться и давать отпор. Так что я придумал план и украл на кухне, на которой мы периодически помогали персоналу, тупой нож с зубчиками, который не мог разрезать ничего, и всё оставшееся время посвятил тому, что ночами точил его о ножку кровати, добиваясь остроты.
День выздоровления я запомнил надолго, поскольку за нами пришёл мужчина, как оказалось, учитель-воспитатель, и отвёл пешком через весь посёлок из больницы снова в интернат. Рядом с вахтёром на входе дежурили незнакомые мне взрослые подростки, один из которых явно обрадовался нашему появлению. Меня же это только заставило сжаться внутри, поскольку ничего хорошего это не предвещало. В комнате меня ждал матрас, комплект постельных принадлежностей и серой советской школьной формы с обязательным красным галстуком. Вскоре явился комендант, и я поставил в его потрёпанной книге крестик напротив своей фамилии.
Поскольку наступил вторник, в комнате, кроме меня, никого больше не оказалось, все были в это время в другом корпусе, где находились школьные классы, так что детям по факту требовалось лишь выйти на улицу и попасть в другое здание.
Расстелив кровать, я спрятал нож, положив его на железный уголок кровати и затем укрыв сверху матрасом. Оглядевшись, я увидел, как аккуратно, едва ли не по-военному, заправлены соседние койки, и попытался сделать так же. Получилось похоже, пусть и не идеально, как у соседей.
Жрать хотелось так сильно, что живот только что не завывал, требуя наполнить его хоть чем-то, но как раз этого «чего-то» здесь просто не было. Никаких холодильников, разумеется, в комнатах не имелось, как и телевизоров, один такой, я знал, стоял в специальной комнате, где по расписанию его смотрели старшие ребята. Малышня туда практически не попадала.
Несмотря на лежащую на тумбочке у соседа книгу и дикое желание занять мозг хоть чем-то, я помнил правила насчёт взятия чужих вещей, так что просто завалился на кровать, ожидая, когда наступит обеденное время.
– А тут я ему с ноги – на! – раздался весёлый голос, сбросивший с меня дрёму, и, когда открыл глаза, я с удивлением понял, что солнце за окном уже не так сильно светит, как это было в момент моего прихода, и, похоже, проспал я достаточно долго, чтобы вернулись соседи.
– О, а что тут покойник делает? – удивился Заяц, тыкая в меня пальцем и поворачиваясь к Пузу.
– Губа с Быком разберутся с ним сами, не кипишуй, Заяц, – хмыкнул тот и, швырнув ранец на кровать, следом плюхнулся туда сам. Кровать в ответ лишь жалобно заскрипела.
Больше со мной сегодня никто так и не заговорил, но зато на ужине никто и не взял ничего из моей пайки, дети и подростки от меня шарахались, словно от зачумлённого.
И ночью, когда я долго ждал прихода своих мучителей, стало ясно почему. Убивать меня, конечно же, не собирались, но сделать два перелома планировали. Всё, что я успел, достав нож, – это полоснуть одному из них по животу, прежде чем раздавшийся вой раненого перебили яростные крики его друзей. На этот раз меня уже били всерьёз. Момент, когда обе руки положили между стулом и кроватью, а затем один из подростков прыгнул на них, я помнил уже очень смутно.
***
История моего первого попадания в больницу повторилась практически полностью, единственное, участковый предупредил, что в этот раз он не будет составлять протокол о том, что я нанёс ножевое ранение другому подростку, поскольку я пока ещё не прохожу по возрасту под эту статью, но он, гнусно ухмыляясь, заверил, что годы идут быстро и он просто подождёт. И это несмотря на мои сломанные руки и полную неспособность ухаживать за собой, даже писюн мне из штанов теперь доставала дородная санитарка, держа его в утке, чтобы я смог пописать. Хорошо ещё, по-большому мне удавалось ходить частично самому, правда, попу вытирать, опять же, приходилось с её помощью, потому что мне прописали такую диету в столовой больнице, что стул всегда был очень жидким. Долгие два месяца, пока переломы срастались, затем снимали спицы и швы, я пребывал в тяжёлых раздумьях. Ситуация оказалась не той, из которой можно было спокойно выйти, поэтому я решился на побег, чтобы попасть домой и рассказать маме Ивана, что со мной тут творят. И хотя он говорил, что та плевать хотела на сына, появляясь в интернате сначала раз в год, а потом, когда её нового мужа перевели-таки обратно ближе к Москве, вовсе растворившись на просторах большой страны. Больше Иван её в детстве никогда не видел. Только позже, уже в зрелом возрасте, отсидев семь лет за грабёж, подался в столицу и там случайно увидел её, выходящую из ЦУМа с покупками, вместе с двумя детьми, в сопровождении статного генерала. Иван рассказывал, что его тогда обуяла такая злость на неё, что он в тот же вечер напился и зарезал по пьянке кого-то из собутыльников, уехав в тюрьму сразу на десять лет за убийство.
Детское крыло было изолировано от всей остальной больницы, где находились взрослые, а наших палат, где лежали только интернатовские, имелось две, одна для мальчиков, вторая для девочек. И, несмотря на строгий контроль, особенно после отбоя, часть отважных выбиралась по ночам мазать девок зубным порошком, весь день до этого пролежавшим на батарее в полужидком состоянии. Если вылазка была успешной, утром мы об этом сразу узнавали от взбешённой старшей медицинской сестры, которая материла нас, несмотря на то что мы были детьми и подростками. Она угрожала и выспрашивала, кто это сделал, но молчали все. Только когда она уходила, по всей палате раздавался заливистый детский смех, и парни рассказывали о своих ночных подвигах.
Под этим предлогом я одной из ночей выбрался из больницы, когда до моей выписки оставалась лишь пара дней. Руки были крайне слабы, их требовалось разрабатывать, но побег, совершённый с потрясающей наглостью, а главное, тщательным планированием, прошёл успешно, и уже через два часа я скрёбся в дверь нашей с мамой комнаты в общежитии.
– Б…ть, кто там среди ночи е…я, я сейчас выйду и вы…у, – наконец из-за двери подали признаки жизни, и она распахнулась, явив мне сорокалетнего заспанного мужчину.
– Тебе чего, пи…к? – недовольно он посмотрел на меня.
– А где мама? – запинаясь, спросил я у него.
– Какая, б…ть, мама, ты х…и тут среди ночи меня будишь?
– Вера Ивановна Добряшова, – наконец я разлепил губы, – мы живём здесь.
– Жили, – уже чуть спокойнее буркнул тот, – она переехала в военный городок, к хахалю своему. Комнату мне отдали.
– Спасибо, – по спине прокатился холодок, поскольку расположение воинской части я знал лишь приблизительно, – извините, что разбудил.
Мужик замялся, посмотрел на мою полосатую больничную пижаму и тапочки, затем на пару минут ушёл в глубь комнаты и, вернувшись, вручил мне полбулки чёрного хлеба и небольшой кусок сала.
– Держи, чем богаты, как говорится.
– Спасибо! – я хотел поблагодарить его ещё раз, но он пробурчал что-то малопонятное и захлопнул передо мной дверь.
Выйдя на улицу так же, как и зашёл, через окно второго этажа, где для меня друг бросил одеяло, я направился на север, за посёлок, поскольку вроде там был сплошной бетонный забор и воинская часть. Идя и вздрагивая от холода, я ел подаренную мне еду и думал, что это самый вкусный хлеб, что я пробовал в своей жизни.
Глава 3
До части я не дошёл. Поутру на дороге раздалось тарахтение мотоциклетного мотора, и вскоре показался жёлто-синий «Урал» с коляской. За рулём находился крайне недовольный знакомый мне милиционер, который первым делом, остановившись рядом со мной и заглушив мотор, стал избивать меня, проклиная за то, что я родился на свет и заставил его встать среди ночи из тёплой кровати и бегать искать по посёлку. Сил у меня сопротивляться уже не было, поэтому я, скрючившись в позе эмбриона, лишь вздрагивал и закрывал голову и живот руками, чтобы взрослый не повредил мне что-то важного. Когда наконец устал, он вернулся на мотоцикл и приказал мне садиться в люльку. Правда, он вернул меня не в больницу, а сразу в интернат, поскольку сказал, что я слишком здоров для того, чтобы там лежать. Передав меня из рук в руки воспитателю, который хмуро на меня посмотрел и отвёл в кабинет директора, оставив с ней наедине.
Она сначала долго молчала, качала головой и наконец сказала:
– При нашей первой встрече я думала, ты умнее, но ты оказался такой же тупой, как и все остальные.
Я, опустив голову, лишь слушал, поскольку, похоже, заболел, прохладная ночь на свежем воздухе в одной пижаме и тапочках не лучшим образом сказалась на моём здоровье. Видимо, директриса ошибочно приняла мою болезнь за нежелание разговаривать, так что вызвала какого-то Николая и сказала, что хотела бы, чтобы меня научили правилам. Хмурый уже даже не подросток, а взрослый девятнадцатилетний мужчина, лишь кивнул, обещав обо всём позаботиться лично. Сначала он отвёл меня в душевую, где стал избивать резиновым шлангом от душа Шарко и объяснять, что, если я не перестану выёживаться, он меня прямо здесь и опустит, а потом будет это делать каждый день, пока я буду сопротивляться. Имя этого педофила вскоре тоже всплыло у меня в памяти, о нём Иван Николаевич рассказывал с ненавистью, говоря, что, если бы встретил его сейчас, после отсидки, точно бы зарезал.
Этого переростка оставили в школе на должности дворника, хотя он, по сути, ничего не делал, являясь просто главным над всеми парнями. Он насиловал понравившихся ему девушек, опускал парней, на которых ему показывала директриса, и никто ему не мог дать отпор из-за его силы и разряда по боксу. Николай по кличке Бугор был самым грозным человеком в интернате, по мнению Ивана, но, к сожалению, не самым страшным, и я, находясь в полуобморочном состоянии, стал это наконец понимать. Моя бравада и запал всё изменить стали медленно улетучиваться.
Видя, что я уже едва шевелюсь, он пнул меня напоследок и вышел из душевой, а вскоре туда зашли уже знакомые мне Губа и Бык. Подхватив меня под руки, они не сильно смотрели, как я бьюсь о пол или лестницу, дотащили до кровати и, бросив на неё, так меня и оставили. Сознание стало медленно, словно испорченная лампочка, мигать, затем и пропало вовсе.
– Эй, – тихий шёпот на ухо привёл меня в чувство. Ощутив, что рот мой зажат рукой, я сразу же дёрнулся, испугавшись, но неизвестный завалился на меня всем телом.
– Тихо! Я только побазарить хочу! – прошипел он. – Не дёргайся, а то всех разбудишь!
Поняв, что он и правда не хочет меня бить, я замер.
– В общем, дело такое, либо ты даёшь себя избивать ещё пять ночей, либо Бугор с подручными тебя вые…т в жопу, – сказал мне тихо неизвестный, – я видел это несколько раз, и поверь мне, опущенным ты точно не захочешь дальше тут учиться. Тебе будут давать на клык все старшаки, а у Бугра будешь вообще полгода новой шлюшкой, прежняя ему уже надоела. Видел же Редьку? В углу один всегда сидит в столовой.
Я кивнул, поскольку и Иван об этом рассказывал, как и ещё о десяти подростках, прошедших перед ним в качестве опущенных, которые либо не понравились педофилу, либо, наоборот, слишком сильно ему понравились.
– Хочешь стать как он?
Я отрицательно покачал головой.
– Просто дай себя избить, парни не будут слишком усердствовать, но сделать они это должны, поскольку такой порядок! Обещаешь, что не будет с твоей стороны выкрутасов?
Мне оставалось лишь кивнуть, становиться опущенным в закрытом социуме, где царят животные порядки и право сильного, было опасно для собственной жизни.
– Вот и отлично, – обрадовался неизвестный и убрал ладонь от моего рта, – смотри! Ты слово дал!
Я промолчал и лишь проводил взглядом, как его тень выскальзывает из комнаты в коридор.
Избили меня под утро, накинув на голову одеяло, и били и правда не так, как это было в первые две ночи, так что на занятия я смог пойти на своих ногах, хотя сопли текли рекой, а температура была, наверно, под сорок. Заодно узнав ещё одно правило интерната: что бы ни случилось, в школе ты должен быть всегда! Причём с полностью выученными и сделанными уроками, поскольку за каждую полученную двойку следовало избиение от старшаков.
Мы сидели в одном классе, и все учителя по разным предметам приходили к нам, словно роботы отчитывали материал и, расписав домашнее задание, тут же исчезали до следующего урока. Никто с нами не разговаривал, наша успеваемость никого особо не волновала. Главное, чтобы домашка была сделана и тетрадь не изобиловала кляксами от чернил.
Обратно мы возвращались через столовую, и я снова ощутил разницу между кормёжкой в больнице и здесь. Жидкая баланда, без вкуса, зато с резким кислым запахом давно не стиранных носков, в которой плавали листья капусты и сладкий промороженный картофель, была частым гостем на столах у интернатовцев, поэтому её ели все, у кого не имелось либо блата у директрисы и воспитателей, либо поставок извне. Часть детей здесь была из вполне себе благополучных семей, просто родители уезжали на полугодовые вахты и временно сдавали своих детей в школу-интернат, забирая их по возвращении. Таких здесь не любили, называли «гостями», но почти все с ними старались дружить, поскольку нормальная еда у них была почти всегда, ведь родственники приезжали почти каждые выходные.
Кашляя, чихая, я лениво ковырялся ложкой в тарелке, искоса посматривая на стол, где находился Редька – парень, одетый в женское платье, имеющий два белых банта на голове и белые гольфы до колен. Для СССР шестидесятых словно чужеродный гость из моего будущего, но тем не менее даже воспитатели делали вид, что его не существует, сидя за отдельным столом и поглощая еду, которую повариха Зина готовила им в других баках.
«Поговорить бы с ним, – отчётливо сформировалась в голове мысль, – выяснить, как и почему это произошло».
***
Словно волшебник махнул палочкой, когда меня избили в последнюю ночь недельной экзекуции, наутро мою кровать уже окружали десятки подростков. Которые говорили, какой я крутой, и предлагали дружить. На меня сыпались десятки вопросов: кто я, откуда, почему сюда попал? В общем, всё то, что, по идее, должно было случиться сразу при попадании сюда, если бы не местные правила. Отчётливо понимая, что от всех них нет никакого толка, я больше молчал, чем говорил, чем заслужил кличку Немой, но от меня отстали, после чего жизнь немного изменилась в лучшую сторону. Нет, нас так же всех били, если кто-то из комнаты получал двойку, старшаки всё так же забирали лучшую еду или понравившийся предмет одежды, которую нам выдавали, хотя что там могло нравиться, если всем выдавали одно и то же? Видимо, просто напоминали, кто в интернате кем является.
Я влился в общую струю, ничем особо не выделяясь, и так пролетела осень, а затем и зима, запомнившаяся мне лишь побоями, голодом и недосыпанием, поскольку нас постоянно выгоняли убирать снег, который в Иркутской области шёл, казалось, не прекращая.
Зарядка, завтрак, подготовка к урокам, школа, обязательные кружки, куда записывали всех, несмотря на желание, потом два часа личного времени, ужин, отбой – вот по такому графику я и жил, словно робот, уже не сильно к чему-то стремясь и просто глядя, как летит время. От былой страсти «всё изменить» ничего не осталось. Сражаться одному против гигантского социального муравейника, где роль каждого была понятна и прописана окружающими, просто невозможно. Любой, кто выбивался из своей роли, тут же наказывался воспитателями, но чаще, конечно, старшими парнями из выпускных классов, которые, словно смотрящие в камерах тюрьмы, распределили между собой обязанности присмотра за порядком на этажах. Новички, появляющиеся и исчезающие в интернате пачками, все проходили через жернова социализации, и тот, кто смирялся, вливался в общество, а тот, кто, как и я, восставал, но шёл до конца в своём упорстве, рано или поздно либо оказывался за столом с Редькой, в таком же девичьем платье, либо пропадал навсегда. Приезжавшей милиции рассказывали, что ребёнок сбежал. Те заполняли бумаги, опрашивали свидетелей, но все твердили только одно: он сбежал сам, ничего не было, – и я старательно гнал от себя мысли о том, что же с ними случилось на самом деле.
Всё изменилось в один весенний день, когда в столовую зашла девочка пятнадцати лет, опрятная, в заграничном платье и такая невероятно красивая, что для начала у меня, как и у почти всех за столом, упали челюсти и задымились члены. А потом пришло воспоминание из памяти Ивана, заставившее вздрогнуть сердце, поскольку он рассказывал, что именно вскоре после появления Ангела, как он её называл, не упомянув настоящего имени, в школе-интернате начались поистине страшные времена.
В подтверждение моих мыслей после завтрака нас построили на общешкольной линейке, где объявили, что наша дорогая Инесса Владимировна уезжает вместе с мужем на повышение в Иркутск, а новым директором станет Андрей Григорьевич Пень. Моментально раздавшийся ржач детей и подростков ничуть не смутил вышедшего на сцену нового руководителя интерната, который оказался крепким мужчиной со злым взглядом колючих глаз, которым он окинул всех присутствующих, особенно остановившись на девочках. Дальше он начал рассказывать о себе, а я – вздрагивать каждый раз, когда его взгляд смотрел в мою сторону.
***
Первым после появления нового директора исчез Бугор, которого уволили и дали пинка под зад из школы-интерната, затем директор проредил старшаков, избавившись от тех, кому исполнилось восемнадцать или вот-вот исполнилось бы. Автобус военкомата стал у нас на ближайшие пару недель частым гостем, и все подростки стали радоваться от глотка свежего воздуха, который Пень привнёс в интернат, задыхающийся от злобы, унижения и бесправия, вот только один я становился с каждым днём всё более замкнутым и отрешённым от всех. Судьба Ивана Николаевича встала на свои рельсы, и я ехал по ним, отчётливо понимая, что, возможно, закончу так же, если не хуже.
Когда в интернате по два человека стали появляться незнакомые подростки шестнадцати лет, все как один крепкие, широкоплечие и радостно скалящиеся при виде сверстников, играющих во дворе, дрожь страха пробивала меня с головы до пят, поскольку я знал, что случится вскоре на восьмое марта. Иван помнил этот день так отчётливо, что и мне рассказывал, сжимая губы и выдавливая из себя слова. В этот праздничный Международный женский день ночью изнасиловали самую красивую девочку девятого класса, пустив её по кругу сразу шестью новыми старшаками интерната, и первым был директор, который два часа терзал тщедушное тельце, уже не оказывающее сопротивления, и после этого отдал её своим подручным, которых он перевёл с того места, где руководил раньше, будучи там заместителем директора по воспитательной части и перейдя к нам на повышение.
Утром я увидел только оболочку, которая осталась от вчера ещё красивой, энергичной девушки, строившей планы на жизнь после выпуска, сейчас она с пустым взглядом сидела за отдельным столом и ни с кем не разговаривала. Когда вернулись из школы, мы узнали, что она повесилась в душевой. Всё ровно так, как и вспоминал Иван. Взгляды многих девочек от этой новости потухли, они стали вздрагивать всякий раз, когда видели рядом с собой кого-то из пришлых старшаков.
***
Историю быстро замяли, ведь у девочки-подростка никого не было, так что милиция долго не разбиралась, списав на самоубийство. А потом ещё раз и ещё. Несчастные случаи и самоубийства стали отныне постоянными спутниками школы-интерната № 3 п. Квиток, и это никого не волновало. Все проверки, которые наведывались к нам, как по линии ВЛКСМ, так и по линии ГОРОНО самого Иркутска, уезжали, довольные приёмом, оказанным по высшему разряду, который устраивал им директор, все дети были на вид нарядными и счастливыми, а расспросы о происшествиях упирались в то, что эти девочки асоциальные малолетние преступницы с отвратительными характеристиками от учителей и воспитателей. Так что смерти были лишь закономерным итогом их бесполезных жизней, на которые всем было плевать.
Меня же преследовали нервные срывы, происходящие от того, что я видел, как моя новая жизнь идёт под откос, и понимал, что это для школы-интерната не закончится ещё долгие три года, пока в ней будет учиться Иван. Директор, окруживший себя верными подростками, держал в страхе всех остальных, а некоторые ученики и ученицы не пережили встреч с ним, и постепенно всё становилось только хуже.
Ко дню, когда второй раз сломалась жизнь Ивана Николаевича, я подходил истощённым, бледным, словно сама смерть, и озлобленным на весь мир подростком, ненавидящим всё и вся. Это случилось летом, когда нас впервые в жизни повезли в пионерский лагерь, где жили обычные дети, приехавшие туда на смену. Причём их каждые выходные навещали родители, привозившие не только ягоды с огородов, но и другие вкусняшки. Так что появление интернатовских на этом празднике жизни обломило лето многим.
Живя в социуме, построенном на праве сильнейшего, старшаки быстро подмяли под себя весь лагерь, избив сначала пионервожатых-студентов пединститута, приехавших отдохнуть на лето и заодно пройти практику, а затем и некоторых взрослых, которые не понимали вначале, что происходит вокруг. Вскоре опухоль под названием страх и ненависть перешла и на здоровые клетки, которыми были обычные дети. Родители всё чаще стали приезжать забирать их, пока не остались только те, кто не мог никуда уехать, оставшись на всю смену.
Я пытался, честно пытался не пойти в тот день на озеро, про которое Иван рассказывал мне, но это оказалось невозможно, словно невидимая рука судьбы подстраивала расписание дня и события так, что я оказался ровно в том же месте и в то же время, что и мой собутыльник, убивший меня в будущем.
***
– Ира, прекрати себя вести словно шлюха.
Я лежал на дереве, поскольку просто не было выбора, где ещё спрятаться, когда услышал неподалёку от себя два голоса, один из которых заставил меня задрожать от страха, поскольку принадлежал директору.
– Папочка, – Ангел, держа мужчину за руку, насмешливо на него посмотрела, – не ты ли сам удочерил меня ради того, чтобы я стала для тебя личной шлюшкой?
Несмотря на то что я об этом уже знал, тело покрылось испариной.
– Для меня, не для остальных! – отрезал он, отбрасывая её руку в сторону. – Ещё раз состроишь глазки Рыжему, я тебя накажу, и ты знаешь как.
Голубоглазый Ангел покорно наклонил голову, и, когда мужчина ушёл, девушка опустилась на землю, сев на неё прямо в своём красивом платье, целому шкафу которых завидовали все наши девочки. Ведь никто и никогда из них не видел заграничной одежды, привезённой из самой Америки! Об этом они перешёптывались друг с другом, делясь слухами.
– Ненавижу! Ненавижу! – внезапно услышал я, и Ангел стала бить кулаком по земле.
Иван тогда спустился и познакомился с Ирой, и эта встреча стала для него роковой, когда об их отношениях узнал её псевдоотец. Я же был настолько вымотан тем, что переживаю всё по второму разу одно и то же, мало на что влияя, что решил разомкнуть этот порочный круг. Своя жизнь была мне важна, но по сравнению с тем, через что проходили девочки интерната, это ерунда. Особенно учитывая то, что вскоре начнутся вещи и похуже, это я также прекрасно помнил по рассказам Ивана.
– Расскажи мне, – я спустился с дерева, и когда девчонка от производимого мной шума испуганно вскрикнула, уже стоял перед ней, натянутый словно тетива лука.
– Чего тебе надо?! Вали отсюда, дрыщ! – она быстро попыталась вытереть глаза, полные слёз.
Я аккуратно взял её руки в свои и, глядя прямо в глаза, повторил:
– Расскажи мне всё! Я хочу тебе помочь!
Голубоглазый Ангел вздрогнула всем телом, но видя, что я не предпринимаю ничего более, сначала вырвала свои руки из моих, хотя я сильно и не держал.
– Зачем тебе? Смерти захотел?
– Просто расскажи!
Внезапно она пожала плечами и стала кратко излагать свою историю: как лишилась родителей в авиакатастрофе, а родственники из-за боязни, что она будет претендовать на имущество богатых по советским меркам родителей, быстро от неё избавились, отдав в детский дом. Там её и приметил наш «глубокоуважаемый» Андрей Григорьевич Пень, который создал для неё такие невыносимые условия жизни, что Ира быстро согласилась на удочерение, которое включало небольшие неизвестные широкой публике нюансы.