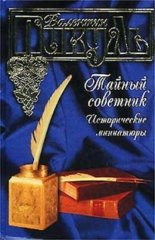Недопёсок Коваль Юрий

© Коваль Ю. И., наследники, 1975
© Скуридина И. И., вступительная статья, 2006
© Калиновский Г. В., наследники, рисунки, 1975
© Бастрыкин В. В., рисунки на переплёте, 2011
© Оформление серии. ОАО «Издательство «Детская литература», 2011
Коваль – это планета с мощным гравитационным полем…
9 февраля 1938 года в Москве родился Юрий Иосифович Коваль. Отец его служил в уголовном розыске, а мать была врачом-психиатром. Писатель никогда не жаловался на тяжёлое детство, пришедшееся на войну, но эвакуация, голод и холод тех лет отозвались в его жизни костным туберкулёзом.
В семье Коваля не было литераторов, зато со школьным преподавателем литературы ему несказанно повезло. Владимира Николаевича Протопопова, описанного позже в повести «От Красных ворот», никак нельзя было назвать типичным учителем. Он был талантлив и странен во всех своих проявлениях и, может быть, поэтому разглядел в «среднем» ученике, которого надо было подтянуть по литературе, личность… На уроках будущий писатель и его близкие друзья сочиняли стихи, а классе в восьмом они даже образовали тайный союз поэтов, чем изрядно взволновали родителей.
Вечерние беседы о литературе сделали своё дело, и в 1955 году Юрий Коваль поступил в Московский пединститут, где с первых дней учебы прослыл незаурядной личностью. Круг его интересов был удивительно широк: он занимался прозой Зощенко, рисовал в изостудии, пел и играл на пианино, банджо, гитаре, сочинял стихи и прозу для институтской газеты, «резался» в настольный теннис и ходил в походы… Всякое было в те годы: и прогулы лекций, и споры до хрипоты, кто хуже учится, и «шпаргализация» вопросов для зачётов, как говаривал известный бард Юлий Ким, учившийся на параллельном курсе, и разработанная Ковалём остроумная система подготовки к экзаменам по литературе: он приглашал девушек в кино и театр на постановки произведений, которые не успел прочесть. Короче говоря, в студенческие годы Коваль был настоящим гусаром.
Годы учения в институте можно смело назвать лицейскими, решающими в формировании будущего писателя. Это был «золотой век» Пединститута, преподавательский состав в то время сложился блестящий, и студенты ему соответствовали: с Юрием Ковалём учились ставшие известными всей стране барды Юрий Визбор, Юлий Ким и Ада Якушева, поэт Юрий Ряшенцев, театральный режиссёр Пётр Фоменко и многие другие. Главная задача учителя была, по словам сокурсника Коваля, будущего директора школы Семёна Богуславского, развивать в себе незаурядность, чем, собственно, и старались заниматься тогдашние студенты. Большую часть времени они проводили в институте, дневали и ночевали там порой в прямом смысле слова, а частые туристические походы помогали не расставаться.
Несмотря на публикации в институтской газете, Юрий Коваль не был доволен написанным. И так уж получилось, что, сочиняя с детства, в живописи он всё же проявил себя раньше, чем в прозе: в институте закончил курс изобразительного искусства и, получив звание преподавателя рисования, готовил себя к карьере художника.
Уже в начале 1960-х ему как художнику было что показать. Тогда, отработав год после института в сельской школе в Татарии, он привёз в Москву несколько взрослых рассказов и целую серию ярких живописных полотен, написанных маслом. Рассказы не были опубликованы, а вот поражающие буйством красок картины были бурно, хотя и неоднозначно приняты в мастерской его друзей, скульпторов Владимира Лемпорта, Вадима Сидура и Николая Силиса. С этими художниками, которых он впоследствии называл своими учителями, Юрий Коваль не прерывал связь до последнего дня своей жизни, без малого сорок лет. Это с их лёгкой руки он приобщился к скульптуре, делал и обжигал в их печи керамические тарелки и панно, нашёл свой стиль в технике горячей эмали. В свою очередь они признавали, что интересом к живописи их заразил именно Коваль.
Вернувшись из Татарии, Юрий Коваль несколько лет работал учителем в школе рабочей молодёжи, литсотрудником в только что созданном журнале «Детская литература», иногда печатаясь вместе с однокурсником Леонидом Мезиновым под псевдонимом Фим и Ам Курилкины, а в 1966 году навсегда ушёл на вольные хлеба. В те годы в издательстве «Малыш» были опубликованы первые книжки Коваля: сборники стихов «Станция Лось» (1967) и «Слоны на Луне» (1969).
По заданию журнала «Мурзилка» в 1968 году поэт Юрий Коваль отправился в командировку на погранзаставу, а вернувшись в Москву, вместо стихов о границе написал рассказ «Алый», принёсший ему первый громкий успех. «Вот тут-то я и поймал прозу за хвост», – сказал об этом времени писатель. Жизнь погранзаставы и борьба с нарушителями границы описаны в этом рассказе, но всё же он о верности и любви человека и собаки. Молодой писатель не боялся «недетских» тем, оставаясь при этом искренним и поэтичным, как в описании смертельно раненного, истекающего кровью пса: «Кошкин поднял его, и тепло-тепло стало его рукам, будто он опустил их внутрь абрикоса, нагретого солнцем». Рассказ издали огромным тиражом, о нём написали в газетах и журналах, кинорежиссёр Юлий Файт снял по сценарию писателя художественный фильм.
После «Алого» Юрий Коваль продолжал писать и публиковать рассказы из «пограничной» серии, но почему-то не был ими доволен. И тогда произошло важное событие в его литературной биографии: он принял решение не работать долго в одном жанре, менять его практически в каждом новом произведении.
Ещё школьником Коваль увлёкся охотой и со знакомыми охотниками совершал короткие вылазки в леса, в институтские годы он был уже заядлым охотником и рыболовом. Однако редко встретишь в его прозе сцены охоты, мало того, всю сознательную жизнь Юрий Коваль считал защиту природы самым главным делом на земле.
Регулярными стали дальние поездки в глухие уголки и маленькие деревни Урала и русского Севера, где он жил порой неделями и месяцами. Автомобильные и пешие путешествия по Вологодчине и жизнь на Цыпиной горе возле Ферапонтова монастыря сформировали интерес писателя к традиционному деревенскому и особенно северному русскому быту и языку.
Вокруг Коваля царила атмосфера творчества. Уезжая из Москвы, по его настоянию, друзья брали с собой альбомы для рисования, карандаши и фломастеры. С удовольствием ведя свои дневники поездок, он приучил и многих из них записывать значимые события прошедших дней. Коваль не был педантом, с карандашиком и записной книжкой в руках не ходил, равнодушен был и к сбору вырезок о себе и своём творчестве из журналов и газет. Его записи были дневником художника, он вёл их в больших альбомах, называл «Монохрониками» и вклеивал туда же наброски, рисунки и разные памятные бумажки. Работа эта спасала в трудные времена, помогала оставить в памяти важные и мелкие подробности жизни.
На основе этих записей позже было написано и опубликовано «Веселье сердечное», повествование, сохранившее бесценные сведения о старшем друге Коваля – самобытном писателе-сказочнике Борисе Шергине. Молодым журналистом-словесником пришёл он когда-то брать у Шергина интервью и был потрясён встречей с полуслепым стариком, открывшим для многих из нас неведомый богатый мир архангельских былин и сказаний. Шергин стал для Юрия Коваля наставником и учителем, дал ему рекомендацию в Союз писателей.
Четыре рассказа, привезённые из Ферапонтова, легли в основу книги «Чистый Дор» (1970). В книгах Коваля того времени, как в размышлениях его героини, девочки Нюрки, радость и печаль рядом, жизнь и смерть не противостоят друг другу, а сосуществуют на фоне вечно обновляющейся природы. В литературе для детей появился новый герой – бесхитростный и хитроватый одновременно, способный на поступки, по-детски открытый, радостно воспринимающий природу и людей.
Именно тогда Юрий Коваль окончательно и бесповоротно решил быть детскимписателем. «Всё, что я мог бы сказать взрослым, я говорю детям, и, кажется, меня понимают. Именно занятия детской литературой очистили мой стиль, прояснили мысли, выжали воду из произведений», – писал Коваль. Помогала ему в работе отчасти фантазия, но более всего – память и зоркость. Он видел то, чего не видели его спутники, шедшие с ним рядом той же дорогой. А если видели и называли, то, назвав, забывали, а он подхватывал и своё, и чужое вылетевшее и забытое слово и вплетал его в ткань того, что писал в данный момент. Да так, что сказавшему оставалось только удивляться. В рассказах Коваля обыкновенные берёзовые веники в раскалённой бане «жар-птицами слетали с потолка», «картофельная собака» Тузик при встрече «фыркал и кидался с поцелуями, как футболист, который забил гол», яркая клеёнка с васильками в деревенском магазине ослепляла, «будто кусок неба, увиденный со дна колодца», а на воображаемых погонах дошкольника Серпокрылова «куда больше сверкало звёзд, чем в созвездии Ориона».
Новый поворот жанра назрел, и в 1971 году вышел в свет пародийный детектив «Приключения Васи Куролесова». Герои и сюжетная канва были взяты из рассказов отца писателя, начальника Уголовного розыска Московской области, дослужившегося до звания полковника. Он не участвовал в битвах на фронтах, но во время войны ловил бандитов, и в 1943 году те прострелили ему обе ноги и живот. «Все мои книги он очень любил, охотно их читал и цитировал, – вспоминал писатель. – Правда, при этом говорил: „Это, в сущности, всё я Юрке подсказал“. Что и правда в смысле Куролесова и куролесовской серии».
Юрий Коваль гордился своим отцом и очень ценил его колоритный малороссийский юмор. От него, очень смешливого и смешившего слушателей любым своим рассказом, писатель узнавал забавные детали уголовных историй и типичные черты представителей бандитского мира. В результате в этой и других книгах серии – «Пять похищенных монахов» (1977) и «Промах гражданина Лошакова» (1989) – бандитов не осуждает суд и не бичует сатира: они просто выпадают из жизни, как несовместимые с красотой и гармонией природы.
На вечере Юрия Коваля в детской библиотеке на сцену вышла библиотекарь с лохматой, зачитанной книжкой в руках – это были «Приключения Васи Куролесова». «Сколько писателей, – сказала она, – мечтают, чтобы их книги в библиотеках были именно такими, зачитанными до дыр, в то время как у многих из них книжки стоят на полках новенькими и блестящими, потому что их не касалась рука читателя».
Юмор и острая фабула – приметы прозы Юрия Коваля, считавшего, что воспитание чувства юмора – это в конечном итоге воспитание свободы души. В 1972 году повесть «Приключения Васи Куролесова» победила во Всесоюзном конкурсе на лучшую детскую книгу. Ещё раньше по счастливой случайности она попала в руки известного немецкого переводчика Ханса Бауманна, что предопределило ее судьбу за границей: повесть была переведена на разные языки и издана по всей Европе и на других континентах.
Друзьями Юрий Коваль не был обделён никогда и «случайная» встреча с прекрасным переводчиком в Германии была закономерной удачей. «В нём была необыкновенность, особость таланта, – вспоминала его однокурсница, филолог Роза Харитонова. – Он помнил каждого человека, который оставил след в его душе. Коваль обладал редким даром: рядом с ним человек чувствовал себя красивее, умнее, достойнее, чем думал о себе прежде».
За комическим детективом в творчестве Юрия Коваля последовал цикл коротких рассказов о природе «Листобой» (1972), где тонкий лиризм соединяется с неизменной иронией и самоиронией, и сборник «Кепка с карасями» (1974) – итог десятилетней работы в детской литературе… Писателю совсем стыдно не знать, что его окружает, – птицы ли это, звезды или растения, считал Юрий Коваль. «Все, что я ни придумал бы сам, всегда хуже того, что я увидел в натуре. Безмерно приятно узнать растение в лицо и сказать кому-то: „А вот козлобородник“». Одной из его настольных книг был двухтомник «Травянистые растения СССР», который он купил в трех экземплярах – так ему понравился текст и рисунки. Однажды друг Юрия Коваля, детский писатель Виталий Коржиков, посадил дуб и поделился с ним желанием видеть этот дубок таким же, как красавец дуб на иллюстрациях их общего друга, известного книжного художника Николая Устинова. «А ты возьми Колин рисунок, – сказал Коваль, – и дубу покажи». «Ты с ума сошёл», – сказал Коржиков, но рисунок дубу всё же показал. И кажется, тот всё понял.
Во время поездки Юрия Коваля и Николая Силиса на Урал брат скульптора Вадим привёл их однажды на звероферму. Из этого маленького эпизода вышла впоследствии замечательная повесть «Недопёсок» (1975) – о приключениях молодого песца, сбежавшего из своей клетки. По этой повести кинорежиссёр Эдуард Бочаров вскоре снял фильм, а артист и сказочник Николай Литвинов поставил радиоспектакль, для которого Коваль написал и исполнил несколько песен. Видя природный артистизм Коваля, Литвинов сразу понял, что никто не прочтёт текст от автора лучше его самого. Так оно и получилось. А сама книжка, как и раньше, не залёживается на полках книжных магазинов: во времена рыночного изобилия «Недопёсок» продолжает оставаться книжным и библиотечным дефицитом.
С конца 1970-х по 1990-е годы в творчестве Юрия Коваля на первый план вышли взрослые рассказы, вошедшие в книгу «Когда-то я скотину пас» (1990), и рассказы-миниатюры, написанные к рисункам Татьяны Мавриной и составившие шесть книг: «Стеклянный пруд» (1978), «Заячьи тропы» (1980), «Журавли» (1983), «Снег» (1985), «Бабочки» (1987), «Жеребёнок» (1989). В этой серии уникальный творческий союз писателя и художника соответствует детскому восприятию мира – в единстве цвета, звука и слова. Книги эти были прекрасно изданы, на форзаце красовалась золотая медаль Андерсеновской премии – из писателей и художников нашей страны до сих пор лишь Татьяна Маврина удостоена этой высшей награды Международного совета по детской книге (IBBY). Юрий Коваль знал и любил художников, в том числе иллюстраторов книг, и высоко ценил хорошо изданную книгу.
В «Полынных сказках» (1987) Юрий Коваль описал деревенскую жизнь средней России во всём её многообразии от весны до зимы, от сева до уборки, от рождения до смерти. Есть здесь печаль и боль, и все же эта книга – о счастье и гармонии. Писатель задумал её как дань уважения матери, Ольге Дмитриевне Колыбиной, и использовал написанные ею воспоминания о собственном детстве. Но как разительно отличаются типичные для многих семей сухие записи, фиксирующие факты и имена, от узорчатой канвы книги, в которой автор сумел развернуть перед читателем сложный, загадочный и полный открытий мир, шаг за шагом постигаемый маленьким ребёнком. В том же году книга получила первую премию Всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу, а вскоре была выдвинута на Государственную премию. «Проза должна быть такой, – говорил Юрий Коваль, – чтобы ты был готов поцеловать каждую написанную строчку».
Без преувеличения можно сказать, что «Сказки» (1987) латышского писателя Иманта Зиедониса, «Чубо из села Туртурика» (1983) и «Гугуцэ и его друзья» (1987) молдаванина Спиридона Вангели, стихи и проза других детских писателей стали широко известны в России именно в переводах-пересказах Коваля. Произведения эти, не теряя авторского своеобразия, получали вторую жизнь на русском языке благодаря свойственным писателю глубокому пониманию образности, богатству словаря, умению каждое слово поставить на единственно правильное место.
Восемь лет, как и «Недопёска», писал Юрий Коваль «Самую лёгкую лодку в мире» (1984) – «правдивую» повесть о путешествиях на необычной бамбуковой лодке по таинственным «макаркам» и заросшим «кондраткам» к Багровому озеру. Книга была удостоена Почётного диплома Международного совета по детской книге. В одном из интервью писатель говорил: «Я считаю прозу не на страницы даже, а на фразы, на предложения, на абзацы, на пассажи. Один пассаж написался вдруг – бах! – и сразу получился. Над вторым пассажем можно работать три-четыре недели, если он не складывается. Годы уходят на некоторые предложения». В прозе Коваля обыденность сливается с мистикой, а повседневность реальной современной жизни легко превращается в фантасмагорию.
«Самая лёгкая лодка в мире» – одна из книг, проиллюстрированных автором. И это не было временным увлечением: у Коваля вообще не было хобби. Всё, чем он занимался, он делал профессионально, быстро и основательно обучаясь тому, что вызвало его интерес. Со стороны жизнь его могла показаться лёгкой и успешной, но кроме других талантов Коваль был одарён умением учиться и невероятной трудоспособностью, поэтому и успевал чрезвычайно много.
В конце 1980-х годов в журнале «Мурзилка» Юрию Ковалю предложили поработать с семинаром начинающих детских писателей. Он согласился и вёл его до самой своей кончины.
«Коваль – планета с мощным гравитационным полем, – писала в книге избранных произведений участников семинара писатель и переводчик Наталья Ермильченко. – Каким-то чудом, не очень того желая, он притянул нас из разных концов Москвы. Мы шли в мастерскую наблюдать космическое явление, имя которому – Коваль. И странно было, что он так близко, что он поёт для нас под гитару, читает свою прозу… Обращается к нам: „Очень хорошо. Но не гениально! А надо гениально!“ И в то же время мы чувствовали, что это – иллюзия, что между Ковалём и нами – миллионы световых лет, преодолеть которые столь же трудно, как дойти пешком до любимого им Ориона. И потому страшно было ему читать и неловко – звонить, и потому на каждый семинар мы бежали как на самый последний, бросая семьи, дела и друзей».
Первые слова «Суера-Выера» (1997), последнего произведения Коваля, были написаны в 1955 году. На лекциях Коваль вместе с однокурсниками сочинял стихи о преподавателях и студентах. Постепенно эти сочинения трансформировались в текст, напечатанный тогда в факультетской газете «Словесник» под названием «Простреленный протез». Спустя много лет Коваль оставил из него лишь несколько фраз. Возможно, этот «пергамент» (так значится в подзаголовке) о путешествии фрегата «Лавр Георгиевич» по разбросанным в некоем океане странным островам: Тёплых Щенков и Сухой Груши, Валериан Борисычей и Пониженной Гениальности, Открытых Дверей и т. д. – воплощение его идеи чистого искусства, апофеоз литературных экспериментов Коваля, материализовавшаяся любовь к Рабле и Гоголю, Сервантесу и Свифту. Белла Ахмадулина, которой посвящены три книги Юрия Коваля, писала: «Его письменная речь взлелеяна, пестуема, опекаема всеми русскими говорами, говорениями, своесловиями и словесными своеволиями».
За роман «Суер-Выер» посмертно (писатель скончался 2 августа 1995 года) в 1996 году Ковалю была присуждена премия «Странник» Международного конгресса писателей-фантастов, название которой так соответствует настроению последнего произведения и последних лет жизни Коваля. «Дело не в том, – говорил он в одном из интервью, – сколько ты прошёл, а сколько ты пережил за количество пути. Скитание – это вещь такая. Скитаться можно, сидя на месте».
Как только ни называли этот роман Коваля: взрывоопасной смесью смеха и слёз, самым весёлым романом последнего десятилетия, романом-фантазией, грустно-весёлой прозой, самой лёгкой и самой полной, даже переполненной книгой, но самое точное, на мой взгляд, определение – «весёлое прощание с миром» – принадлежит режиссёру и писателю Михаилу Левитину, поставившему «Суера-Выера» на сцене Московского театра «Эрмитаж» в 2004 году.
Хотя и прощание у Коваля получилось не совсем обычным: две книги были опубликованы ему «вдогонку», спешили, но не успели порадовать его при жизни. Третья, главная книга последних лет его жизни не спешила и лишь через три года скитаний по издательствам увидела свет. И еще несколько лет в разных газетах и журналах выходили взятые и не опубликованные при жизни интервью с Юрием Ковалём как его прощальный привет всем нам.
Ирина Скуридина
Недопёсок
Часть первая
Побег
Ранним утром второго ноября со зверофермы «Мшага» бежал недопёсок Наполеон Третий.
Он бежал не один, а с товарищем – голубым песцом за номером сто шестнадцать.
Вообще-то за песцами следили строго, и Прасковьюшка, которая их кормила, всякий раз нарочно проверяла, крепкие ли на клетках крючки. Но в то утро случилась неприятность: директор зверофермы Некрасов лишил Прасковьюшку премии, которая ожидалась к празднику.
– Ты прошлый месяц получала, – ска зал Некрасов. – А теперь пускай другие.
– Ах вот как! – ответила Прасковьюшка и задохнулась. У неё от гнева даже язык онемел. – Себе-то небось премию выдал, – закричала Прасковьюшка, – хоть и прошлый месяц получал! Так пропади ты пропадом раз и навсегда!
Директор Некрасов пропадом, однако, не пропал. Он ушёл в кабинет и хлопнул дверью.
Рухнула премия. Вместе с нею рухнули предпраздничные планы. Душа Прасковьюшки окаменела. В жизни она видела теперь только два выхода: перейти на другую работу или кинуться в омут, чтоб директор знал, кому премию выдавать.
Равнодушно покормила она песцов, почистила клетки и в сердцах так хлопала дверками, что звери в клетках содрогались. Огорчённая до крайности, кляла Прасковьюшка свою судьбу, всё глубже уходила в обиды и переживания и наконец ушла так глубоко, что впала в какое-то бессознательное состояние и две клетки забыла запереть.
Подождав, когда она уйдёт в теплушку, Наполеон Третий выпрыгнул из клетки и рванул к забору, а за ним последовал изумлённый голубой песец за номером сто шестнадцать.
Алюминиевый звон
Песцы убегали со зверофермы очень редко, поэтому у Прасковьюшки и мысли такой в голове не было.
Прасковьюшка сидела в теплушке, в которой вдоль стены стояли совковые лопаты, и ругала директора, поминутно называя его Петькой.
– Другим-то премию выдал! – горячилась она. – А женщину с детьми без денег на праздники оставил!
– Где ж у тебя дети? – удивлялась Полинка, молодая работница, только из ремесленного.
– Как это где! – кричала Прасковьюшка. – У сестры – тройня!
До самого обеда Прасковьюшка честила директора. А другие работницы слушали её, пили чай и соглашались. Все они премию получили.
Но вот настало время обеда, и по звероферме разнёсся металлический звон. Это песцы стали «играть на тарелочках» – крутить свои миски-пойлушки.
Миски эти вделаны в решётку клетки так ловко, что одна половина торчит снаружи, а другая – внутри. Чтоб покормить зверя, клетку можно и не отпирать. Корм кладут в ту половину, что снаружи, а песец подкручивает миску лапой – и корм въезжает в клетку.
Перед обедом песцы начинают нетерпеливо крутить пойлушки – по всей звероферме разносится алюминиевый звон.
Услыхав звон, Прасковьюшка опомнилась и побежала кормить зверей. Скоро добралась она до клетки, где должен был сидеть недопёсок Наполеон Третий. Прасковьюшка заглянула внутрь, и глаза её окончательно померкли. Кормовая смесь вывалилась из таза на литые резиновые сапоги.
Характер директора Некрасова
Цепляясь кормовым тазом за Доску почёта, в кабинет директора вбежала Прасковьюшка. Она застыла на ковре посреди кабинета, прижала таз к груди, как рыцарский щит.
– Пётр Ерофеич! – крикнула она. – Наполеон сбежал!
Пётр Ерофеич Некрасов вздрогнул и уронил на пол папку с надписью: «Щенение».
– Куда?
Прасковьюшка дико молчала, выглядывая из-за таза.
Директор схватил трубку телефона, поднял над головой, как гантель, и так ляпнул ею по рогулькам аппарата, что несгораемый шкаф за его спиной сам собою раскрылся. Причём до этого он был заперт абсолютно железным ключом.
– Отвинтил лапкой крючок, – забормотала Прасковьюшка, – и сбежал, а с ним Сто шестнадцатый, голубой двухлеток.
– Лапкой? – хрипло повторил директор.
– Коготком, – пугливо пояснила Прасковьюшка, прикрываясь тазом.
Директор Некрасов снял с головы шапку, махнул ею в воздухе, будто прощаясь с кем-то, и вдруг рявкнул:
– Вон отсюдова!
Алюминиевый таз брякнулся на пол, заныл, застонал и выкатился из кабинета.
Про директора Некрасова недаром говорили, что он – горячий.
Давило
Горячий человек директор Некрасов был тощ и сухопар. Он ходил круглый год в пыжиковой шапке.
На своём посту Некрасов работал давно и хозяйство вёл образцово. Всех зверей знал наизусть, а самым ценным придумывал красивые имена: Казбек, Травиата, Академик Миллионщиков.
Недопёсок Наполеон Третий был важный зверь. И хоть не стал ещё настоящим песцом, а был щенком, недопёском, директор очень его уважал.
Мех Наполеона имел особенный цвет – не белый, не голубой, а такой, для которого и название подобрать трудно. Но звероводы всё-таки подобрали – платиновый.
Мех этот делился как бы на две части, и нижняя – подпушь – была облачного цвета, а сверху покрыли её тёмно-серые шерстинки – вуаль. В общем, получалось так: облако, а сверху – серая радуга. Только мордочка была у Наполеона тёмной, и прямо по носу рассекала её светлая полоса.
Всем на звероферме было ясно, что недопёсок перещеголяет даже Наполеона Первого, а директор мечтал вывести новую породу с невиданным прежде мехом – «некрасовскую».
Узнав о побеге, директор Некрасов и бригадир Филин кинулись к забору. Они мигом пролезли в дырку и сгоряча в полуботинках побежали по следу.
– Сколько раз я говорил – заделать дырку! – кричал на ходу директор.
– Так ведь, Пётр Ерофеич, – жаловался в спину ему Филин, – тёсу нету.
Очень скоро они начерпали в полуботинки снегу и вернулись на ферму. Переобулись. Прыгнули в «газик», помчались в деревню Ковылкино. Там жил охотник Фрол Ноздрачёв, у которого был гончий пёс по имени Давило.
Ноздрачёва дома они не застали.
– Откуда я знаю, где он! – раздражённо ответила жена. – Он мне не докладывает.
– Гони в магазин! – крикнул Некрасов шофёру.
Охотник Фрол Ноздрачёв действительно оказался в магазине. Он стоял у прилавка с двумя приятелями и смеялся.
– Товарищ Ноздрачёв! – строго сказал директор. – У нас трагедия. Сбежал Наполеон. Срочно берите вашего кобеля и выходите на след.
Охотник Фрол Ноздрачёв лениво поглядел на директора и повернулся к нему левым ухом. Охотник имел свой характер, и характер этот шептал Ноздрачёву, что трагедия директора пока что его не касается.
Характер Фрола Ноздрачёва любил сидеть в тёплом магазине с приятелями.
– Я человек занятой, – недовольно сказал Ноздрачёв, – поэтому интересно, что я за это буду иметь? Какие привилегии?
– Немалые, – ответил Некрасов.
Через полчаса русский гончий Давило – огромный широкоплечий пёс с печальными глазами – был поставлен на след у забора.
– Давай! Давай! – орал на него Ноздрачёв, которому посулили премию.
Давило обнюхал следы, и запах показался ему противным. Жёсткий, железный. Нехотя, без голоса, побежал Давило по следу.
Снежное поле
Пролезши сквозь дыру в заборе, песцы быстро побежали в поле, но уже через десяток шагов остановились. Их напугал снег, который был под ногами. Он мешал бежать и холодил пятки.
Это был второй снег нынешней зимы. На поле был он пока неглубок, но всё же доходил до брюха коротконогим песцам.
Точно так напугала бы песцов трава. Раньше им вообще не приходилось бегать по земле. Они родились в клетках и только глядели оттуда на землю – на снег и на траву.
Наполеон облизнул лапу – снег оказался сладким.
Совсем другой, не такой, как в клетке, был этот снег. Тот только сыпался и сыпался с неба, пушистыми комками собирался в ячейках железной сетки и пресным был на вкус.
На минутку выглянуло из облаков солнце. Под солнечным светом далеко по всему полю засверкал снег сероватой синевой и лежал спокойно, не шевелился.
И вдруг почудилось недопёску, что когда-то, давным-давно, точно так же стоял он среди сверкающего поля, облизывал лапы, а потом даже кувыркался, купался в снегу. Когда это было, он вспомнить не мог, но холодные искры, вспыхивающие под солнцем, вкус снега и свежий, бьющий в голову вольный его запах он помнил точно.
Наполеон лёг на бок и перекувырнулся, взбивая снежную пыль. Сразу пронизал его приятный холодок, шерсть встала дыбом.
В драгоценный мех набились снежинки, обмыли и подпушь, и вуаль, смыли остатки робости. Легко и весело стало недопёску, он бил по снегу хвостом, раскидывал его во все стороны, вспоминая, как делал это давным-давно.
Сто шестнадцатый кувыркаться не стал, наверно, потому, что не вспомнил ничего такого. Окунул было в снег морду – в нос набились морозные иголки. Сто шестнадцатый нервно зафыркал.
Наполеон отряхнулся, будто дворняжка, вылезающая из пруда, огляделся и, наставивши нос свой точно на север, побежал вперёд, через поле, к лесу. Сто шестнадцатый поспешил за ним, стараясь повыше выпрыгивать из снега. У стога, который высился на опушке, Наполеон Третий остановился.
Снег был здесь изрыт. На нём отпечатались какие-то звёзды, от которых пахло приятно и враждебно. Это были лисьи и пёсьи следы.
Вдруг под снегом кто-то свистнул в тоненькую косточку.
Недопёсок прыгнул, прихлопнул снег лапой и вытащил наружу полевую мышь.
В лесу
Мышей у стога оказалось полно. Попискивая, шныряли они в перепревшем сене, и Наполеон гонялся за ними, хлопал по снегу лапами и хвостом.
Сто шестнадцатому тоже хотелось поохотиться на мышей, да больно уж непривычным было такое дело. Вдруг прямо из-под носа у него выскочила мышь. Сто шестнадцатый схватил её, проглотил и подпрыгнул от ужаса.
Перепуганные мыши спасались под стогом.
Наполеон раскопал в сене пещерку, засунул туда нос. От крепкого сенного запаха закружилась голова. Пахло сено душными июльскими грозами, ушедшим летом.
Мыши затаились, и песцы бросили охоту, побежали к опушке леса. Пересекли березняк, добрались до больших деревьев.
Это были старые ёлки.
На их макушках гроздьями висели зрелые медные шишки. У подножия, куда не навалило ещё снегу, ярко зеленел мох, а толстые стволы облеплены были серыми звёздами лишайника.
Морозной смолой пахли подошвы деревьев, стволы опасно уходили вверх, сплетались там ветвями и вливались в небо высоко над головой.
Вдруг сверху послышался тревожный и сильный стук. В красном грозовом шлеме на осине сидел чёрный дятел, долбил дупло. Заметив песцов, он крикнул пронзительно, расставил в воздухе бесшумные крылья, нырнул в еловый сумрак.
На крик его прилетела сорока.
«Страх-страх!» – сварливо закричала она.
Наполеон тявкнул в ответ, угрожающе взмахнул когтистой лапой.
Но сороку это только раззадорило. С дерева на дерево перелетала она над песцами и кричала на весь лес: дескать, вот они, беглецы со зверофермы, лови их, держи!
Под крик сороки песцы выскочили на вырубку, заваленную ломаными берёзками, выкорчеванными пнями. Здесь под кучей еловых веток спал заяц-беляк. Он гулял-жировал всю ночь и спал теперь крепко и спокойно.
Шорох снега и сорочий крик разбудили его. Длинноухий, с выпученными глазами, он с треском выскочил из-под земли у самых ног Наполеона и пошёл сигать по вырубке, перепрыгивая пеньки.
Песцы замерли от ужаса, а потом дунули в другую сторону.
Сорока растерялась. Не могла сообразить, что теперь делать, за кем лететь, над кем трещать. Она раздражённо уселась на ветку козьей ивы, закрутила зелёной головой. Настроение у неё совсем испортилось.
Неподалёку, под ёлками, вдруг зашуршал снег, послышалось сопение, и на вырубку выбежал гончий Давило. Он равнодушно глянул на сороку, добежал до заячьего следа и тут оживился. Фыркнул вправо, влево, а после засунул нос свой, похожий чем-то на кошелёк, прямо под кучу еловых веток.
Задрожал от радости собачий хвост, и вылетели песцы из гончей горячей головы.
Давило рявкнул басом и побежал по новому следу, с удовольствием вдыхая сладкий заячий запах.
Загремел голос Давилы под сводами ёлок – звонкой цепью потянулся по лесу, отмечая путь зайца. Недалеко протянулась цепь, дошла до опушки, заглохла на минутку, и тут на конце её, как двойной колокол, ударил гром.
Сорока слетела с козьей ивы и низом-низом, незаметно, быстро и неторопливо скрылась из глаз.
Кто стрелял?
– Что такое! Что ещё такое?! Кто стрелял?
Близкий неожиданный выстрел ошеломил директора Некрасова, пыжиковая шапка вздрогнула на голове.
Директор стоял на опушке леса в высоких сапогах-броднях, а на руках его были дворницкие рукавицы – хватать, в случае чего, песцов. Выстрела директор никак не ожидал. Наполеон нужен был живым.
– Кто стрелял?! Кто стрелял, я вас спрашиваю! – грозно повторил директор.
– Ясно кто, – угрюмо ответил бригадир Филин, который шевелился неподалёку в кустах, стараясь замаскироваться. – Обормот Ноздрачёв.
Из лесу выскочил Давило. Он был радостно возбуждён, шоколадные глаза его налились кровью.
– Ноздрачёв! – сурово крикнул директор. – Это ты стрелял?
– Да я тут косого зашиб, – послышался низкий, идущий из самой глубины души голос.
Скоро и сам Ноздрачёв вывалился на опушку. От него валил азартный охотничий пар. Заяц, который всю ночь гулял-жировал, болтался теперь у пояса. За три шага пахло от Ноздрачёва кислым бездымным порохом «Фазан».
– Токо выхожу на просек, – возбуждённо стал объяснять Ноздрачёв, – косой чешет. Я ррраз через осинки…
– Где песцы?
– Песцы-то? – растерялся охотник. – Наверно, круги делают.
Директор Некрасов всего секунду глядел на охотника Фрола Ноздрачёва, но и за эту секунду взглядом успел многое сказать. Оправивши шапку, директор повернулся к охотнику спиной и направился обратно на звероферму. За ним поспешил бригадир.
– Погоди, погоди, – вслед ему сказал Ноздрачёв. – Не волнуйся. Сейчас догоним. Я тут всё кругом знаю, не уйдут.
Звероводы даже не обернулись. По снежному полю уходили они от охотника, и вместе с ними уходила премия.
Тут вспыхнул охотник Фрол Ноздрачёв, и по лицу его пошли багровые полосы, похожие на северное сияние. Вспышки сияния никто, правда, не видел, зато услыхали директор и бригадир, как ругается охотник им вслед пустыми словами.
Отругавшись, охотник потоптался на месте и пошёл потихоньку туда, куда вёл его собственный характер.
– Не волнуйтесь, Пётр Ерофеич, – говорил тем временем Филин, догоняя директора. – Побегают, жрать захотят – через недельку сами вернутся.
– Да за недельку они от голода помрут, – недовольно сказал директор. – А если кто-нибудь прихлопнет Наполеона? Что тогда?
– Вот это вопрос! – подтвердил Филин. – Что же делать?
Директор закурил, напускал дыму в темнеющее постное небо.
– Надо попробовать Маркиза, – сказал он.
Верея
Серый денёк ещё посерел, сгустились на небе облака, предвечерний ветер погнал их на юг.
К вечеру оказались беглецы в глухом овраге, на дне которого медленно замерзал чёрный ручеёк. По оврагу, по оврагу, вверх по ручью добежали они до лесного холма-вереи.
Здесь, на склонах вереи, были барсучьи норы. Барсуки селились на холме с давних времён, насквозь пронизали его норами.
Приближающаяся ночь тревожила Наполеона, хотелось спрятаться от ветра, нагоняющего позёмку. По можжевёловому склону поднялись песцы на вершину и заметили в корнях ёлки тёмную пещеру. Наполеон обнюхал снег вокруг неё, засунул внутрь голову.
Из пещеры пахло сухим песком, смолистыми еловыми корнями. Это была барсучья нора, давно заброшенная хозяевами. Корни, которые оплетали её потолок, медленно росли, шевелились и постепенно завалили ходы, ведущие внутрь вереи.
Наполеон залез в пещеру, за ним – Сто шестнадцатый, который сразу забился в угол. Недопёсок свернулся колобком у входа, выставил наружу морду и глянул сверху на лес.
Ого, как высоко забрались они! Далеко видны были тёмные леса, робкие деревенские огоньки за лесами, сизая над огоньками пелена. И совсем уж далеко, как маленький грибок, видна была кирпичная водокачка, отмечающая над деревьями звероферму «Мшага».
Темнело. Из-за еловых верхушек взошла красная тусклая звезда, а за нею в ряд ещё три звезды – яркие и серебряные. Это всходило созвездие Ориона.
Медленно повернулась земля – во весь рост встал Орион над лесом.
О Орион! Небесный охотник с кровавой звездой на плече, с ярким посеребрённым поясом, с которого свешивается сверкающий звёздный кинжал!
Одною ногой опёрся Орион на высокую сосну в деревне Ковылкино, а другая замерла над водокачкой, отмечающей над чёрными лесами звероферму «Мшага». Грозно натянул Орион тетиву охотничьего лука, сотканного из мельчайших звёздочек, – нацелил стрелу прямо в лоб Тельцу, в полнеба раскинувшему звёздные рога.
Зафыркал кто-то внизу, забурчал. Это выходили на охоту барсуки. Они спустились по склону вниз, пропали в овраге.
Стало совсем тихо. Откуда-то, наверно из деревни Ковылкино, прилетел человечий голос:
– …Гайки не забудь затянуть…
Затих голос, и нельзя было узнать, какие это гайки, затянули их или нет.
Барсучья ночь
Всю ночь в овраге под вереёй возились барсуки.
Это была последняя, как видно, барсучья ночь перед зимней спячкой.
Ворчание барсуков тревожило Наполеона, он никак не мог заснуть, то и дело открывал глаза, готовясь встретить незнакомого врага. Один ворчун, самый старый и такой седой, что даже полоски на носу его посветлели, подошёл к пещере, в которой спали песцы.
Наполеон каркнул на него, как ворон, красным цветом блеснули из пещеры его глаза.
Уж на что стар был барсук, а не смог разобрать, что за зверь перед ним – то ли пёс, то ли лис, кто его разберёт? Старик решил с ним не связываться, скатился в овраг, презрительно что-то бормоча. Он долго ещё бубнил себе под нос, бранил Наполеона.
И следы, собственные следы на снегу, тревожили Наполеона. Они были частью его самого, тянулись по лесам и оврагам, словно гигантский хвост. Вот кто-то потянет за этот хвост и вытащит из норы, из барсучьей пещеры, притащит обратно на звероферму.
Плохо спал в эту ночь и директор Некрасов, хоть и не бранили его барсуки, не бродили под окнами. Снились директору большие неприятности и убытки, которые принёс звероферме сбежавший Наполеон. Дёргался директор, метался под одеялом.
– Катя, – говорил он во сне, – дай кисельку клюквенного.
И Прасковьюшка спала неровно, просыпалась, бормотала, била в подушку кулаками.
Славно спал в эту ночь Фрол Ноздрачёв, и снился ему тёплый магазин, ящик с макаронами. Грозно, азартно, по-охотницки храпел Ноздрачёв, так храпел, будто выговаривал фамилию знаменитого немецкого философа: «Фейеррр-бах! Фейеррр-бах!»
Барсучья ночь тянулась долго, и высоко поднялся Орион, медленно наклонился набок, догоняя скрывающегося за горизонт Тельца. Под утро ушёл Орион за край земли, только кровавая звезда с его плеча долго ещё светила над ёлками, тусклая звезда с таким певучим и таким неловким, неповоротливым в наших лесах названием – Бетельгейзе.
Перед рассветом протопали барсуки по оврагу в последний раз. Сопя и кряхтя, залезли спать в свои норы. И как только самый старый барсук улёгся, над далёкими лесами протянулась брусничная полоса рассвета.
Из оврага тем временем послышалось короткое тявканье, шорох увядших трав, припорошённых снегом. Кто-то бежал по следу песцов. Вот прохрустел сухим дудником у ручья и стал подниматься наверх.
Наполеон ощетинился.
Вздрогнул, зашевелился куст можжевельника – и низенький рыжеватый зверь выскочил прямо к пещере. Увидевши Наполеона, он миролюбиво заскулил. Это был самый старый песец со зверофермы, которого звали Маркиз.
Маркиз
Наполеон хорошо знал этого рыжеватого Маркиза.
Маркиз жил в клетке напротив и с утра до вечера дремал, накрывши нос пышным хвостом. Он никогда не метался по клетке, как другие песцы, и не грыз решётку. Целыми днями он мудро спал, а просыпался только лишь для того, чтобы покрутить пойлушку.
Музыку предобеденную Маркиз очень любил и сам был неплохим музыкантом, умел выжать из своего незатейливого инструмента целый набор ликующих, а то и печальных, задумчивых звуков. Душа у него была, как видно, тонкая, артистическая.
Недопёсок терпеть не мог железную музыку. От визга пойлушек шерсть его вставала дыбом, он лаял, стараясь заглушить звон, но почему-то против воли и сам подкручивал миску – не хотел, а она притягивала, заманивала.
Появление Маркиза на барсучьей горе ни капли не удивило Наполеона. Он даже и не задумался, откуда здесь взялся Маркиз, которому полагалось дремать в данный момент на звероферме.
Маркиз тем временем обнюхал Наполеона и Сто шестнадцатого, который тоже вылез из пещеры, утомлённо зевая.