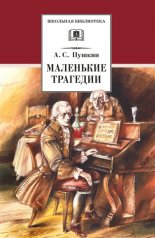Расплавленный рубеж Калашников Михаил
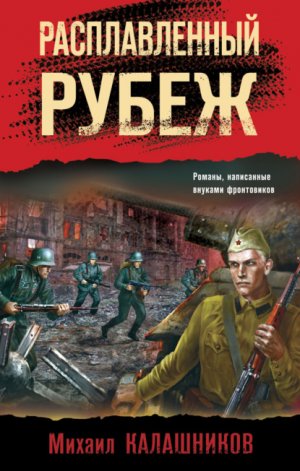
© Калашников М.А., 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
1
В Кольцовском сквере каждый день выкладывали цветами на зеленой клумбе год, число и месяц.
Потом пришли немцы, и время остановилось.
Григорий Бакланов. Пядь земли
Сдаваться без боя Город был не согласен. Почти год его колотило и трясло, но в этой лихорадке Город набирал силу. Теперь он был опоясан рвами, змеями траверсов, колючими оградами, крыши домов ощетинились зенитными пулеметами. На перекрестках выросли стопки мешков с землей, на улицах появились ежи из рельсов. Казалось, Город, подобно кошке, приготовившейся к драке, вцепился в землю, собираясь дать достойный отпор врагу.
Война вымела из квартир мужчин, разбросала их по фронтам, опустошила фабричные цеха: дизеля и станки увезли на необжитые места и в пустых заводских стенах сиротски хлопали крыльями голуби.
Но еще звенел на проспекте трамвай, выходили газеты, вверх по реке плавали прогулочные катера, вывозя детвору в лагеря на каникулы. Город старался жить, он еще не пал духом. Был у него Праздник конца учебного года, и враг его не запретит. Жители бодрились: наварим леденцов, проведем веселый утренник, наплюем в рожу поганой войне.
Пионерский парк принимал гостей. Работал прокат, в нем за определенную плату выдавали во временное пользование кукол и деревянных лошадей, самокаты, кегли. На тропинках было множество белых пионерских панам. На маленькой полукруглой сцене перекликались два баяна – учитель с учеником. На крытой летней эстраде проводились конкурсы. Над фонтаном разлетались радужные брызги, площадки для игр были забиты детворой. Родителям в парке не было места, они сгрудились в тенечке за оградой, под акациями.
В июне, в черную дату чертовой дюжины, над Городом загромыхало. Загудели небеса. Зверинец за техникумом почуял страх прежде людей – в нем раздавался на разные голоса вой. В парке крики, смех, оркестр наяривает, давно праздника не было, и люди веселились. Когда небесный гул накрыл парк, разбегаться было поздно. Молотящие воздух винты прошлись над зелеными макушками деревьев. Оборвались недоигранные ноты, раздались крики детей, вопли матерей… На свежеокрашенных стенах павильона, на панамах, клапанах баяна появились яркие брызги крови… Россыпь шахмат, перевернутый велосипед, пионерские галстуки вперемешку с белоснежными блузками. Деревья как рождественские елки, обряженные в кровавое тряпье и оторванные конечности. На месте зрительских лавочек образовалась разрытая дымящаяся яма.
В окрестных домах ни единого целого окна, где-то сорвало жестяную крышу, как скальп с головы. Раздался звук запоздалой сирены, зазвучали клаксоны карет «скорой помощи»… И снова гомон со стороны зверинца, теперь не тоскливый, а дикий, споривший с материнским воем, покрывавшим крики раненых детей.
Прикатили несколько городских трамваев. На рифленых листах вповалку были уложены стонущие раненые. В хвосте каравана двигалась грузовая платформа с мертвыми…
В сквере в день похорон проводился траурный митинг. С окраин Города приволокли «мессер» с погнутым пропеллером, дырками на крыльях. Может, это и был тот самый подбитый самолет из тех, что убил детей в пионерском саду.
Разрезанный рекою с севера на юг Город отправлял на фронт, эвакуировал, готовился к отражению удара. Два его берега связывали мосты. Самый южный и самый новый, детище индустриального века – ВОГРЭС. Под боком у него гидроэлектростанция, от нее аббревиатура. На бетонных арках лежит дорожное полотно и две пары трамвайных рельсов.
У среднего моста богатая биография: с екатерининской поры он устроен на этом месте. Новая эпоха его переродила, из деревянного он стал каменным. Когда-то роща здесь дубовая стояла – Чернава, от той рощи и название мосту было дано.
Северный мост – удаленный, он в стороне от Города. В этом месте полуостров разрывает реку на два рукава, а пара мостовых пролетов, кинутых от полуострова, связывают левый и правый берег. Машинам здесь не пройти, две железнодорожные колеи на нем. За мостом, на левом берегу – стародавнее село, еще с допетровской эпохи, зовется Отрожкой. По нему и мостовая пара названа.
В эти дни на мостах бурлит жизнь. Передвигается народ, едут теплушки и платформы. А река под мостами течет все такая же тихая. Не колыхнуло ее пока самолетной бомбой, не потревожил донную живность залетный снаряд, не вздыбили водяные фонтаны пулеметные пули.
2
У войны не женское лицо, но легкая женская поступь:
Беспечная и сокрушительная, словно первый весенний дождь.
Егор Летов. «У войны не женское…»
Из распахнутого окна тянуло утренним холодком. Скоро подъем, и казарма (бывший школьный класс) встанет с ног на голову. Замелькают тела в армейском белье, руки с расческами над растрепанными головами, швабры, тряпки, гимнастерки, сапожные щетки. Зазвучат привычные казенные команды, разбавленные неуставными словечками:
«Наряд, строиться! Кто на дежурство? Девчонки, со сменой не затягивайте, разводящую свою толкните, не проснется никак».
Адель заглянула в крохотное зеркальце. Черные брови с широкой прогалиной над переносицей, такие же черные глаза, почти как у галки, аккуратный нос и губы, едва раздвинутые в улыбке. Пухловатое после сна лицо. Да нет, не только после сна, оно у нее всегда не худое. С детства ее награждали обидными кличками за полноту, неповоротливость. Когда другие обдирали коленки, лазая по веткам, Адель суетилась внизу. Она со всем имеющимся у нее упорством старалась поспеть за компанией, выжимала из рук последние силы, из глаз текли слезы, но влезть на дерево не получалось.
Мальчишеские игры закончились, но и после детства ей тоже не везло. Ровесницы влюблялись, часто им отвечали взаимностью, Адель же только вздыхала. Она понимала, что ее вряд ли кто-то выберет, ведь в моде нынче осиная талия, тонкая щиколотка и лебединая шея, поэтому сразу ополчилась на весь мужской род и на самых стройных подруг.
Мать как могла утешала: глянь на мои фото, я тоже до родов была пышкою, но твой отец увидел во мне красоту. Для него не стало препятствием, что я другого племени. Он рассорился со своей родней, которая хотела видеть рядом с ним католичку и польку, я рассорилась со своими. Когда грянет любовь, то не будет границ между верой и родом, она всех примирит и все уравняет.
Адель долго перебирала свадебные карточки родителей и верила, что удача будет сопутствовать ей только на новом месте. Ждала с нетерпением окончания школы, а там Львовский университет, новая жизнь, новые лица и…
Когда в начале учебного года город заняли красноармейцы, Адель и это событие связала с будущими переменами. Теперь она, ее родной город и все, что ее окружало, будет жить в новом государстве. Ну разве это не знак свыше? Ей выдали новый паспорт, и в нем она пожелала быть записанной Аделаидой: новый документ, новое имя, новая жизнь.
Она преуспела за год в изучении языка и поступила в институт республиканской столицы. Киев встретил ее большим количеством транспорта на широких улицах и сутолокой. Закатанные асфальтом мостовые, радужные клумбы, усыпанные каплями воды, звенящий трамвай, дворцы культуры, библиотеки, концертные залы – все было внове. Были и новые знакомства, и подруги, и Витя из Днепропетровска, оказывающий робкие знаки внимания. Все было. Без малого год.
После сдачи последнего летнего экзамена жизнь полетела еще стремительней, еще неудержимей. В этот раз не на взлет. Родной город с первых дней оказался в прифронтовой полосе, транспорт туда ходит только воинский, попасть в него невозможно, да, видимо, и смысла нет: фронт пятится, город ее приграничный, наверняка обречен на сдачу. Родителей Ада видела лишь зимой. Они просили приезжать чаще – на католическую Пасху или хотя бы на Первомай. Им ведь не объяснишь, что ей, комсомолке, теперь в храм ходить неприлично и даже зазорно. А Праздник Труда в Киеве – разве можно променять на что-то иное? Если б знать, что все так случится… Примчалась бы к родному дому без повода и праздника, встала на колени перед родителями и поблагодарила бы за их любовь. Отец никогда не оставит мать, скорее, ложно назовет себя евреем и вместе с нею пойдет на муки.
Остается только мстить.
Аделаида вновь повесила на шею распятие и образок Пречистой Девы. Хотела из солидарности к матери нацепить и звезду Давида, но, осознав, что это будет кощунство, отказалась. Тайком от соседок по комнате она стала на рассвете шепотом читать молитвы, которые помнила, просила лишь одного: чтоб жили родители.
Адель вместе с тысячами добровольцев рванула к военкомату. Там оглядели ее неповоротливую, с массивной грудью фигуру, приметили неуклюжесть и посоветовали ехать домой. А когда узнали, что дом разорен и туда не добраться, рекомендовали записаться в связистки, радиотелефонистки, шифровальщицы, на худой конец, санитаркой в тыловой госпиталь – в общем, туда, где можно быть подальше от фронта. Ада настаивала: душа комсомолки требует не просто воевать, она взывает к мести. В военкомате еще раз оглядели полноватую фигуру, про себя подумали, что это здоровое тело могло бы выносить и выкормить с десяток будущих солдат, но, хмурясь, выписали бумагу в учебный зенитный батальон.
Несколько месяцев учебы, потом этот Город. Неуклюжесть и полнота в девушке поубавились, военная выучка пошла на пользу. Режим, рацион, тренировки делали свое дело. Армейская форма подчеркивала ее заметно похудевшие формы.
Стрелять не по учебным целям уже приходилось, но счет пока оставался сухим, как говорили на матчах до войны. Командир каждый раз подбадривал:
– Милые девушки, ваша задача – не столько сбить противника, хотя и это не возбраняется, сколько создать над городом огненную завесу и не допустить врага к низким высотам, к точному прицеливанию. Своим огнем вы заставляете его нервничать, не даете снижаться, он сбрасывает бомбы где попало, и это уже победа.
Ада слышала его болтовню, в голове, помимо не утихшего после боя звона, вертелось: «На этот раз фашистские самолеты ушли от меня, но ничего, будет еще попытка». Она не раз задумывалась: «А вдруг я и правда однажды собью? И вдруг он упадет на землю и взорвется в том месте, куда не упала бы его бомба, не зацепи я его? Скажем, на госпиталь или бомбоубежище детского сада. Получится, что я не мститель? Убийца детей и калек?»
Мысли ее оборвала завывшая сирена, в бывшем классе поднялся переполох. И каждый раз так: зазвучит сигнал тревоги, зенитчицы мечутся в суматохе, совершая кучу лишних движений, в спешке собирают оружие и амуницию – никак не привыкнут к сигналу тревоги. Но когда все расставлены по номерам, заправлены ленты и взведены курки, тут не до суеты. Мысли работают четко, движения выверены.
Над крышами появилась самолетная пара. Знакомые старые гости – «лаптежники». Желтые стойки шасси под серо-синим стальным брюхом, как куцые утиные лапы. В прозрачном саркофаге кабины торчит голова в кожаном шлеме. Под шлемом мысли: «Ну здравствуй, новая точка на карте! Чем порадуешь? Думаю, вряд ли удивишь. В Тобруке и Ливийской пустыне я повидал многое. Где тут у вас вокзал, милые хозяева? Scheie! Вы и правда гостеприимны, успели поцеловать в крыло. Надо ответить взаимностью. Удобная позиция у вас, удобной будет и могила. Что замерли, детки? Выжидаем? Дядя Эрих рядом, сейчас будет раздавать подарки. Какие-то странные фигуры… из-под шлема косички… А у этого юбка? Даже вымя под кителем вон у той! Хах, по бабам работать еще не приходилось, такого не было даже в Тобруке! Ну держись, шлюха. Ответишь за рану на крыле моей голубки… Scheie! Метко бьешь, коммунистка… Придется скинуть груз над кварталами, голубка моя чахнет… Я не говорю вам прощайте, милые дамы, я говорю – до скорого свидания! Такого не было даже в Тобруке».
В него она попала, Ада видела это. Хоть и не всей очередью, а лишь краем, но ему хватило. «Лаптежник» рано вышел из пике, и приготовленная для зенитчиц бомба, не долетев, угодила в мостовую. Следить, что будет с самолетом дальше, не было времени, в небе и без того хватало гостей. Где-то за увалом крыши часто кашляла скорострельная пушка соседнего расчета. Отдельным басом гремел голос командира на дальномере, сильно разбавленный дублирующими девичьими отголосками.
По жестяной крыше июльским ливнем стеганули осколки. Пронзительно крикнула подносчица снарядов и схватилась за поясницу. Оля Полынина. Как и Адель, бывшая студентка, любившая вышивать и читать стихи. На прошлой неделе в воскресенье, по время полкового досуга, Оля вышла на импровизированную сцену, стала громко читать:
- Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна…
- Кронштадтский злой, неукротимый ветерв мое лицо закинутое бьет. В бомбоубежищах уснули дети…
На этих словах голос ее дрогнул, подбородок запрыгал, она опять попыталась продолжить читать стих, но еще больше стали душить слезы, и она стремительно скрылась за кулисой. Оля, как все, любила сладкое, любила поэкспериментировать с прической, любила тайком вылезть на крышу и, спрятавшись в укромном прогалке между двумя слуховыми окнами, позагорать.
Срезанный осколком брезентовый ремень мертвой змеей упал к ее ногам. Ноги выбивали по крыше дробь, подошвы ботинок ляпали по натекшей кровавой лужице, пятнали рукава подскочивших санитарок.
Ада лишь две секунды смотрела на все это. Затем в ее каску что-то стукнуло, потом ее дернули за плечо. «Продолжать огонь», – прогремел в ухо мужской голос, и еще двинули чем-то железным по каске.
Турель с четверкой рифленых пулеметных кожухов завращалась. Чехарда команд и цифр, перезарядка, заправка новых лент. В небе полно дымных облаков, они сползаются в тучу. За темным смогом прячутся «гости», наверняка самолеты успели смениться раза по три, так казалось Аделаиде, не могут же одни и те же так долго кружить над ними. Ада отпускала гашетку и слышала сквозь гул пылавшего Города, сквозь визг моторов в небе, как шипел кипяток в раскаленных кожухах ее счетверенных стволов пулемета. Намокшая форма и белье липли к подмышкам, животу, с лица пот она уже не вытирала. Руки от напряжения заметно дрожали, перед глазами плыли радужные пятна.
«Сознание не потерять бы», – успела произнести Аделаида или просто подумала про себя.
3
Дон в этом месте неширок, Роман сплавлялся по нему вплоть до Ростовской области. Хоть и давно это было, лет восемь назад, а такие приключения не забываются. Дядька тогда расстарался для Романа: нанял у знакомого лодку с мотором, собрал харчей на полмесяца, достал у другого знакомого палатку, выпросил отпуск.
Они плыли вниз по реке и почти не налегали на весла. Течение несло их мимо залитых солнцем берегов, изумрудных лугов с пятнами рыжих коровьих пастбищ, мимо меловых скал и холмов, откуда доносились запахи чабреца, мимо старых верб, спускавших низко к воде толстые ветви. С ветвей прыгали в воду мальчишки, радостно махали проплывавшей лодке, кричали приветствия. Дядька иногда подгребал к крупному селу с пристанью, ходил в местное сельпо подкупить хлеба и крупы для кулеша, племянника баловал бутылкой ситро и ванильным пряником. Ночевать всегда останавливались на пустынном берегу, подальше от села или хутора, чтоб берег был удобный и желательно с пляжем. И на следующий день плыли мимо них опять песчаные широкие косы, табуны и стада, огороды с капустными головами и огуречной ботвой, резные перила аккуратных плавучих пристаней, симпатичные фронтоны дебаркадеров, а на них все новые названия мест и селений.
Дядька показывал на ту или иную меловую гору, пояснял, что раньше здесь была церковь или даже пещерный монастырь, но теперь засыпанный, исчезнувший. Произносил названия тех стертых с лица земли монастырей. Роман просил дядьку остановиться и поискать вход в пещеру. Дядька как мог отбивался от просьб, мол, опасно это: пещеры и обвалиться могут, и рассказывают, будто монахи в них до сих пор тайно живут, что у них на уме, у этих монахов – бог знает. Небось не любят, когда их тревожат. Не помогало и это. Тогда стал пугать племянника иными страхами: милиция у пещер дежурит, кого поймают – в тюрьму могут посадить как «сочувствующего прежнему строю и верующего». После этих баек Роман затихал. Уже за Павловском дядька сжалился, и в одну пещеру им все же удалось попасть. Средь меловой осыпи дядька отыскал низкий, почти заваленный вход. Они зажгли стеариновую свечу, с которой по вечерам укладывались спать, и зашли в темную пещеру.
Стены в основном были гладкие, но по надписям на них Роман понял, что они с дядькой здесь далеко не первые гости. В одном месте дядька остановился у необычного рисунка, вырезанного в меловой стене. Он изображал длинную ладью с растянутым парусом и огромную пальмовую ветвь. Дядька сказал тогда: «Глянь, Ромка, как в старину люди по Дону плавали. Видать, из теплых краев были: видишь, пальма у них. Жаль, до Цимлянска не доплывем. Там весь склон меловой буквами и крестами изрезан, кто-то древний старался, не по-нашему написано».
Цимлянска и вправду они не увидели, дошли только до казачьих рубежей. Обратно пошли на моторе, малым ходом, экономя солярку. Когда дядька видел в займище трактор или грузовик, непременно причаливал, брал канистру для топлива и недолго о чем-то беседовал с шофером. Возвращался всегда с полной канистрой. Опять мимо них поплыли берега, но уже в обратную сторону.
…Роман смотрел на узенький мост. Шаткий дощатый настил, хлипкие перильца, зыбкая основа понтонов, ходившая под легкой волной. Сбоку от моста, на дополнительном понтоне – низенькая конура бакенщика, теперь – комендантский КПП. По мосту ползет бесконечный поток, состоящий из автомобилей, людей, из рогатой скотины, бронированных машин. Раздаются брань, угрозы, мольбы. Кругом царит горе, сутолока. Пятый день нет конца этому потоку, он течет на восток, подальше от фронта.
Левый берег сразу за мостом: ровный, пологий, далеко просматривается – луговина, одним словом. Потом небольшой бугор, на нем запасные позиции. От них до моста метров семьсот. За спиной и чуть слева – деревенька. Там тоже позиции, стоит соседняя рота.
– Видать, крепко нам врезали, – болтал кто-то сбоку от Романа. – Да ничего, Дон-батюшка «его» удержит. И мы упремся.
– Интересно, мост будем рвать?
– Не «ему» ж оставлять? Рванем, командиры не дураки. Как последний человек перейдет на наш берег, так у «него» под носом мост и взлетит.
Роман посмотрел в сторону болтавших. Оценивающе глядел на правый берег солдат Лямзин. Длинный, худой, гибкий, как кнут, лысоватый, ему далеко за тридцать. Нос у Лямзина тоже длинный, прямой – киль корабельный. В худобе его кроется дикая сила. На марше Лямзин не знает усталости, при строительстве понтона он легко ворочал бревна и чуть не сам выдернул из прибрежной грязи завязшую пушку. Он никого не боится, даже младших командиров, и, случается, грубит им. Но силу и прыть свою проявляет редко, когда уже совсем прижимает совесть или что там у него вместо нее находится. Чаще уходит в сторонку, закуривает, чешет языком: вспоминает, как был первым парнем на деревне, как крушил ребра дерзким соседям. В деле его не видели, но проверять похвальбу Лямзина возможности не было.
Рядом с ним Опорков. За глаза его зовут Лямзинская Шестерка, верный подпевала, хотя мог бы вести свою линию, но его хватает лишь на роль ведомого. Весу в нем под центнер, руки толщиной в приклад от ручного пулемета, грудь широкая, рельефная, волос белый, между зубов щель, лицо ладное, глаза с ехидным прищуром. С Лямзиным они с первых дней сошлись и стали один другого поддерживать. В наряды и на службу они ходили в числе последних, а вот потравить байки и потрепаться – нету им равных. Взвод против них слова не скажет, связываться с парочкой нет охоты.
– Отчего вышло так, Саня? – Опорков будто теперь, на второй год войны, задался насущным вопросом.
– Не знаю, Алеха, не знаю, – отозвался Лямзин, хотя в голове его уже были готовы варианты ответов. – Много тут всего. Вишь, и техника у «него», и оружие, и связь. Все схвачено, а мы только глаза открыли. Дали мне эсвэтэшку, а я б лучше с «моськой» воевал, с нею привычно. А «светка»[1] капризная, зараза, ухода требует.
– Вся Европа на них работает, – вставил Опорков.
Лямзин кивнул:
– Потом, опять же, первый удар за «ним» остался. Ты в шахматы играть умеешь?
– Ну, знаю, как фигуры ходят, – уклончиво ответил Опорков.
– Вот вроде равное по фигурам сходство: и ферзи у обоих, и слоны, и кони, а все ж таки за белыми преимущество. Вот считай, что они белыми в этой войне играют.
– Да все проще гораздо, – влез к ним в разговор Роман. – Просто взять немца среднего и нашего вояку и один на один бросить, то немец сверху окажется. У немца выучка, закалка, воюет он дольше нашего.
– Это с чего такие наблюдения? – улыбнулся Лямзин.
– Да в госпитале один говорил, – смутился под его взглядом Роман.
– А ты сам-то немца живого видел? – уже сурово поинтересовался Лямзин.
Роман чувствовал себя неуверенно под этим взглядом, он хотел отвести глаза, чтобы не видеть эту полупрезрительную ухмылку, ибо знал, что поднимут на смех, не поверят и на все доводы будут бросать: «Тебя в тылу ранило, ты и до фронта-то не доехал», – ведь сам Лямзин и вправду не видел немца, он только зимой попал в сколоченную дивизию. Но Роман выдержал взгляд Лямзина и негромко выдавил:
– Видел. Вот как тебя.
– Ну, и он тебя или ты его?
– Он меня.
– Так по себе-то не суди. Мне б попался, другой финал бы вышел.
– Не бойся, еще попадется.
– Я и не боюсь, только не равняй нас всех под одну гребенку. Зелен еще. Хоть и немца видел.
Лямзин отвернулся и что-то спросил у Опоркова. Роман их уже не слышал.
Ему вспомнилась та зимняя валдайская ночь, чистая глубина неба, зубчатый ельник. Разведгруппа ползет по снегу, рядом с лицом Романа мелькают валенки и маскировочные брюки. У проволоки группа разделилась. Романа вынесло прямо на залегший в неприметной воронке «секрет». В ней наверняка спали, а иначе успели бы пальнуть в небо ракетой или просто выстрелить. Роман увидел каску, выкрашенную под цвет снега, шарф, намотанный по самые глаза, блеклое пятно лица. На замахе Роман услышал, как трещит под стальным лезвием пропарываемый маскхалат, ватная телогрейка и ткани его живота. Свой удар он все же завершил, хоть и корявый он вышел, вполсилы, смазанный из-за вылетевшего навстречу штыка. Приклад прошелся вскользь по выкрашенной в белый цвет каске, больше звону было в нем, чем пользы. Над ухом у Романа грохнула короткая очередь. В воронке, куда они провалились с напарником, все стихло. Впереди ударили два чужих пулемета. Скоро к нервно дышащему напарнику добавились еще два с шумом дышавших человека. Романа уложили на стволы ружей, как на носилки. В боку жгло, и в такт с бежавшими носильщиками что-то билось об ляжку. Роман с ужасом думал, что это выпавшая требуха, но посмотреть боялся.
Стоит ли рассказывать о своей встрече с фашистами Лямзину?
В это время Опорков показал на левый берег:
– Гляди, какие танки у нас, первый раз вижу. Американские, что ли?
В хвосте автоколонны, метров за триста от нее, из-за бугра выползли два танка. Короткоствольные пушки, гусеницы, угловатые передки, гибкие антенны. Башня передней машины была укрыта пропыленным красным полотнищем.
– Может, не наши это? – сказал Роман.
– Ну, чудила, флаг не видишь будто бы? – прыснул Опорков.
Ветром колыхнуло угол вымпела, на секунду мелькнул белый круг с черной свастикой. Роман быстро перевел взгляд на Лямзина с Опорковым. Они тоже заметили обманчивый флаг, лица их окаменели, глаза расширились. Первым очухался Лямзин:
– К траншее, бегом!..
От деревни возвращались двое солдат с касками в руках. Один держал каску перед собой и нес, будто боялся расплескать что-то, другой нес ее за подбородочный ремень, легко помахивая, словно жестяным ведром. Ощутив тревогу, они перевернули каски, торопливо нахлобучили их на головы. Под ноги им посыпались желтобокие яблоки.
Роман в два прыжка добрался до своей ячейки. Оба танка замерли, сделали по выстрелу. Снаряды взорвались за мостом. Все, кто были на правом донском берегу и не успели взобраться на понтон, разбежались в стороны, растеклись вдоль реки слева и справа от моста. Кто-то барахтался в реке, кто-то вскачь бежал по узким торцам понтонов, срывался и тоже падал в воду. Поток из людей, машин и скота стал быстро освобождать мост. Гудели на холостых незаглушенные моторы, лошади били метелками хвостов по бокам, разгоняя назойливых июльских мух. Шоферы разбегались вдоль берега вверх и вниз по течению, прятались в береговых зарослях, толкались на мосту с пехотой и беженцами.
Вслед за парой танков из рощи вынеслись несколько бронетранспортеров. Из задних отсеков бойко полезла наружу пехота в незнакомой форме. Теперь и Лямзин увидел немца.
Заметка первая
Славянская речь впервые зазвучала на берегах реки еще на заре новой эры. Под именем венетов пришли сюда люди и поселились на столетие. Вырыли полуземлянки и обшили в них стены тесом, возделали землю, с молитвой уложили в нее злак, закинули в реку невод, а из прибрежной глины вылепили сосуд. А вскоре наступили времена великих народных переселений, которые коснулись и этой местности. Гуннская волна разогнала славян, они ушли на север, в угро-финские земли, и смешались с аборигенами. Через четыре столетия после гуннов славяне вернулись на реку, но уже не как венеты, а как вятичи. С запада, с берегов Десны, Сейма и Северского Донца пришли собратья вятичей, такие же славяне – северяне. Они дали здешним рекам и урочищам свои названия: Елец, Усмань, Овчеруч, Воронеж.
Степь пропускала через себя новые кочевые орды, то аварскую, то венгерскую, но славяне сидели здесь крепко: основали черноземную Атлантиду – величественный Вантит. Опять плели корзины, ковали жало для стрелы и рала, встречали торговых людей из далекой магометанской стороны, настороженно и часто не по доброй воле принимали заморскую княжью веру и снова, утерев подолом мокрый лоб, с любовью и новой молитвой клали жито в чернозем. Отгоняя печенега и хазарина, прожили здесь славяне до половецких времен, но не столько кипчаки опустошили эту землю, как «свой брат», соседний князь.
Ушли вятичи и северяне из Дикого поля в дикий северный лес, города и селения пожгли либо просто покинули. И вновь вернулись в самый лихой момент – в монгольское время. Не побоялись хищного соседа, как не робели перед ним и прежде, во времена других кочевавших в Поле степняков. Земля не пустовала, и народ в ней был, и перезвон колокольный звучал. Пела тугая тетива, свистел аркан, рассекала воздух сабля – учились славяне новой тактике, как одолеть монголов их же оружием. Ковалась в вольных просторах будущая общность для донского казачества, что уйдет потом ниже по Дону, подальше от власти, поближе к вольнице.
4
Как жаль, что в транспортерах нет крыш. Тяжелая черноземная пыль падает клубами на плечи, головы и оружие. Хотя, будь крыша, в этой консервной банке люди умерли бы от жары. Шлем раскалился на солнце так, что невозможно дышать. Во фляжке почти пусто. Быстрее бы Дон. Те, кто смогут победить в бою, вволю напьются.
Солдаты расселись спинами к бронированным бортам машины. Оружие зажато меж колен, приклады на кочках стукаются о стальное дно. Под ногами перекатывается армейское барахло, просыпанные патроны. С краю от двери сидит юноша, ефрейтор Вольф, Малыш Вилли, как его зовут в роте. Он и правда невелик ростом, но крепок и может, навесив на себя гирлянду пулеметных лент, идти без устали в гору. Ему едва за двадцать, воюет уже два года. Во Франции их дивизию отправили не через Бельгию, а напрямик – штурмовать Линию. Это были первые бои Малыша Вилли, самые тяжелые.
В роте с Малышом служили тогда два фельдфебеля, оба ветераны Великой войны. Спасибо им. Они многому научили. Старик Берковски, правда, застал самый конец той бойни, а вот старик Кропп начал войну с Вердена. Как и отец самого Вилли. Вольф-старший потерял там левую ступню, и ядовитое облако вдобавок выжгло ему легкие. Но девушка, что ждала его дома, не отказалась от него, и они поженились. Вилли было четыре, когда ему стала понятна ругань матери.
– Зачем ты наплодил их? – кричала она мужу, тыча в сторону Вилли и его старшей сестры. – Зачем они нужны были тебе, развалина ты этакая? Осколок человека!
– Прости, дорогая, что желал этих ублюдков! Прости, что не сдох «там» или в госпитале. Прости, что любил тебя и хотел подарить хоть какое-то счастье.
– Лучше бы ты подарил нам немного еды.
Отец, проклиная все, напяливал на себя потертый мундир с одинокой наградой на груди, брал под мышки костыли и шел к гостинице просить милостыню. Мать крупно натирала брюкву, смачивала ее каким-то суррогатным маслом и, раздав детям, шла работать за гроши. Потом Вилли узнал, что она приторговывала собой. Отец кричал об этом на весь их крохотный закуток, и каждый раз, когда это случалось, мать говорила:
– Ну и чего ты разошелся? В первый раз, что ли? Что изменилось с прошлого случая? Попривык бы уже.
Отец не свыкался. Как не мог свыкнуться с горечью об утраченной стране с великим прошлым и туманным будущим. Редко он говорил об этом со своими детьми, и Вилли думал тогда про себя: «Мы все вернем, отец», – но вслух ничего не говорил.
Как бы отец встретил фюрера, если бы дожил до светлых времен? Наверняка бы боготворил. Фюрер дал работу, дал стабильность, дал таким, как старший Вольф, достойную пенсию. Надежды и чаянья скоро стали обыденностью.
И он, Малыш Вилли, один из воплотителей этой обыденности. На его руках кровь как минимум дюжины жабоедов. Тех, порубленных в бетонном бункере его гранатами, он видел точно. Плюс те, которых достал из карабина, но их сосчитать сложнее – в бою пули летят не только из карабина Малыша Вилли. Это его личный вклад в унижение Франции, главной виновницы бед его семьи и его государства. Жаль, там запрещали вести себя как подобает настоящему солдату, придумали нормы и правила. Они стесняли солдатскую душу, не давали ощутить себя хозяевами на завоеванной земле. Всего этого здесь, на Восточном фронте, нет. Война тут истинная. С узаконенным грабежом, с безнаказанным убийством. Такой войны не было со времен Валленштейна. Мы ворвемся в этот город и устроим в нем «Магдебургскую свадьбу».
В дивизию Вилли прибыл недавно, в апреле, а на фронте она с начала восточной кампании. Из крупных побед – бои под Киевом, окружение армий красных в Брянске и Вязьме. Люди здесь опытные. Напротив Вилли в транспортере сидит угрюмец Гуннор. Он то ли швед, то ли датчанин. До мобилизации работал в порту где-то на севере. На груди его красная нашивка – медаль «За зимнюю кампанию». Сами награжденные зовут ее «мороженое мясо», и за цвет колодки, и… они знают, над чем шутят. Гуннор прибыл прямиком с курорта. На Крите он провел четыре месяца, залечивая больные ноги и пытаясь избавиться от кошмаров, мучивших его по ночам. До конца вылечить ни то ни другое не удалось. Гуннор, когда спит, часто вздрагивает, порою кричит. Сейчас он дремлет. Или просто притворяется, зажмурив глаза.
Вилли не хочется говорить, ведь, когда открываешь рот, в него попадает въедливая пыль. Но скучно, молчать надоело. К тому же он заметил: чем ближе дело к бою, тем сильнее его тянет на разговоры.
– Гуннор, как погодка на Крите? Жарче, чем здесь? – дернув сослуживца за штанину, прокричал Вилли.
Гуннор открыл глаза, немного пришел в себя, похоже, он и вправду спал.
– Нет, на Крите рай. Это еще не жара, Малыш. Вот когда заговорят пушки красных, ты почуешь температуру.
– Ты был во Франции, Гуннор? – не унимался Вилли.
– В Дюнкерке.
– С кем сложнее воевать? Наш старик Кропп говорил, что ему тяжелее было под Верденом. А на Восточном фронте, сказал Кропп, был санаторий: стреляли редко и русские с неохотой шли в атаку.
– Мне тяжело судить Кроппа, ту войну я не застал, мне было тогда десять лет. Верден, конечно, был адом, иначе о нем столько не говорили бы до сих пор. Но в эту войну все изменилось. Франция сдалась через месяц. Где их Верден? Линия не стала новым Верденом. А красные… Боюсь представить, сколько они еще продержатся.
– Как только мы перекроем Северный морской путь и отрежем дорогу в Персию, им без английской поддержки крышка. Они воюют заокеанским оружием и жрут калифорнийский яичный порошок. Мы отберем у них американские танки, отберем тушенку, и они передохнут от голода.
Гуннор слабо улыбнулся:
– Не верь всему, что пишет тебе агитка, Малыш. А Ленинград, кстати, до сих пор не «передох», хотя не знаю, как они вынесли эту зиму. Мы пережили ее в теплых избах, на усиленных пайках. А как они…
Сосед приподнялся и выглянул за борт транспортера:
– Эй, парни, кто еще не видел русских – вот они, рядом.
Солдаты почти поголовно встали со своих мест, сидеть остался один Гуннор. Русские и правда за бортом. Уступили дорогу транспортерам, идут и едут по обочинам. Это те, что не поспели к переправе, транспортеры их обгоняют. Некоторые покидают свои грузовики, спрыгивают с повозок, торопятся укрыться в придорожных канавах. Другие идут, не меняя темпа, устало смотрят из-под припорошенных пылью бровей. В глазах безнадега: плен так плен, не тронете, так дальше пойдем, будем идти, пока не упремся, и там снова будем с вами биться, а пока – ваша взяла.
Вереница русских на обочинах закончилась, солдаты снова расселись по местам. Только один любопытный еще не садится, взгляд его бежит впереди транспортера. Иногда он комментирует:
– Какая-то деревенька. Кажется, здесь никого. Сейчас под уклон пойдем, долина виднеется. В низине Дон! Вон, вон его петля!
Вольф не выдерживает и тоже встает. Посреди глубокой долины тянется голубая лента реки. Под лучами солнца Дон искрится, зовет окунуть в воду ладони, потное пыльное тело.
Гуннор дернул Вилли за полу мундира.
– Присядь, Малыш, спрячься. У русских хорошие снайперы, можешь и не доехать до берега.
Движок натужно взвывает, колеса транспортера вязнут в зыбком грунте. Фельдфебель звонко стукнул в стальную перегородку, подавая сигнал. Солдаты встрепенулись, крепче обхватили оружие, ноги заскользили по днищу, будто разогревая подошвы перед стартом. Скоро место соприкосновения с противником. Грохнули два орудия. Еще десяток метров прокрутили колеса транспортера. Все, броневик встал. На выход! На выход!
Под ногами песок, поросший хилой редкой травой и каким-то кустарником. Нужно перебраться вот сюда, за эту вытянутую дюну, здесь надежно. Что там вопит лейтенант? Да знаем мы, знаем: к мосту, надо его взять, пока не подорвали русские. Танки работают по левому берегу. Они разогнали людской муравейник, что кишел за мостом, русские расползлись по щелям и норам. Остался там хоть кто-нибудь? А нет, вот свистнуло над ухом, огрызаются, значит, повоюем.
Пулеметы, установленные в транспортерах, поливали огнем берег. Грузовики подвезли батарею, и прислуга живо растянула сошки орудий, уперев их в песок. Пушки включились в бой, на левом берегу русские приутихли.
5
В земляной нише окопа вздрагивала пустая стеклянная банка. Утром в ней пожилая крестьянка принесла черешню, угостила Романа. Банка звенела, билась боками о фляжку и поставленную на попа гранату, звон ее тонул в бесконечной стрельбе. Посуду солдат так и не успел вернуть, теперь она своим «неуставным» видом портила воинскую строгость стрелкового окопчика.
Передергивая затвор, Роман на короткий миг отрывался от прицельной рамки и видел затылок Лямзина, его скошенную набок пилотку, выглядывающую из-под нее мокрую плешь. «Светку» свою Лямзин успел обменять у Опоркова на автомат. Круглый диск автомата утонул в длинных пальцах Лямзина, и сам коротенький автомат выглядел детской игрушкой. Пуская длинные очереди, он водил стволом по сторонам, осматривался кругом, вопрошая: «Ну что ж вы, ребятки? Вдарим дружней». Таких же активных, как Лямзин, было маловато. Люди пригибались, прячась от немецкого пулеметного огня. Хлопки танковых пушек обрушивали их на дно стрелковых ячеек. Когда к стволам танков прибавилась батарея, справа крикнули:
– Отходить! Приказ ротного!.. Отползать за бугор!
Слова передавались по цепочке. Приказ там был или не приказ, разбираться некогда. Рота перешла увал: лица бледные, глаза безумные, до краев полные страху, дыхание отрывистое, нервное, будто глотки пережаты.
– Кто ротного видел? – передвигаясь на корточках, спрашивал замкомвзвода.
– Видел, как его ранило, – отозвался кто-то с неохотой.
– Сальников, почему без оружия? – взял командирский тон Лямзин.
– Да я, – поднял виноватый и испуганный взгляд боец, – винтовку бросил, Парамонова раненого тащил… Потом его это… добило.
– Так чего за оружием не вернулся?
– Далековато было.
Лямзин смазал Сальникова по скуле. Даже не вполсилы, так, в четверть. Голова Сальникова мотнулась:
– Чего ты, Сань?..
Роман протянул Сальникову винтовку, на ствол которой опирался, как на трость.
Лямзин недовольно глянул:
– А сам с чем воевать будешь?
Роман молча перетянул со спины на грудь эсвэтэшку на ремне, демонстративно сложил руки на ее ложе.
– О, это ж моя «светка». Обронил, Алеха? – отыскал глазами Опоркова Лямзин.
Опорков, смущаясь и бубня что-то в оправдание, подполз к Роману, положил руку на приклад.
– Что упало, то пропало, – отдернул оружие новый хозяин «светки».
Лямзин хмыкнул:
– А ума-то хватит управиться? Это ж не ложка и не лопата.
– Не твоя печаль, – отвернулся Роман.
– Кончай грызню! – крикнул замкомвзвода. – Нашли о чем галдеть. Нас выкинули, сбросили! Мост теперь у них!
– Погоди, может, отбивать скоро пойдем, – будто о пустяшном деле заявил Лямзин.
Первый страх утих. Солдаты выползали на бровку увала, осторожно разглядывали предмостные площадки, свои покинутые позиции. Танки были уже на этом берегу, стояли открыто, готовые встретить кого угодно. Транспортеры катились по мосту. Между ними бежала серо-зеленая пехота.
– Лупануть бы, – робко предложил Опорков. – Не больше километра до них, достанем.
– Что толку? – огрызнулся замкомвзвода. – Ну залягут они, ну нам ответят… Тут атака серьезная нужна, с танками.
Группировка полностью перешла на левый донской берег. Чужие солдаты кинулись потрошить брошенную технику. Из кузовов на землю летели тюки с бельем и формой, какие-то составные части механизмов.
Малыш Вилли нашел ящик, заваленный связанными попарно сапогами. Роясь в нем, брал обувь, прикладывал ее подошву к потресканной подошве своего сапога, подбирая размер, наконец подобрал подходящий. Потом выбрал добротный ремень с двойной прошивкой, пистолет в кобуре, полевую сумку с картами Города и окрестностей, кинул в свой ранец килограммовый мешок сахара. Солдаты кругом тоже тащили все, что под руку попадется, кто-то закатывал в транспортер бочку с маслом. На танке откинулся башенный люк, выглянул белокурый фельдфебель:
– Про нас не забывайте, ребята!
– Хватит и вашим людям, господин фельдфебель. Здесь полно всякого добра, – отозвалась пехота.
– Поддержка-то там будет? – спросил Гуннор.
– Я уже послал весточку, из штаба обещали прислать помощь, надо расширять плацдарм, – проведя рукой по антенне, объяснил танкист.
Совсем рядом кто-то из солдат кричал непонятные слова: «Ruki werch! Poloschi orugie i idi uda!»
Вилли пристроился в хвост небольшой очереди, где нашли бутыль со спиртом и разливали по фляжкам. Приволокли с десяток пленных, одного по дороге успели избить. Он стрелял до последнего и даже ранил в живот ефрейтора из второго взвода. С такой раной бедняга не выживет. Завинтив на полной фляжке крышку, Малыш Вилли сдернул с плеча карабин и пару раз приложился к голове упрямого русского. Вольф видел, как переломанные пальцы его судорожно дернулись на окровавленной пилотке, и он затих. Сослуживцы отправили в тыл своим ходом остальных пленных, лишь выдернув из их кучки двух одетых в гражданку. Наверняка простые трактористы, не успели сбежать с другими шоферами. Вилли дослал в ствол патрон. Две испуганные пары глаз, два выстрела.
– Зачем, Малыш? Они ведь невоенные, – бросил без укора один из солдат.
– Все они чертовы партизаны, – вешая карабин на плечо, ответил Вилли, подумав про себя: «Счет открыт. Осталось познакомиться с какой-нибудь девкой или не сильно старой бабой».
В очередном грузовике нашли что-то ценное, радостно загомонили.
– Самое время, командир! – нетерпеливо сказал Лямзин. – Гляди – мародерят, все как один. Даже охранения не выставили.
– Да сиди ты, стратег хренов. Пока с бугра спустимся, танки пулеметами покосят. И броневики, видишь, не зевают, дугой встали. Вот тебе и охранение.
Солнце садилось за спинами сновавших средь брошенной техники солдат, последние лучи его били в лица тех, кто устроился на бровке. У многих, как и у Лямзина, болела душа. Уходило время.
6
Понтон, где вычищал кузова брошенных грузовиков Малыш Вилли со своей братией, был не единственной переправой через Дон. К автомобильным мостам у Гремячьего и Петино выскочила мотопехота 24-й танковой дивизии, и везде была одна и та же картина: после короткого боя мосты были отбиты и захвачены. Немецкий десант на резиновых лодках стремительно переплывал реку, появлялся в тылу у оборонявших мосты едва сформированных и необстрелянных рот, сеял панику.
Только с железнодорожным мостом у Семилук дело складывалось непросто. Бой тут шел около суток, стоил большой крови. Перед уходом мост удалось заблокировать. Среди солдат нашелся бывший помощник машиниста. Он встал за вентили и рычаги покинутого паровоза, задним ходом пустил локомотив с десятком пылавших вагонов на мост и успел спрыгнуть на своей, восточной стороне Дона. Горящий состав уперся в брошенную технику, заскрежетал, затрясся, разбрасывая искры и головешки, и, прыснув паром, замер. Грозное препятствие лишь раззадорило немецких командиров. К берегу стали подходить тяжелые бронированные машины. К их стальным тросам солдаты цепляли остатки вагонов, покореженные взрывами платформы, оттаскивали в сторону, расчищали мост и радовались тому, что преграду, устроенную русскими, удалось так легко одолеть.
Офицеры ликовали, посылая в штаб армии победные донесения: «Дон и переправы через него в наших руках! Дорога на Город открыта! Он стоит беззащитный и ждет, когда мы возьмем его». Они не знали, что этими легко взятыми мостами роют себе яму. Скоро дивизии, так нужные на Волге и Кавказе, завязнут в уличных боях. Высокие стратеги – теоретики войны – Город брать не собирались, надеясь лишь крепко встать на позициях на Дону, но русские, сами того не зная, втянули своих противников в жестокие бои. Тактический успех сыграл злую шутку. Первый шаг к грандиозному волжскому фиаско был сделан.
В немецких штабах вняли победным реляциям, заразились ими и ненадолго задумались: «Заманчиво на плечах противника ворваться в Город. Потом можно круто свернуть на юг и увязать всю группировку отступающего Тимошенко в мешок. Гигантская ловушка!» И дали ответ: «Приказываем на берегу не сидеть, в Город вступить, производственные гиганты авиационного и вагоностроительного заводов вывести из строя. Заодно сровнять с землей вокзалы, электростанции, водокачки, мелкие фабрики и заводы».
На советской стороне было все наоборот. Летели неумолимые приказы: «Переправы отбить! Противника столкнуть в Дон! Вернуть утраченные позиции». К Городу подвозили крупные силы. Центральный вокзал пострадал от непрерывных налетов, и танки разгружали на окраинной станции Отрожка. От нее надо было ехать через всю левобережную часть Города, преодолевать одноименную с Городом речку, проезжать правобережный Город и еще волочиться через окраины к Дону. Танки шли ускоренно, колонны растягивались на дороге, машины теряли друг друга, ломались, прибывали разрозненными кучками, а не внушительной силой. С марша, без разведки и знания местности, шли в бой.
Суматохи добавило грандиозное нововведение – образовался новый фронт. Другое название, начальство, структура. Кто кому теперь подчиняется? Чей генерал главнее? Чьи приказы уже недействительны? Ничего не ясно. Где нынче противник? Где головной командный пункт? Куда везти приказы? На каких рубежах теперь идет бой?
Через Город двигались потоки беженцев, техники, скота. Город наводнили толпы отступающих солдат. Почему они не на передовой? У них новое начальство. А может, просто его нет, и они сами не знают, кому теперь подчинены. Час от часу нарастала сутолока, неразбериха, где-то панически назревала катастрофа.
Город давно не пытались тушить. Смог от пожаров висел который день, лучи солнца едва пробивали завесу копоти и гари, дышать было трудно. Водопровод не работал с первых дней бомбежки. У колодцев в частном секторе очереди не уменьшались. Вода уменьшала першение в горле, в ней да в сырых подвалах было спасение.
На улицах ревели перегретые моторы, закипевшим радиаторам тоже требовалась вода. Надрывное коровье мычание взывало к человеческой жалости. Куда тут до скотины? Люди не все пьют вдосталь. Лошади ломились через хлипкий штакетник палисадников, глодали молодую вишню, высасывая из веток влагу, трепали и грызли пустые ведра, хватали прохожих губами за одежду, просили воды.
Римма, сидевшая дома, вздрогнула от резкого автомобильного сигнала. Он еще раз отрывисто рявкнул, а потом долго не умолкал, разносясь по улице.
«Чего медлит мать? Когда же будем уходить? Она, видно, решила, что немец сюда не дойдет», – думала девушка.
В прихожей мать гремела посудой. За окном виднелось бледное небо, со стороны Малышева опять загрохотали пушки, совсем как минувшей ночью.
– Не сдаются наши, не пускают фашистов, – оживилась мать.
Римма, топая босыми пятками, вышла ей на помощь. Мать фасовала по мешкам крупы. Ночью магазины остались без охраны, с поврежденных бомбежками складов уже больше суток растаскивали продукты и промтовары. Вчера мать моталась к вокзалу и прикатила с соседями бочку сливочного масла. Его перетопили в тазу на костре, разделили между собой. Матери досталось полное ведро и двухлитровый чайник. Кое-кто из соседей тащил люстры и посуду, мелочи вроде патефонных иголок, мать – только продукты.
Беда с водой. Колонка на углу не работает вторые сутки, а колодец с нижней улицы опустел вчера под вечер. Соседский Ленька бегал к Холодильнику на Заставу, там еще можно кое-чем поживиться. Те, кто живут близко к Холодильнику, таскают в ведрах глыбы подтаявшего льда, до реки им далеко.
Римма взяла эмалированную кружку, стала пересыпать гречку из большого мешка в холщовые кульки. Вспоминала, как вчера вечером встретила одноклассницу Ольгу. Она и мать рванули из Города на свой страх и риск. Но пошли они не на восток, а к Дону, думая, что немец еще далеко. Перед мостом их встретила толпа военных вперемешку с мобилизованными для рытья окопов женщинами. От них Ольга и ее мать узнали: к Дону хода нет. На пути обратно в Город их подобрала какая-то полуторка. В кузове они успели сдружиться с одной мобилизованной – крепкой деревенской бабой Аниськой. Она звала Ольгину мать отправиться в эвакуацию, обещала приютить у себя на подворье, хоть и далековато до ее деревни, верст семьдесят, но дом обширный, места хватит. Когда их компания шла по горящему Городу, Аниська не смогла пройти мимо разваленного взрывом мануфактурного магазина. Домой к Ольгиной матери все три пришли с увесистыми рулонами, красные и запыхавшиеся.
Римма выглянула через окно веранды на улицу – в соседском дворе суетилась Аниська:
– Промухаем, бабы, отход. Шевелиться надо. Застанут нас тут, отрежут путя.
– Мы ж тебя не держим, Анисья, ступай с богом, – ответила мать Ольги.
– Да тебя ж, дуреху, жалко и девчонку твою. Иль под немцем, думаешь, жизнь сладкая?
– А ты б от своего порога пошла бы? Вот то-то. Знаю я вашу породу деревенскую, с нажитым добром никогда не расстанетесь. И мне нелегко дом оставлять.
По соседней улице проскрежетала пара бронированных машин. Мать вытряхнула остатки крупы в кастрюлю. У малышевской переправы стихала стрельба.
Заметка вторая
В правление последнего московского царя из рода Калиты, в год 1585 пришли на реку воеводы Сабуров с Биркиным, привели стрельцов и работных людей, срубили крепость. Земля эта издавна границу обозначила: правый высокий берег звался к тому времени Русским лесом, а левый, заливной, тающий в дымке, имел прозвище Ногайская сторона. В тревожном месте крепость поставили, до зарезу нужном. Тут тебе и ногайская орда кочует, и крымский разбойничий шлях, и литовское порубежье. Берег хоть и высок, а распадки имеет, по-местному – козыри. Козыри те плавные, водой отглаженные, травой устеленные, с пологими стенками, почитай каждый с родником ключевым, самая благодать для крымской конницы. На месте удобных татарских переправ выстроил Сабуров со товарищи бревенчатый деревянный острог, обуздал разбойничью тропу, перекрыл в этом месте работорговле дорогу.
Отмерил бог той крепости только пять зим. Служили в ней, помимо московских стрельцов, еще и нанятые казаки с днепровских берегов – черкасы. Майским вечером подскакал к стенам острога отряд казаков, присягнувших польскому королю. Стал выкликать своих земляков на стены для разговору. Долго толковали черкасы, не слезая с седел, что пришли-де к православному царю на службу, от своего еретика-короля отвернулись, хотят вместе с братьями по крови и по вере воевать поганого крымца. Мир между Литвой и Москвой уже восемь лет был, отряд казачий от гарнизона крепостного и четверти не имел. Поверили польским черкасам, впустили в крепость, угостили по совести. До поздней ночи сидели за хмельным столом гости и хозяева острога, вспоминали походы и родные места, распевали песни. Когда перепились и угомонились, один из пришлых тайком открыл ворота, давая путь притаившейся невдалеке шайке в шесть сотен сабель. Черкасы вырезали стрелецкое войско, казнили воеводу. Тех земляков, что хранили верность новому царю и схватились было за оружие, пустили под нож, остальных забрали с собою. Вынесли пищальный запас и всю казну, что для крымских послов была приготовлена, для откупа из рабской доли полоненных московских людей, а крепость спалили дотла.
Однако ж следующей весною взялись за топоры работные люди, и через четыре года рядом с пепелищем, на новом месте, сверкала непотемневшим деревом крепость – шире и мощней прежней. С башнями, с детинцем, с тайным лазом к реке.
7
В жиденькой, насквозь прозрачной рощице накапливались танки. Еще не совсем рассвело, и было неясно, сколько их там. Но, судя по грозному рыку моторов, казалось, что танков не меньше десятка. От танковой суеты, прибывшей роты подкрепления и суровых лиц однополчан прибавлялось уверенности, верилось, что деревню можно отбить, а там, случится, и мост снова нашим станет.
Не только прибывшие танки добавляли веры. Роман прожил в этом Городе немалый срок и долгое время считал его родным. А потом стал забывать о нем. Уехал в другой город, отучился в «ремеслухе», поступил на завод, поселился в общежитии, завел новых друзей. Почти не вспоминал дом дядьки, его ласковую жену, товарищей с улицы. Дядьке писал все реже, а последний год перед войной не отправил даже открытки к ноябрьским праздникам. Занятой шибко был. Лучше позабыть бы ему те события, что привели его в дом дядьки.