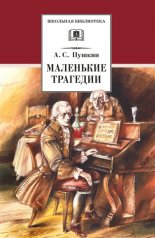Расплавленный рубеж Калашников Михаил
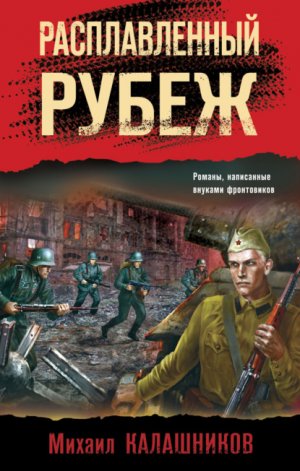
Роман жил с матерью в переполненном бараке, отца не видел ни разу. В необъятной стране еще остались поселки, куда, кажется, не заглядывала советская власть с ее комитетами, товарищескими судами, высоконравственными партийными работниками, следившими за чистотой поведения и безупречностью нравов. К матери приходили хахали, шумно пили, ревели каторжанские песни. За тонкими перегородками было все то же самое. В бараке по ночам было шумно от мата и драк. «Каждый вечер крик, каждый вечер стон, и опять плевок в сторону икон», – написал соседский Олег куском угля на стене дровяного сарая. Некоторые называли Олега поэтом-самородком, другие презирали и колотили где придется. А наутро на стене появлялись новые мрачные вирши: «Как мне любить свою невзрачную родню, что божью искру разменяла на херню».
Мать выгоняла Ромку на мороз, тот по полночи бегал вокруг барака, скулил от холода, слезы замерзали на щеках и царапались. Он давно привык к материнской ругани, знал, что «лучше б она его не рожала, падленыша мелкого, лучше б вытравила».
В тот вечер мать разругалась с очередным пришельцем. Он сильно побил ее, и она бежала за ним в одной нижней сорочке, утирая подолом кровь, умоляла не уходить. Ромка, обрадованный тем, что не надо больше мерзнуть, проскочил в барак, завалился в едва согретую постель и моментально уснул. Вскоре мать вернулась…
Роман хватал посиневшими губами воздух, его глотку сдавили пальцы матери, он не мог понять: снится ли это ему или мать вправду может так делать. Мать давила и хрипела: «Соб-ственны-ми руками… отмучаюсь… и все». Ромка все же слабо крикнул, из-за перегородки подоспели пьяные соседи. Сам он этого не помнил.
Ромку отправили в детдом. Что с матерью – так и не сказали, может быть, посадили. На новом месте было лучше, если бы не зародившийся недуг. Редкую ночь Ромка не кричал во сне. Стонал, хрипел, задыхался. Мальчишки с соседних коек остервенело лупили его, но и от побоев он не сразу просыпался, еще долго его сотрясали конвульсии, на губах выступала пена. Хотели отправлять в интернат для дефективных, но нашелся добрый воспитатель, написал какие-то письма, отыскал Ромкиного дядьку, уговорил руководство детдома повременить с отправкой в интернат. Дядька приехал, Ромка покорно пошел за ним, ни во что хорошее не веря.
Тихий Город очаровал его. Лето здесь настоящее, с жарой, теплой речкой, ласковым песком. На деревьях растет такое! Соседи поругиваются, да разве сравнить с барачной грызней? Дядькина жена с первого дня улыбнулась, правила проживания объяснила доходчиво: где моется, как чистится, как говорится. Стряпня у нее после детдомовской была отменной…
С кошмарами стало полегче, но полностью они не исчезли. Дядькина жена забиралась в его кровать, гладила по голове, прижимала к теплой груди, что-то шептала. Роман просыпался, ждал, когда тетка уйдет, мерно дышал, изображая сон, и, когда она уходила, облегченно вздыхал.
Выходной дядька чаще всего тратил на домино или пивнушку, но случалось, они с Ромкой шли куда-то гулять. Всегда за город, вдоль реки. В одной прибрежной роще они наткнулись на искалеченное дерево. Несколько лет назад кто-то накинул на ствол железный трос, пытался его повалить. Трос оборвался и с годами врос в дерево. Оно накренилось, с одного боку обнажился корень. Ветви были слабыми и листва жухлой, вся сила ушла на борьбу с тросом. Дядька провел рукой по шершавой коре:
– Глянь, оно живет. Издалека не отличить его от других.
Ромка смотрел на прогрызенный стальным тросом участок дерева. В душе что-то нервно клокотало, подкатывала тошнота. На другой день он отыскал в сарае молоток и зубило, пришел с ними к дереву. Многожильный трос не поддавался. Как дерево устояло, перебороло его? Зубило по крупицам распарывало волокна троса, руки ломило от работы. Ромка не жалел себя, твердил, мысленно повторяя: «Ему было еще больнее, а оно не сдалось, победило». Под конец зубило стало уходить в мягкую древесную породу, но срезать удавку надо было полностью. Перерубленная петля ослабла, однако не отпала. Дерево вживило удавку в себя, не в силах сразу отторгнуть.
Роман помнил все это до тех пор, пока его мучили по ночам кошмары. Потом память сгладила воспоминания, и уютный дядькин дом стал казаться обыденным. Фронтовая судьба закинула Романа сюда неспроста. Он понял это сегодня на рассвете, когда всмотрелся в рощу, где теперь ревут танки. Она похожа на ту, и, случись минутка затишья, Роман поищет передавленное тросом дерево, пока рощу не разнесли в щепки. Он найдет дядькин дом и уже никогда не потеряет связи с ним. Даже война не помешает ему, и, если дядька выехал из Города, отправившись в эвакуацию, Роман все равно будет искать его. А когда они встретятся, возможно, Роман не будет винить себя за редкие письма дядьке и его жене, за годы, что не появлялся в приютившем его доме.
Роман торопливо собирал «светку». Все в ее механизме смазано, все плавно ходит и становится на свои места. Все-таки капризная она штука. Не дай бог заест или откажет. Лямзин, если увидит, с потрохами слямзает.
Танки в рощице зашевелились. Забегали взводные, подавая команды. Роман дернул затвором, спустил курок. Все работало.
Малыш Вилли вытряхнул песок из каски, застегнул ремешок у подбородка. Под подошвой его новенького трофейного сапога звенели желтобокие гильзы с окатанными головками. Пули из этих гильз вчера вечером летели, метясь в сердце Малыша. Сейчас он добавит к советским гильзам своих, свеженьких, хочется верить, что не все его пули улетят впустую. День сегодня будет жаркий: самое утро, а уже так смалит. Ствол еще не стрелял, но раскалился на солнце.
Из-за увала выросла высокая башня, пушка ее тут же выстрелила, даже не целясь. Снаряд прошуршал над окопами, утонул в саду между двух сарайчиков. По высунувшейся башне разом ответила пара немецких самоходок, из зарослей сада заговорила замаскированная батарея. Слева и справа от гигантской башни выскочили танки порезвее, заюлили вниз по склону. В десятке метров перед глазами Вилли рванул раскаленный песок. Он отшатнулся, с головой ушел на дно ячейки. По лицу успело больно стегануть. Вилли ошарашенно ощупал его, облапил вспотевшую шею, посмотрел на руки – крови на ладонях не было. Ударила волна, состоявшая из перегоревшего выстрела и песка.
Роман видел танковые сопла с голубоватыми струями дизельного выхлопа, бежавшие и перемалывающие песок гусеницы, но танк не казался прикрытием. Наоборот, в него метили невидимые немецкие пушки, бившие из садов. Один снаряд упал близко, по броне звякнули осколки. Второй резанул в башню, рикошетом ушел в сторону по косой броне. Танк замер.
Командира контузило? Не стоять! Только не стоять на месте!
Роман кинулся в сторону, свалился в промоину, заросшую колючими волчками. Он заметил редкие вспышки в ячейках. Вон в той он сидел еще вчера вечером, теперь там другой хозяин. Заглушить его, задавить! «Светка» часто плевалась отстрелянными гильзами.
Застывший танк вконец обездвижили – разули правый трак, саданули в лоб, в бочину, чтоб наверняка. Еще раз проверили на крепость башню – опять рикошет. Подбитый богатырь жирно зачадил. В подбрюшье танка откинулся люк, оттуда выпал человеческий обрубок. Под ним густо сворачивался песок от напитавшей его крови. Танкист отполз метра на два, схватил замасленной рукой полную пригоршню песка, крупинки посыпались меж сведенных агонией пальцев.
Уцелевшие танки уходили. Роман вырвался с погибшим танком вперед, рядом никого не осталось, момент отхода был упущен. В ячейках у немцев снова проснулись стволы. Романа заметили, пулеметная строчка не случайно легла рядом. Чад от танка стелился над землей и спасительным коридором тянул к себе. Роман влетел в полоску дыма, забежал за корму танка.
Со стороны врага началось движение. Роман в страхе и отчаянии сжал оружие.
Они сейчас пойдут… Отбили нас и покатятся следом… Выбегать из-за танка не резон, сразу срежут. Была не была!
Роман залез под днище танка, ухватился за испачканный кровью и машинным маслом край люка, пролез внутрь. Внутри стоял угарный дым, Роман закашлялся, развернул лицо к открытому люку. Под ним лужей растеклась загустелая кровь. Роман держал лицо вровень со срезом люка и пытался успокоить дыхание, сдавленно и нервно кашляя. По бокам от подбитой машины прошли два танка. Кто-то громко сам с собою переговаривался на чужом языке, после каждой фразы коротко постреливал из автомата.
8
Стояла круглая афишная тумба с проломанным боком, в осколочных отметинах, но сохранившая лохмотья старых, еще довоенных афиш.
Странно было видеть полинялые буквы, читать: «Драматический театр… Оперная труппа… Гастроли… Смотр…»
Юрий Гончаров. Целую ваши руки
Этот район Чижовки славился своими старожилами и историями. С малых лет Римма знала, что подворье Украинцевых, живших теперь на углу, раньше, при царе, занимало весь нынешний квартал в десяток дворов. Было на этом подворье и производство какое-то, и службы, и каретник с сараями, и погреба с ледниками, и господский дом. А сами Украинцевы – потомки того самого Украинцева, что по приказу Петра ходил на корабле в Константинополь и подписывал с султаном мир после Азовских походов.
У самой Риммы родословная непростая. Далекий пращур ее был лоцманом в новорожденном флоте великого царя. Тут на улице у кого ни спроси – все потомки не шкипера петровского, так литейщика. Никто не хочет быть потомком простого плотника или стрельца.
Римма любила все эти истории, они для нее не были легендами. Что с того, что царь Петр жил давно? А вот карета его до сих пор сохранилась, стоит в бывшем Успенском храме. Там теперь что-то вроде музея сделали. Карета красивучая! Блестит вся, как из золота! И женская в ней душа. Римма думает, что царь на такой не ездил, зазорно ему стало бы. Скорее это Екатерина в дар Городу оставила, когда из Крыма возвращалась. Карета стоит в отдельной комнате или, как старики говорят, «притворе», бархатной лентой отгороженная, – трогать ее нельзя: позолота с кареты осыпается, так «музейная» дама пояснила.
В церкви той бывшей еще много чего интересного: всякие предметы старины и оружие, документы старинные, архив вроде. А еще в одном храме дворец атеизма устроили. На стенах фрески замазывать не стали, завесили их плакатами: картой звездного неба, движения Солнца и планет, эволюции животных. У основания купольного барабана по кругу висели огромные портреты Маркса, Коперника, Бруно и Галилея. Из-за их подрамников робко выглядывали потускневшие нимбы Марка, Матфея, Иоанна и Луки.
В бывших монастырях устроили общежития, в церквях – гаражи, столярки, учебные центры заводов. На весь Город одна действующая церковь осталась, но и она успела побывать швейным цехом. С началом войны верующие ее отбили у горкома, написали бумагу, что за победу будут молиться. Вон ее купол проломленный, из двора Риммы видать. В Городе мало что уцелело, церквям тоже досталось.
По небу ползло бесконечное удушливое облако. Город пылал одновременно во многих местах. Сколько с неба упало на крыши и головы огня? Снова в небе загудели моторы, от ВОГРЭС захлопали зенитки.
В соседском дворе всхлипнула гармошка – старик Громов опять взялся за нее. Вчера он весь вечер ругался с соседками:
– Брысь, бабий батальон! Не желаю в подвале хорониться, не испугает фриц меня! Поперек судьбы ему стану, не убоюсь!
Он установил посреди двора табурет, растягивая гармошку, пел похабные частушки. Мать, сидя на дне погреба, затыкала Римме уши, но она бы и так ничего не услышала: на улице все гремело от взрывов, лишь изредка доносились всхлипы гармошки.
Громыхнуло на Стрелецкой, а может, и ближе. Римма выскочила на улицу, мать уже бежала из сада, неся бидон собранной вишни. За забором раздавалась разухабистая песня:
- Приходи ко мне, Митроня! Мой кобель тебя не троня!
Дальше Римма не услышала, земля задрожала под ногами. В Чижовке взметнулись горы земли, строительного мусора, заполыхали новые пожары. Затряслись Чижовские бугры, казалось, вот они обрушатся, и весь поселок сползет под уклон, потонет в речке.
Как и вчера, в погребе ютились Ольга с матерью, Аниська и еще две соседские семьи. Римма подхватила с пола пятилетнего пацаненка, сама села на его место, прижала малыша к себе. Бомбовозы ушли к центру, к вокзалам. Сквозь закрытую крышку люка остервенело звучала песня:
- Хорошо, едрена мать! Только меру надо знать!
– Вот чертов грех, а? Не боится! – с плохо скрытым восторгом костерила гармониста Аниська.
Над Чижовкой началась вторая волна бомбежки. Грохнуло совсем близко, крышку подпола приподняла горячая волна. Дети отчаянно закричали, не удержалась и Римма. Через секунду, закусив губу, она кляла себя: «Не стыдно, дуреха? Четырнадцать лет, как-никак. Комсомольский возраст, а ты…»
Череда взрывов уходила вслед за первой волной. Аниська шикнула:
– Тихо!.. Что-т черта нашего не слышно… Не убило ль?
– Сиди пока, – прикрикнула на нее мать Ольги.
Третьей волны не было, Чижовка стихала. Люди полезли из подвала на свет. Взрослые кинулись во двор непокорного соседа. Римма увидела из-за спин женщин его целое, но недвижимое тело, успела заметить, что в гармошке продраны яркие меха. Когда стягивали с груди покойника гармошечные ремни, инструмент раненно хрипнул. Римма собрала в охапку детвору, оттолкнула подальше от мертвеца, отворачивая от него головенки любопытных детей. Вспомнила, как в прошлом году покойник-сосед двадцать третьего числа июня месяца, надев пиджак с двумя царскими наградами, пошел в военкомат, как вернулся в тот день разгневанный и пьяный и кричал на всю улицу: «Я не порченый, я пригодный еще! Старость не помеха. Старого не жалко на распыл пускать! Меня пустите – молодого оставьте, пусть подрастает. Я войну видел!»
Когда неделю назад через Город пошли прочь от фронта первые воинские колонны, сосед ворчал, едва себя сдерживая: «Дезертиры… овечьи души. Я в семнадцатом таких толпами назад поворачивал, в окопы вертал». Сосед гордился прошлой службой, подвыпившим собирал соседских подростков, говорил им: «Мужик – он от рождения воин, потому как с копьем рождается. Там, где у бабы впадина, – у мужика пика драгунская. Мужику два штыка дадено: один – пробовать, где у немца слабо, второй – искать, где у немки крепко. Я в драгунах шесть лет служил, из них три года на фронте был. Я и нынче еще воевать способный».
Аниська отыскала в соседском дворе лопату, стала копать в тени старой груши могилу. Остальные женщины суетились рядом, кто-то предлагал обмыть покойника, обрядить в чистое белье и костюм. Кто-то ответил, что все равно покойника класть в землю без гроба, а значит, и обряд не нужен, да и возиться некогда: от погреба далеко не уйдешь, опять налет начнется.
Жаркое солнце застыло в зените. Градусов сорок сегодня или около того.
9
Полк НКВД уходил от семилукских мостов через Город. Андрей знал, что где-то на южных окраинах воюют их коллеги, солдаты внутренних войск. Здесь же, в самом Городе, оба вокзала, пригородные станции и три моста охранял комендантский полк. Андрей служил в нем, их будут отводить в последнюю очередь.
За Чернавским мостом и мостом на ВОГРЭС дежурят два отделения из его полка. Там ловят отступающих, формируют из этих бродяг сводные отряды. Многие артачатся, говорят, будто ищут свои подразделения, пытаются обойти заградотряды по речной пойме, кому удается – бегут дальше.
Город обречен, это ясно, удерживать его не будут. На центральном вокзале пути исковерканы, ни одного целого рельса. Связь отсутствует. Только пакеты передают с посыльными. Ближе к полудню на КП ушел вестовой ротного – и ни слуху ни духу о нем. Андрея назначили вестовым. Дважды солдат бегал к центральному пункту. Он вырыт до войны в отвесном склоне оврага. Под землей целый город с узлами связи, катакомбами, затянутыми в бетон, и массивными железными дверьми. Там кутерьма, идет эвакуация, вывоз документации. До пакетов, что приносит Андрей, никому нет дела.
Город менялся на глазах. Андрей бежал на КП в первый раз и помнил эту серую коробку с еще целой шахтой лифта. Теперь здание развалено на куски. Обломки загородили улицу, перелезть ее – что в цементе искупаться, чихаешь потом как проклятый. Дальше перекресток, тоже заваленный хламом. Потом громадина с куполом, но не церковь. И ее теперь не узнать: купола как не бывало. Вся изнанка наружу, лестницы обнажились. На пьедестале у ступеней – гипсовая фигурка. Горн отколот, рука тоже, головы не осталось. Вместо нее – железная петля каркаса.
Мимо бежали жители, торопились к мосту. На рельсе противотанкового ежа покачивался дамский ридикюль на витом ремешке, лакированный бок его покрывал слой пыли и отпечатки тонких пальцев. Через дорогу от дома с проломанным куполом развесили искалеченные ветки деревья в парке. Посреди него – грозный монумент в старинном камзоле. Одной рукой человек опирался на трезубый якорь, другой, выставив палец с перстнем, властно указывал на запад. Бронзовое лицо с откинутыми ветром волосами выражало раньше волю и настойчивость, теперь, припорошенное кирпичной пылью, казалось, готово было кричать.
Женская пожарная команда помогала зенитчицам стащить разобранные пулеметы и станки от них, ворчала на девушек в зеленой форме. Катился через завалы грузовик, натужно гудел мотором. Внутри двора на бельевой веревке что-то трепыхалось, красное и аккуратное. Андрей пригляделся и различил детскую одежку – байковый комбинезон с капюшоном.
Свист, как и раньше, раздался внезапно. Дунуло горячей противной смесью пороха, тола, крови, йода, спирта, больничных палат. Рядом громыхнуло, в доме с обнаженной лестницей. Андрей рухнул, сверху его накрыло строительной пылью, в поясницу угодил крупный булыжник. Среди шума разрывов слышался девичий крик. Так по-дурному кричат не от раны, скорее с испугу.
Андрей поднял от дороги лицо, за пылью и дымом ничего видно не было. В груде рассыпанных учебников лежал слепленный детской рукой картонный самолет. Он подпрыгивал в дрожавшем воздухе, покачивал крыльями, лишенными опознавательных знаков. Над головой Андрея пронесся стальной собрат картонной модели. Опять грохнуло, и забарабанил по зданиям металл. Андрей невольно завыл и с размаху врезал кулаком по беспомощной детской игрушке. Бумажный фюзеляж лопнул, из него выпали стружки, обрезки картона, сгустки канцелярского клея и прочие внутренности. На тыльной стороне крыла Андрей разглядел надпись химическим карандашом: «Поздеев Митя». От корявых детских букв стало страшно.
В небе еще звучало эхо бомбежки, Андрея кто-то тряс за плечо. Он оторвал лицо от локтевого сгиба, посмотрел на руку, тормошившую его. Тонкие женские пальцы в ссадинах, сквозь пыльную поволоку – лицо, охваченное ремешком каски, тревожные глаза под низко надвинутым козырьком шлема.
– Живой, не раненый?
– Кирпичом стукнуло, но живой, – не сразу выдавил Андрей.
– Уверен? Может, давай проверю?
Это была зенитчица, из той команды, что грузила на машину пулеметы. Проворными руками она заводила по спине, ощупала ноги.
– Нормально, цел вроде, – Андрей торопливо встал, отряхивая форму.
Девушка подняла его пилотку, выбила об ладонь, примерившись, опустила ему на голову. Даже слегка улыбнулась. Андрей подумал: «Могла бы и в руки отдать, зачем так-то?», – а вслух спросил:
– Как звать?
– Для чего тебе?
– Хочу знать, какое имя у моей спасительницы.
– Не шути, солдат, я тебя не спасала.
– Что, тебе жалко имя назвать?
Девушка не успела ответить, из подъезда ее позвали:
– Ада! Живее давай! Грузиться ж надо. – Она посмотрела в сторону кричавших, махнула рукой «сейчас приду».
– А полное имя как? – допытывал Андрей.
– Адель.
– О, да мы с тобой почти тезки.
– Тезки? – услышала Ада незнакомое слово.
Андрей назвался.
– Тезки, понимаешь? Андрей – Адель, имена звучат одинаково.
– А, ты мой именник? Ну Анджей и Адель, кажется, далеко.
– Не придирайся, – примирительно сказал солдат и, махнув рукой, протянул ладонь. – Спасибо за выручку и прощай, тезка.
Она, чуть стесняясь, протянула ему свою загрубевшую за этот год ладонь.
«Эх, видел бы ты меня студенткой, Анджей! А ногти, Иисус-Мария! Куда спрятать эти чудовищные ногти?» – промелькнула в голове у девушки мысль.
Он не посмотрел на ее руку, он искал в ее лице прощальную улыбку.
Сапоги снова спотыкались о битый кирпич, скользили на мелкой крошке. Андрей вспомнил Галю. Она осталась в Москве, если ее не эвакуировали. Быть может, окончила второй курс. Последнее письмо пришло в ноябре, тогда она писала, что институт вывозить не будут, но много воды утекло с тех пор. Давно не пишет. Может, институт-таки эвакуировали или она бросила учебу и ушла на завод? Или вон как Адель – в армию. Мать тоже ничего о ней не говорила. Она, вероятно, знала что-то о Гале, но помалкивала. А Андрей ничего не спросил у матери про бывшую любовь, он думал только о брате.
Поздней весной мать приезжала к Андрею в госпиталь. Он долечивал пневмонию, но свидания ему уже разрешали. Мать говорила о поменявшейся Москве, карточках, дефиците, налетах, часах, проведенных в приспособленном под бомбоубежище метро, ночевках на жестких деревянных поддонах, уложенных на рельсы. Андрей слушал, но не сопереживал. Он видел, как живут в других местах, видел освобожденное Подмосковье. Мать понизила голос и заговорила о брате. Андрей хотел резко прервать ее, но сдержался. Он ничего не желал слышать о нем. Никакая война не могла примирить их. Это по его, брата, вине у Андрея испорчена анкета и он не смог поступить в военное училище, это по его вине в доме часто недоставало денег и Андрей постоянно ходил в обносках. Наконец, это его вина, что так рано ушел отец. Но отец же был виной тому, что брат стал таким.
Брат был первенцем, отцовым любимцем. Брата забаловали. У них с Андреем была разница в четыре года. В детстве Андрей многое не замечал, позже стал понимать, чего не стоит повторять за братом, как избежать неприятностей. Дома внутри глобуса, который разбирался на две части по линии экватора, Андрей случайно нашел тайник: несколько сигарет россыпью, какие-то снимки с вульгарными девицами, блокнот, исписанный жаргонными словечками и неприличными куплетами. Он долго думал, выдать ли этот «схрон» родителям, но все же не сказал.
Позже Андрей стал примечать ошибки родителей. Проделки брата сходили ему с рук, Андрею казалось, что брата слишком слабо наказывают и потому он повторяет их опять и опять. Очень редко Андрей даже бывал благодарен брату, ведь на его дурных примерах он учился и уберег себя от многих неприятностей, а не будь брата, шишки пришлось бы набивать самому.
Брат же продолжал наслаждаться своим танцем на граблях. Скоро от мелкой домашней пакости брат пошел играть по-крупному. Связался с компанией, из дома стали пропадать вещи. Один раз вытащил премию матери и всю ее просадил с дружками за один вечер.
Родители кричали, разорялись, уговаривали брата измениться, но дальше этого не шло. Когда шайка брата попалась на краже, отец напряг все связи, и брат отделался условным сроком. Эта судимость не позволила Андрею стать военным. Брат не изменился, жил как и прежде. Перед самой войной отец не перенес очередного скандала. Его увезли из квартиры на «скорой», а вернули в дом на катафалке.
Войну Андрей встретил чуть ли не с восторгом. Не с тем восторгом, с каким его друзья-однокурсники маршировали по улицам и победно пели: «Если завтра война, если завтра в поход». Нет, он не ходил и не пел, но чувствовал, что война расставит все по своим местам. Для Андрея открывалась возможность, попав на фронт, стать офицером. Он покинул институт добровольно. Остатки отцовых связей помогли устроиться в элитные войска. Брат попал в маршевую колонну и с ранней осени числился пропавшим без вести.
Андрей знал, что непорядочно так думать и чувствовать, но не мог скрыть в душе облегчения оттого, что брат пропал без вести. Что было бы с матерью, останься она один на один с братом? А если бы он вернулся инвалидом? Мать бы ушла вслед за отцом. И не погиб ведь он официально. Она его не хоронит, надеется на лучшее.
Мать приехала в госпиталь. Таинственно заговорила о пропавшем брате. Перешла на шепот. В апреле ей принесли на квартиру письмо. Не солдатский треугольник, не гражданский конверт с марками и штампами. Заклеенный от руки листок бумаги. Мать, таясь, сунула его под простыню Андрею, сказала, чтобы прочел, когда она уедет, а потом пусть поступает как хочет. Копию письма она оставила себе. Еще добавила самое интересное: письмо принес поздно вечером перед самым комендантским часом иностранец, сказал, что выполняет просьбу друга, работает в Москве корреспондентом, письмо ему передали в английском посольстве.
Мать уехала, оставив кулек со скудными гостинцами военной эпохи. Андрей до вечера лежал в ожидании, таинственное письмо сквозь простыню жгло бок. Вечером, дождавшись отбоя, Андрей прошел в уборную, накинул крючок на дверь, встал под тусклой лампочкой.
Письмо было написано почерком брата. Он писал, что попал в плен целым и невредимым, угодил в котел. Три месяца просидел за колючей проволокой. Ужасы и страсти подробно не описывал, но говорил, что прожил бы мало в этом лагере, если бы не череда удач. В середине зимы из лагеря его забрал к себе в поместье пожилой заместитель коменданта. Сказал через переводчика, что в прошлую войну у него трудился русский пленный с точно такой же фамилией, был отменным скотником, любил животных. Брат не стал отвечать, что видел животных только на картинке и в зверинце, покорно пошел вслед за новым хозяином. Фамилия спасла жизнь, и это было первой удачей.
В поместье нового раба кинули на легкую работу, дали время подкормиться. Скорее всего, он недолго бы пробыл там, но снова улыбнулась удача. Поместье насчитывало дюжину рабов. Тут был интернационал: двое сербов, двое поляков, один француз и семеро советских. Побег они готовили уже месяц. Ждали случая, на днях он должен был подвернуться. Старик-помещик с семьей выезжал в столицу на празднование Дня основания рейха. Поместье наполовину опустеет, охрана наверняка тоже подгуляет, бдительность будет не той. Побег прошел по задуманному сценарию. В пути брату признались, что поначалу не хотели брать «новичка» с собой. Был он непроверенный, мог выдать их планы. Потом поняли, что если оставят, то весь хозяйский гнев обрушат на него.
Третьей удачей был незаметный поход в сотню километров через немецкую землю к Франции. Четвертой – переход границы с республикой Виши. Тут пара французов-военнопленных взяла все трудности на себя. Еду воровать уже не приходилось, крестьяне пускали ночевать в сараи и подполы, сытно кормили, делились теплыми вещами. К исходу второго месяца скитаний удалось выйти на Сопротивление. Французы русских уважают, говорят: «Вы единственные не побоялись драки с Гитлером». В отряде, кроме брата, были еще русские. Один рассказывал, что работал на шахте, травмировал руку и попал из лагерного лазарета во французский гражданский госпиталь. Там соседи по палате несли ему ночами, таясь от охраны, еду и вино, клялись в преданности, хвалили Сталина.
Отряд был крупный по местным меркам, человек в полста. К ним даже прилетал корреспондент с Большой земли славить в британской прессе братьев по оружию. Через этого журналиста брат и передал письмо на континент, а оттуда, морем или воздухом, брат надеялся, что оно попадет в Москву. Во всяком случае, так обещал брату корреспондент, с которым они болтали через двух переводчиков (англо-французского и франко-русского). Брат верил, что эти строки прочитает мать или Андрей.
В письме он признавался, что верит если не в Бога, то в судьбу. Во что-то высшее, что спасло его, что помогает жить и бороться. Еще брат надеялся, что когда-нибудь скажет им, что уже не будет прежним. Но не в письме он это им скажет, а при встрече. Ведь она обязательно будет.
Андрей теперь тоже надеялся на эту встречу. Он не верил, что путь, которым прошел брат, ничего не изменит.
Заметка третья
Разгорелась в Московском государстве Смута, присягнул Город первому Самозванцу, схватили служилые люди воеводу и окольничего, отправили в Путивль на суд новому, еще не коронованному «царю». Скоро Самозванец Мономахову шапку надел, стал планы далекие строить, на Крым серьезную войну затеял. Смута все пуще разгулялась, от края до края государство захватила. Черкасы польские теперь не только по окраинным землям сновали, а и на Москве сели и в прочих городах. Границы оборонять «не стало кому», хлынули из южных степей крымчаки. Брать штурмом Город они никогда не пытались, а лишь «приступали» – запирали гарнизон внутри стен, а сами хозяйничали в округе. Церкви во многих селах в те годы стояли в запустении от татарской войны.
Сменил Самозванца на троне временщик Шуйский, а второй Самозванец, что в Тушине правил, хотел в случае неудачи сюда бежать, на окраину, к донским берегам поближе, к казачеству под заслон. Сгинул от татарской руки второй Самозванец, войско его и казна с печатью атаману Заруцкому достались. Завертел смутный ветер нового претендента на царство. Вместе с ним и «царица законная» – лебедь белая Маринка, на московский престол венчанная, вертелась-скиталась.
Малая южная крепость тем часом приглашенному на Московское царство королевичу Владиславу не присягнула, держалась ополченческой стороны. В осень, когда перерезали и пленили шляхту в Кремле, бежал от Москвы лиходей Заруцкий с полюбовницей Маринкой да с выродком ее от второго Самозванца – Воренком. По пятам московская рать Заруцкого стерегла, а с Города порубежного навстречу другое войско вышло. В четырех верстах на север от крепости в урочище Русский Рог зажали казаков Заруцкого. Два дня сеча шла. Разбитый атаман бежал к Дону по Оскольской дороге и ускользнул дальше на юг, под Астрахань.
10
Роман слышал звуки боя. Гремели пушки за увалом, вкраплениями между взрывами трещала пулеметная частушка. Роман отличал оружие по звуку: отрывисто гавкал «дегтярь», частой строчкой выводил немецкий автомат. Лежа на животе, Роман высунул голову в люк, обернул ее в сторону отступившей красноармейской рати, напряг слух, пытаясь понять, чья берет. Кажется, там не собирались так просто откатиться к Городу. Битва шла уже не один час, даже солнце меж катков танковых угнездилось, к закату двигалось.