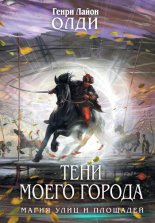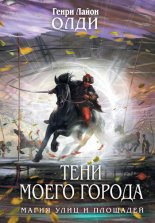Ацтек Дженнингс Гэри
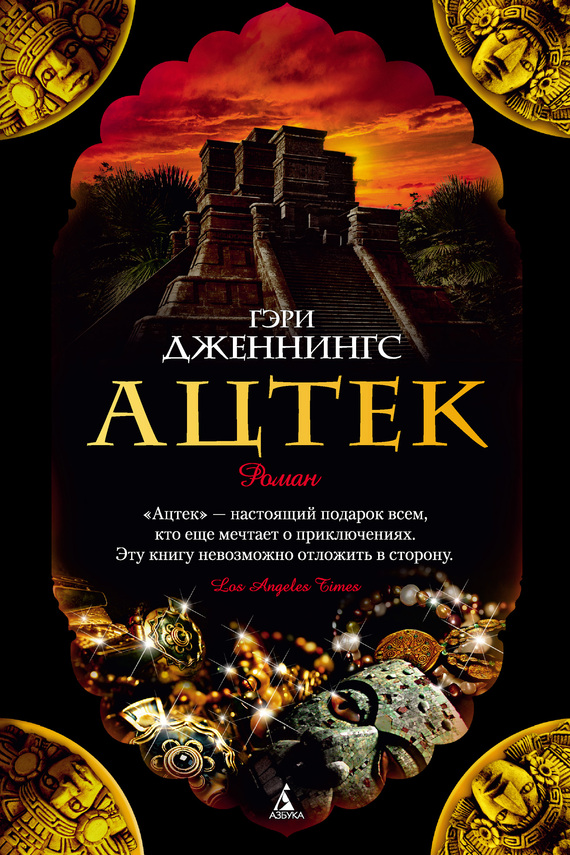
Столицей миштеков управлял не один человек, но двое, равных по могуществу. Их называли Тлакуафач – Владыка Высокого и Тлачиак – Владыка Низменного. Это подразумевало четкое разграничение духовной и мирской власти, но на деле это разграничение было не столь уж четким. Мне рассказывали, что вожди эти зачастую не ладили, а порой и откровенно враждовали между собой, но как раз тогда они, по крайней мере временно, объединились, затеяв какую-то мелкую распрю с Тлашкалой. Что послужило предметом того спора, я уж не помню, но вскоре в город прибыло специально отправленное для его разрешения посольство из четырех знатных тлашкалтеков.
Однако Владыка Высокого и Владыка Низменного не только отказались от переговоров и не приняли миссию, но и приказали дворцовой страже, изувечив посланников, вытолкать их из города древками копий. Четверым знатным тлашкалтекам ободрали с лиц кожу, после чего они, окровавленные и стенающие, побрели обратно. Лица их представляли собой сырое мясо, клочья кожи свисали на грудь, и, я полагаю, все мухи Чолулы последовали за ними из города на север. Я не сомневался, что за таким страшным оскорблением, скорее всего, последует война, а поскольку вовсе не горел желанием защищать чужой город, решил поспешно покинуть Чолулу. Путь мой лежал дальше, на восток.
Перейдя очередную невидимую границу, я оказался в стране тотонаков. Целые сутки я провел в деревушке, на постоялом дворе, из окон которого открывался вид на могучий вулкан под названием Килалтепетль, Звездная Гора. Мне доставляло немалое удовольствие с помощью топазового кристалла рассматривать из утопавшей в зелени деревеньки далекую заснеженную и окутанную облаками вершину.
Килалтепетль – самая высокая гора Сего Мира, настолько высокая, что всю ее верхнюю треть, за исключением того времени, когда происходят извержения и на склоны ее изливается багровая лава, покрывают вечные снега. Мне рассказывали, что когда испанские моряки подплывают к нашему берегу, то первым делом они видят издали снежную белизну вершины днем и красное ее свечение – ночью. Килалтепетль стара как мир, но и по сей день ни один человек, хоть местный житель, хоть испанец, не поднимался на ее вершину. А найдись такой смельчак, его, скорее всего, смели бы оттуда проплывающие над самой горной вершиной звезды.
Пройдя всю страну тотонаков, я вышел к побережью Восточного океана, к живописной бухте Чалчиуакуекан, что означает Место, Изобилующее Красотами. Я упоминаю об этом только в связи с одним маленьким совпадением, о котором мне, конечно, в ту пору ничего не могло быть известно. Прошли годы, опять наступила весна, и уже другие люди впервые увидели эту бухту. Они приплыли на корабле, сошли на берег, объявив его владением испанского короля, водрузили там деревянный крест и флаг цвета крови и золота и назвали это место Веракрус[24].
Здесь океанское побережье было гораздо красивее и приветливее, чем в Шоконочко. Пляжи покрывала не смесь черных осколков застывшей лавы, пыли и пепла, а настоящий мелкий песок белого, желтого и даже кораллово-розового цвета. Океан тут был не зелено-черным, стонущим и бурлящим, а прозрачным, светящимся бирюзовой голубизной, мягким и шепчущим. Он выбрасывал на берег лишь шелестящую пену белого прибоя, а дно его понижалось очень плавно: я мог забрести в воду так далеко, что берег скрывался из виду, а глубина между тем доходила мне всего лишь до пояса. Поначалу я думал, что иду почти прямо на юг, но, оказывается, побережье на самом деле изгибалось огромной дугой, и я сам не заметил, как свернул сначала на юго-восток, потом строго на восток и в конечном итоге отправился на северо-восток. Таким образом, как я уже упоминал ранее, океан, который мы в Теночтитлане называем Восточным, правильнее было бы именовать Северным.
Конечно, будь это побережье сплошной линией окаймленных пальмами пляжей, мне бы, наверное, поднадоела их однообразная красота, однако на долгом пути не раз попадались также и реки, настолько полноводные, что, для того чтобы переправиться на тот берег, приходилось дожидаться появления паромщика или рыбака на выдолбленном из древесного ствола каноэ. Кое-где сухой песок под моими ногами становился влажным, потом – мокрым, а там и вовсе сменялся кишащими насекомыми топями, где вместо приветливых пальм маячили сучковатые мангровые деревья, приподнимавшиеся над трясиной на узловатых, словно старческие ноги, корнях. Пройти через эти болота было невозможно. Так что мне приходилось либо разыскивать рыбачье суденышко, чтобы обогнуть заболоченный участок морем, либо, наоборот, делать огромный крюк, обходя опасный участок пути посуше.
Помнится, однажды ночью я здорово испугался. Мне пришлось в тот раз заночевать на краю болота, а какая уж на болоте растопка, так что костерок мне удалось разложить совсем плохонький, дававший очень мало света. И вдруг, подняв глаза, я увидел в темноте среди мангровых зарослей другой костер, гораздо более яркий. Только вот пламя его имело очень необычный цвет – голубой.
«Ксабай!» – сразу подумал я, поскольку слышал немало историй о призрачной женщине, блуждающей в этих краях, завернувшись в причудливое святящееся одеяние. Если верить этим рассказам, приблизившийся к Ксабай мужчина видит перед собой обворожительную женскую фигуру, на которую наброшена одна лишь только накидка с низко надвинутым капюшоном, скрывающим лицо. Он, естественно, старается ее поймать, а женщина кокетливо отступает до тех пор, пока не заманит беднягу в зыбучие пески, откуда выбраться невозможно. Пески засасывают обреченного, и в самый последний момент Ксабай наконец откидывает капюшон, открывая взору умирающего вместо лица злорадно ухмыляющийся череп.
С помощью кристалла я некоторое время наблюдал за этим мерцающим в отдалении голубым пламенем и, хотя по коже у меня бегали мурашки, в конце концов рассудил так: «Видно, пока она там маячит, мне все равно не уснуть, так почему бы не подойти и не попробовать разглядеть Ксабай получше? Зная об опасности, я наверняка сумею сдержаться и не забрести в зыбучие пески».
Держа наготове обсидиановый нож, я, пригнувшись, направился к тому месту, где переплетались деревья и ползучие растения, и нырнул в самую чащу. Голубой огонек призывно манил к себе. Прежде чем сделать шаг, мне приходилось пробовать почву перед собой ногой. К счастью, я лишь промок до колен да изорвал о сучья накидку, но не провалился в омут и не утонул в трясине. Самое удивительное, что чем ближе я подходил к таинственному огню, тем сильнее чувствовал какой-то мерзостный запах. Конечно, болото с его стоячей водой, гниющими растениями и заплесневевшими поганками отнюдь не источает нежные ароматы, но со стороны огня тянуло уж совершенно жуткой тухлятиной.
«Интересно, какой дурак станет преследовать даже самую красивую Ксабай, если она так смердит?» – подумал я, однако продолжил путь и в конце концов подобрался к источнику света. Так вот, то была вовсе не женщина и никакой не призрак, а странный костер без дыма – голубоватое пламя по пояс высотой, выходившее прямо из земли. Не знаю уж, кто его разжег, но, очевидно, огонь подпитывался ядовитым рудничным газом, просачивавшимся сквозь расщелину. Так вот откуда взялись рассказы про Ксабай!
Может быть, кто-то, идя на такой огонь, и сгинул в топях, но сам по себе он совершенно безвреден. Я так и не смог выяснить, почему зловонный воздух горит, а обычный – нет. Но впоследствии мне не раз попадалось это голубое пламя, и всегда от него пахло просто ужасно. Так вот, тогда я как следует осмотрелся, и мне удалось обнаружить еще одно вещество, столь же необычное, как и воспламеняющийся воздух. Возле факела Ксабай я ступил в какую-то липкую жижу и перепугался, подумав, что вляпался-таки в зыбучие пески. Однако лужа эта меня не затянула: я благополучно выбрался из нее и прихватил с собой пригоршню незнакомого вещества, чтобы рассмотреть его при свете костра.
Оно было черным, как окситль, получаемый нами из сосновой смолы, но гораздо более вязким. Когда я поднес ладонь поближе к огню, тягучая капля упала в костер: пламя стало ярче, и языки его взметнулись высоко. Довольный этим неожиданным открытием, я подкормил костер, вылив туда всю пригоршню, и он ярко горел всю ночь, не требуя дополнительно ни ветвей, ни щепок. С тех пор, если мне приходилось остановиться на ночлег вблизи болота, я отправлялся на поиски не сухого валежника, а сочившейся из земли черной грязи, которая всегда делала костер жарче, а свет его ярче, чем любое из масел, какими мы обычно заправляем светильники.
Это открытие я сделал на земле народа, который мешикатль называют ольмеками – по той простой причине, что большую часть оли получают именно от них. Сам этот народ подразделяется на различные племена – коацакоатли, коатликамак, капилко и другие, – но сходство между ними весьма велико. Каждый взрослый мужчина там ходит, ссутулившись под бременем своего имени, а все женщины и дети непрерывно жуют.
Вы удивлены, господа писцы? Сейчас поясню.
В этой стране ольмеков есть два удивительных дерева: если на их стволах сделать надрез, они сочатся соком, несколько затвердевающим на воздухе. Из первого дерева получают оли, который мы используем в жидком виде в качестве клея, а из затвердевшего оли изготавливают мячи для игры тлачтли. Сок другого дерева дает более мягкую, сладковатую на вкус жевательную смолу, известную под названием циктли. Кроме как на жвачку, эта смола ни на что не пригодна. Я имею в виду, что ее только жуют, а не едят, а когда циктли теряет свой аромат и упругость, выплевывают. И кладут в рот другой кусочек, чтобы снова и снова жевать. Причем в стране ольмеков этим занимаются только женщины и дети, для взрослых мужчин столь «женственная» привычка неприемлема. Но я благодарю богов за то, что эта привычка не распространилась в других местах, ибо она делает женщин племени ольмеков, во всех остальных отношениях вполне привлекательных, похожими на вялых, безмозглых, тупомордых ламантинов, беспрерывно жующих водоросли.
Мужчинам не положено жевать циктли, но они придумали себе другое развлечение, которое я нахожу не менее идиотским. Когда-то давно ольмеки начали носить таблички со своими именами. На груди каждого мужчины красовалась подвеска из того материала, который он мог себе позволить, от ракушек до золота, а на табличке были начертаны символы его имени, которые все могли прочесть. Таким образом два совершенно незнакомых человека, встретившись впервые, получали возможность обращаться друг к другу по именам. Небольшое, но все же удобство, к тому же побуждающее к вежливости.
Однако постепенно этот обычай все большее и больше усовершенствовался. На висюльке стали обозначать не только имя, но и профессию, занимаемое положение, ранг или титул, если человек служил или принадлежал к знати, ну а затем пришла очередь дополнительных табличек – с именами родителей, бабушек, дедушек и даже более отдаленных предков. Все эти таблички и символы, изготовленные из золота, серебра и других самых дорогих материалов, какие только мог себе позволить их владелец, дополнялись клубками перепутавшихся лент, указывавших на семейное положение, а также наличие или отсутствие детей и внуков. Но и этим дело не исчерпывалось: каждый ольмек вдобавок носил всевозможные знаки отличия, свидетельствовавшие о его участии в походах и о совершенных им воинских подвигах, с перечислением мест всех этих походов. Короче говоря, каждый взрослый ольмек был с ног до головы увешан всяческой мишурой, отображавшей его происхождение и весь жизненный путь. Бедняга сгибался в три погибели под тяжестью драгоценных металлов, самоцветов, перьев, лент, раковин и кораллов, таская на себе ответы на все возможные вопросы.
Однако, несмотря настоль причудливые обычаи, ольмеки отнюдь не дураки, способные лишь выдаивать сок из деревьев. Их справедливо почитают умелыми мастерами и знатоками искусств, унаследованных от славных предков. В разбросанных здесь и там покинутых древних городах ольмеков сохранились реликвии, до сих пор поражающие воображение. На меня особое впечатление произвели исполинские статуи, высеченные из застывшей лавы. Все они по шею или по подбородок вросли в землю, остались одни лишь головы со строгими, угрюмыми лицами, но и они свидетельствуют о высоком мастерстве скульпторов. На всех каменных головах красуются шлемы, очень похожие на головные уборы из кожи, которые наши игроки в тлачтли надевают для защиты. Мне кажется, гигантские статуи изображают богов, которые и подарили людям эту игру. Во всяком случае, это точно не люди, потому что любая из этих голов, не говоря уж о сокрытых под землей чудовищных телах, настолько огромна, что вряд ли уместится внутри человеческого жилища.
А еще в этом древнем городе сохранилось множество каменных фризов с высеченными на них обнаженными мужскими фигурами (порой совершенно обнаженными и... очень мужественными!). На всех изображениях нагие мужчины танцуют и пьют, из чего можно сделать вывод, что древние ольмеки любили повеселиться. Встречаются там и тщательно отделанные жадеитовые фигурки весьма изысканной формы, но тут трудно сказать, древние они или нет, ибо ольмеки унаследовали многие умения своих предков.
В местности под названием Капилько красиво раскинулась на длинной узкой косе, омываемой с одной стороны бледно-голубым океаном, а с другой – бледно-зеленой лагуной, столица ольмеков – город Шикаланко. Там мне довелось встретить кузнеца по имени Такстем, который изготовлял из олова удивительных птичек и рыбок: размером они были не больше фаланги пальца, причем каждое крохотное крылышко или чешуйка были попеременно отделаны золотом и серебром. Впоследствии я привез некоторые из его работ в Теночтитлан, и несколько предметов сохранилось до прихода испанцев. Так вот, ваши соотечественники пришли в восторг; они уверяли, что ни один золотых или серебряных дел мастер в их мире, который они называли Старым Светом, никогда не достигал подобного совершенства.
Я продолжил идти по побережью и обогнул полуостров, где жили майя, – Юлуумиль Кутц. Эту унылую местность я уже описал раньше, так что не буду повторяться. Скажу лишь, что там мне запомнились три города: Кампече на западном побережье, Тихоо – на северном, и Четумаль – на восточном.
К тому времени я странствовал уже более года, так что дальнейший маршрут выбрал с таким расчетом, чтобы потихоньку возвращаться домой. Из Четумаля я двинулся в глубь материка, строго на запад, собираясь пересечь полуостров. У меня имелся достаточный запас атоли, шоколада и прочих съестных припасов, а также некоторое количество воды. Как я уже говорил, местность эта засушливая, а климат там настолько скверный и непостоянный, что даже сезон дождей каждый год бывает в разное время. Мое путешествие пришлось на начало того месяца, который у вас называется июлем, а у майя, будучи восемнадцатым в их календаре, именуется камку, что значит «гремящий». Но не подумайте, что он приносит с собой ливни и грозы, просто земля высыхает настолько, что начинает с грохотом и шумом съеживаться и трескаться.
Наверное, то лето выдалось еще более знойным, чем обычно, потому что оно подарило мне удивительное и, как оказалось впоследствии, ценное открытие. Однажды я подошел к маленькому озерцу, которое, похоже, было наполнено той самой черной грязью, что так хорошо горела. Однако когда я бросил в озеро камень, он не погрузился в жидкость, а стал подпрыгивать на поверхности, как будто озеро было сделано из застывшего оли. Я нерешительно поставил ногу на черную поверхность и обнаружил, что она лишь слегка прогибается под тяжестью моего тела. Это был чапопотли – материал, подобный затвердевшей смоле, но только черный. В расплавленном виде им замазывали трещины в стенах, а еще он использовался для изготовления ярко горящих факелов и как водоотталкивающая краска, а также входил в состав различных целебных снадобий. Вещество было мне знакомо, но целое озеро, заполненное им, я увидел впервые в жизни.
Я расположился на берегу, чтобы перекусить и подумать, на что может сгодиться находка, и пока я там сидел, жар гремящего месяца (а надо сказать, что треск и грохот слышались почти беспрерывно) расколол и озеро чапопотли. Его поверхность во всех направлениях пошла тонкими, словно паутина, трещинами. Потом чапопотли стал дробиться на неровные, с зубчатыми краями черные глыбы, из-под которых через проломы и щели были видны непонятные коричнево-черные загогулины, возможно ветви и сучья давно погребенного дерева.
Я поздравил себя с тем, что не полез на середину озера: оно вполне могло изувечить меня, сотрясаясь в конвульсиях. Но когда я поел, любопытство все-таки пересилило осторожность. Теперь поверхность озера уже не представляла собой ровное гладкое поле, но была изрыта трещинами и усеяна искореженными обломками черной корки. Однако вроде бы все уже закончилось, признаков нового катаклизма не наблюдалось, а мне не терпелось как следует рассмотреть, что же изверглось наружу. Осторожно огибая черные глыбы и перешагивая через осколки, я подошел поближе и понял: то, что я издали принял за сучья, на самом деле было костями.
Они давно утратили свою первоначальную белизну, но особое сходство с ветвями деревьев им придавали огромные размеры. Я поневоле вспомнил рассказы о том, что некогда нашу землю населяли гиганты. Однако, присмотревшись как следует, я, хотя и смог различить ребро и бедренную кость, пришел к выводу, что этот остов принадлежал не человеку-великану, но некоему гигантскому чудовищу. Скорее всего, некогда, в незапамятные времена, когда чапопотли еще был жидким, чудовище забрело в это озеро, где его и засосала, словно трясина, вязкая жидкость, которая по прошествии веков затвердела.
Еще две обнаруженные мною кости (во всяком случае, мне поначалу показалось, что это кости) были просто невероятного размера: каждая длиной с меня и толщиной с одного конца с мое бедро. Круглые в сечении, обе они постепенно сужались до толщины большого пальца и оказались бы еще длиннее, будь они прямыми, а не изогнутыми, представлявшими собой как бы неполную спираль. Эти изогнутые штуковины насквозь пропитались чапопотли, в котором были погребены, и приобрели коричнево-черный цвет. Некоторое время я таращился на находки в растерянности, а потом опустился на колени и ножом поскреб поверхность одной из них, пока из-под темного слоя не проступила светящаяся полоска тускло-жемчужного цвета. Судя по всему, эти изогнутые «кости» представляли собой не что иное, как длинные искривленные зубы наподобие кабаньих клыков. Может, в ловушку угодил вепрь? Наверняка в эпоху гигантов и дикие свиньи были им под стать.
Я внимательно рассматривал неожиданную находку. Мне случалось видеть различные украшения, сделанные из зубов медведей и акул и из клыков обычных кабанов: они стоили столько же, сколько золотые изделия того же веса, но в качестве поделочного материала мелкие зубы не шли ни в какое сравнение с тем, что нашел я. Интересно, что смог бы изготовить из моей находки одаренный мастер вроде покойного Тлатли?
Местность вокруг была безлюдна, что и неудивительно: кто захочет жить на голой, лишенной растительности равнине? Так что на первую деревушку я набрел, лишь перебравшись в несколько более приветливую землю Капилько. Обитавшие в этом ничем не примечательном поселении ольмеки все поголовно занимались добычей смолы, но поскольку сейчас был не сезон, то они дружно бездельничали. Поэтому четверо самых крепких мужчин охотно согласились поработать у меня носильщиками. Запросили они немного, однако, узнав, куда я собираюсь их вести, впали в панику и едва не отказались. По их словам, Черное озеро было местом священным, опасным и, вообще, разумные люди держались от него подальше. Мне пришлось прибегнуть к проверенному средству борьбы с суевериями и страхами – увеличить плату. Когда мы добрались до места и я указал на бивни, носильщики подхватили их (каждый зуб тащили два человека) и поспешили убраться восвояси как можно скорее.
Я заставил их идти обратно через Капилько к берегу океана и вывел к столичному городу Шикаланко, где направился прямиком в мастерскую кузнеца Такстема. Когда носильщики, сгорбившись, шатаясь и опасно кренясь под весом моей находки, вошли наконец во двор, кузнец встретил нас без малейшего восторга.
– Зачем ты притащил сюда эти ветки? – удивленно спросил мастер. – Я не резчик по дереву.
Я рассказал ему о своей находке, добавив, что, по моему мнению, обнаружил редкий поделочный материал. Такстем дотронулся до того места, где я соскреб темный слой: я увидел, как рука его дрогнула и, задержавшись, стала любовно поглаживать диковинку. Глаза ремесленника заблестели.
Отпустив с благодарностью носильщиков, которым я заплатил чуть больше, чем обещал, я сказал мастеру Такстему, что хотел бы заказать ему работу по кости, но не очень представляю, что из этого материала может получиться.
– Мне нужны резные поделки, чтобы потом продать их в Теночтитлане. Какие именно – не знаю, так что полностью полагаюсь на твое мастерство. Распиливай эти зубы, как сочтешь нужным. Думаю, из крупных обрезков можно вырезать фигурки богов и богинь, которых чтут в Мешико, а те, что поменьше, пойдут на покуитль, гребни, украшенные орнаментами рукоятки кинжалов, в общем, что-нибудь в этом роде. Даже из самых крохотных кусочков можно изготовить что-нибудь – например, резные костяные палочки, какие некоторые племена вставляют в губу. Но смотри сам, мастер Такстем, я всецело полагаюсь на твой вкус и твое чутье.
– На своем веку мне еще не доводилось работать со столь удивительным материалом, – торжественным тоном произнес ремесленник. – Он, похоже, предоставляет творцу огромные возможности, но и требует высокого мастерства. Поэтому, прежде чем отделить первый фрагмент и опробовать, как он поведет себя при встрече с инструментами, мне нужно хорошенько подумать. – Он помолчал и чуть ли не с вызовом продолжил: – Вот что я тебе скажу, молодой господин Желтый Глаз: к своей работе я всегда предъявлял самые высокие требования, а уж такой удивительный материал вообще грех загубить. Так что имей в виду: это работа не на день и даже не на месяц.
– Конечно нет, – согласился я. – Скажи ты другое, я забрал бы свою добычу и ушел. Не спеши, работай, как считаешь нужным: я все равно пока не знаю, когда снова попаду в Шикаланко. Что же касается оплаты...
– Может быть, с мой стороны это глупо, но я счел бы самой высокой оплатой твое обещание поставить будущих покупателей этих вещей в известность, кто именно их изготовил.
– Я восхищаюсь твоей честностью и бескорыстием, мастер Такстем, но всякий труд должен быть оплачен. Если не хочешь сам называть цену, то я предлагаю тебе следующее: оставь себе двенадцатую часть веса – хоть готовых изделий, хоть необработанного сырья. По твоему выбору.
– Необычайно щедрая доля, – промолвил мастер, склоняя голову в знак согласия. – Даже будь я закоренелым рвачом, мне все равно не пришло бы в голову заломить такую цену.
– И не беспокойся, – добавил я, – покупатели для твоих работ будут отбираться так же тщательно, как ты отбираешь свои инструменты. Это будут люди, достойные твоих изделий, и я обязательно скажу каждому из них, что полюбившаяся ему вещь изготовлена мастером Такстемом из Шикаланко.
Хотя погода на полуострове Юлуумиль была сухой, в Капилько стоял сезон дождей – далеко не самое походящее время для того, чтобы пробираться через похожие на джунгли заросли Жарких Земель. Поэтому я предпочел держаться морского побережья и двигался прямо на запад, пока не добрался до узкого перешейка Теуантепека. Там, на самом перекрестке торговых путей, связывающих юг с севером, находился город Коацакоалькос, который вы теперь переименовали в Эспириту-Санту, или город Святого Духа. Я рассудил, что, поскольку перешеек не горист и не слишком зарос лесами, путь через него даже под дождем будет не таким уж трудным. Зато по ту сторону перешейка меня ждут гостеприимный постоялый двор и прелестная Джай Беле. Я остановлюсь у радушной хозяйки, хорошенько отдохну и прекрасно проведу время, а потом отправлюсь обратно в Теночтитлан.
Поэтому от Коацакоалькоса я пошел на юг – то сам по себе, то прибиваясь к караванам почтека или отдельным торговцам. Народу в обоих направлениях двигалось немало, но однажды я оказался в полном одиночестве на безлюдном участке дороги. Еще издали я заметил впереди, под раскидистым деревом, четверых оборванцев. Увидев меня, они поднялись на ноги и не спеша направились навстречу. Заподозрив, что передо мной разбойники, я положил руку на рукоять обсидианового ножа и продолжил путь. Убегать было поздно, и мне оставалось лишь надеяться, что это не грабители и мы разойдемся мирно.
Но четверо оборванцев даже не попытались выдать себя за безобидных путников, желающих разделить обед с таким же странником. Они окружили меня плотным кольцом, не скрывая своих намерений.
Когда я очнулся, то понял, что лежу совершенно раздетый на одном стеганом одеяле, а другое прикрывает мою наготу. Судя по всему, я находился в полупустой хижине, ничем не освещенной, если не считать дневного света, просачивавшегося сквозь щели в стенах. У моего ложа на коленях стоял средних лет мужчина, в котором я, услышав его первые слова, сразу угадал лекаря.
– Больной просыпается, – сказал он кому-то, находившемуся у него за спиной. – Это хорошо. Я уж боялся, что ему не очнуться.
– Значит, он будет жить? – спросил женский голос.
– Ну, по крайней мере теперь, когда больной пришел в себя, я могу начать лечить его. Парню повезло, что ты вовремя его обнаружила: еще чуть-чуть, и было бы поздно.
– Честно говоря, мы поначалу не хотели связываться: он выглядел ужасно. Но, присмотревшись, сквозь всю эту кровь и грязь узнали в нем Цаа Найацу.
Мне это имя показалось неправильным. Собственно говоря, в тот момент я почему-то не мог вспомнить, как именно меня зовут, но сомневался, что звуки моего имени могут быть столь мелодичными.
Голова моя просто раскалывалась от боли, а все тело представляло собой сплошную рану. Я почти ничего не помнил, однако уже достаточно пришел в себя, чтобы сообразить: мне так плохо не потому, что я болен; со мной произошло что-то другое. Очень хотелось спросить, где я нахожусь и как я сюда попал, но голос отказывался мне повиноваться.
– Уж не знаю, что это за грабители, – сказал целитель, обращаясь к женщине, которую я не мог видеть, – но они явно собирались его убить. И не окажись у парня на голове той плотной повязки, его череп раскололся бы, как тыква. Но и без того его мозг испытал сильнейшее сотрясение, отсюда и обильное кровотечение из носа. Вот сейчас, когда он открыл глаза, посмотри – один зрачок больше другого.
Девушка наклонилась через плечо врача и устремила взгляд на мое лицо. Как плохо я ни соображал, но все-таки заметил, что она очень красива и что в ее угольно-черных волосах выделяется зачесанная назад белая прядь. У меня возникло смутное ощущение, что я уже где-то видел эту прядь раньше, да и соломенная кровля над головой вдруг показалась мне необъяснимо знакомой.
– Зрачки действительно разные, – сказала девушка. – Это плохой признак?
– Именно так, – ответил лекарь. – Это признак того, что с головой у больного не все ладно. Так что мы должны заботиться не только о заживлении ран, но и о том, чтобы мозг его был избавлен от напряжения или возбуждения. Пусть лежит в тепле и в полумраке. Всякий раз, когда больной проснется, корми его бульоном и давай мое снадобье, но ни в коем случае не позволяй садиться и постарайся заставить его молчать.
«Вот уж глупость: запрещать мне говорить, когда у меня и так нет на это сил», – хотел было сказать я, но тут в хижине внезапно потемнело, и мне показалось, что я стремительно падаю в мрачную бездну.
Впоследствии я узнал, что пролежал там много дней и ночей, лишь изредка ненадолго приходя в сознание, по большей же части пребывая в беспамятстве – настолько глубоком, что у целителя были все основания опасаться за мою жизнь.
Самому мне запомнилось, что, когда я пробуждался, возле моей постели неизменно находилась девушка. Иногда был еще и целитель, но она – всегда. Девушка бережно вкладывала мне в рот ложку с теплым вкусным бульоном или с горьким лекарством, а порой мыла губкой те части моего тела, до которых могла добраться, или втирала в синяки и кровоподтеки целебную мазь. Лицо ее – красивое, участливое, с сочувственной улыбкой – всегда было одним и тем же, но вот серебристая прядка (уж не знаю, было ли это на самом деле или просто казалось мне в бреду) то появлялась, то исчезала.
Должно быть, я долго находился между жизнью и смертью, но мой тонали оказался таким, что я все-таки выжил. Ибо пришел день, когда я проснулся с несколько просветленным сознанием, поднял глаза на странно знакомую крышу, присмотрелся к склонившемуся надо мной лицу девушки, отметил запавшую в память белую прядь и с трудом прохрипел:
– Теуантепек.
– Йаа! – воскликнула красавица, и на ее устах расцвела улыбка. Усталая улыбка, которой предшествовали долгие дни и ночи, полные забот и тревог. Я хотел было задать девушке вопрос, но она приложила свой прохладный палец к моим губам. – Молчи. Лекарь не велел тебе говорить, пока не окрепнешь. – На науатлъ она говорила неуверенно, но, кажется, я слышал в этой хижине и более сбивчивую речь. – Вот поправишься, тогда и объяснишь, что с тобой приключилось. А пока я сама расскажу тебе то немногое, что знаем мы.
Как оказалось, девушка кормила на заднем дворе домашнюю птицу, когда увидела какой-то странный шатающийся призрак, приближающийся не со стороны торговой дороги, но с севера, с прилегающих к реке пустошей. В первый момент ей захотелось удрать в гостиницу и закрыть за собой дверь, приставив к ней все тяжелое, что подвернется под руку, но страх приковал ее к месту, а когда видение приблизилось, оказалось, что это не призрак, а нагой, грязный, окровавленный мужчина. И самое странное, что что-то в его облике показалось девушке знакомым. Должно быть, даже едва живой, я из последних сил тащился к запечатлевшемуся в подсознании постоялому двору. Лицо мое было разбито, подбородок залит кровью, все еще сочившейся из ноздрей, тело покрывали бесчисленные ссадины и царапины от колючек, а также синяки и кровоподтеки – следы как падений, так и ударов, всего вместе. Босые ноги были сбиты в кровь, грязь и мелкие камешки пристали к ним словно бы взамен содравшейся кожи. Но даже в таком виде девушка признала во мне благодетеля своей семьи, и меня перенесли в дом. Не на постоялый двор, где больному невозможно было обеспечить тишину и спокойствие, а в крытую соломой хижину со стенами из скрепленных жердей. Оказывается, к тому времени их гостиница стала оживленным процветающим заведением, где вечно толкалось множество почтека из Мешико. Этим, кстати, объяснялось, почему девушка стала лучше говорить на науатлъ.
– Так что мы перенесли тебя в наш старый дом, где могли спокойно ухаживать за тобой. Тут уж больного точно никто не потревожит. К тому же хижина эта, если ты помнишь, твоя: ты ее купил. – Я хотел вмешаться, но девушка знаком велела мне молчать и продолжила: – Похоже, на тебя напали разбойники, ибо при тебе не оказалось ни одежды, ни пожитков.
Внезапно ощутив тревогу, я с мучительным усилием поднял болевшую, едва повиновавшуюся мне руку и стал шарить на груди, пока не нащупал висевший там на ремешке кристалл топаза, после чего вздохнул с облегчением. Надо думать, грабители, при всей своей жадности, не увидели в камушке никакой ценности, да и побоялись забрать его, приняв по своему невежеству за магический амулет.
– Да, это все, что на тебе было, – сказала девушка, наблюдая за моим движением. – Висюлька и еще какой-то маленький, но тяжелый сверток.
Она сунула руку под одеяло и извлекла матерчатый пакет со шнурками.
– Открой это, – с трудом прохрипел я. Голос с непривычки плохо мне повиновался.
– Молчи! – велела девушка, однако послушалась и осторожно, слой за слоем, стала разворачивать тряпицу.
Когда она развернула последний слой, то слежавшийся и несколько слипшийся от пота золотой порошок засверкал так ярко, словно в хижине зажгли светильник. Золотистые огоньки заплясали, отражаясь в глазах хозяйки.
– Мы всегда считали, что ты очень богат, – пробормотала она и, подумав, добавила: – Но первым делом ты потянулся за той висюлькой, что у тебя на груди. Выходит, она для тебя важнее золота?
Я не знал, удастся ли мне, не прибегая к словам, на которые все еще не хватало сил, объяснить ей, в чем тут дело, однако, напрягшись, поднес кристалл к глазу и посмотрел на девушку сквозь него. Я разглядывал ее до тех пор, пока рука могла удерживать кристалл, ибо она была очень красива. Красивее, чем казалась мне раньше. Я уже вспомнил, что видел ее прежде, хотя имя красавицы по-прежнему от меня ускользало. Серебристая прядь в волосах, несомненно, привлекала взгляд, однако красота девушки и без того была способна пленить мужское сердце. Ее длинные ресницы походили на крылышки самой крохотной черной колибри, а брови имели изгиб распростертых крыльев парящей морской чайки. И губы ее тоже, подобно крыльям, изгибались к уголкам, а маленькая ямочка на щеке создавала впечатление, что девушка вот-вот засмеется. Она и правда вскоре улыбнулась: наверняка красавицу позабавила моя изумленная физиономия. Улыбка, осветившая лицо девушки, засияла гораздо ярче моего золота. Не сомневаюсь, что если бы хижина была полна самыми несчастными людьми – скорбными плакальщиками или угрюмыми жрецами, – даже их лица просветлели бы при виде такой улыбки.
Топаз выпал у меня из руки, рука упала на постель, да и сам я выпал из действительности, но на сей раз провалился не в мрачное забытье, а в целительный сон. Потом мне рассказали, что я так и спал с улыбкой на лице.
Разумеется, я не мог не радоваться тому, что мне удалось вернуться в Теуантепек и познакомиться, а точнее, возобновить знакомство с этой прекрасной девушкой, но, с другой стороны, я жалел, что не мог явиться к ней здоровым и сильным, во всеоружии обаяния удачливого молодого купца. Увы, вместо этого красавице приходилось ухаживать за обессиленным, вялым человеком, вдобавок еще и покрытым струпьями, порезами и царапинами. Я по-прежнему был слишком слаб, чтобы есть самостоятельно, да и положенные мне целебные снадобья мог принимать только из ее рук. А главное, чтобы от меня не смердело, я вынужден был смириться с тем, чтобы хозяйка мыла меня целиком.
– Так не годится, – возражал я. – Девушка не должна мыть обнаженного взрослого мужчину.
– Мы и раньше видели тебя обнаженным, – спокойно ответила она, – не говоря уж о том, что ты, надо думать, прошел нагим половину перешейка. И вообще, – глаза ее лукаво блеснули, – разве девушка не может восхищаться телом красивого молодого человека да еще и таким длинным?
Наверняка в этот момент все мое длинное тело покраснело от смущения. Хорошо еще, что слабость (правду говорят, что нет худа без добра) не позволяла определенной части этого тела реагировать на прикосновения красавицы так, как это случилось бы, будь я здоров. А то еще девушка, не дай бог, сбежала бы от меня.
Пожалуй, с того самого времени, когда мы с Тцитцитлини предавались далеким от действительности мечтаниям, я не задумывался о серьезных вещах вроде женитьбы и семейной жизни. Теперь, однако, я ничуть не сомневался, что более желанной невесты, чем эта красавица из Теуантепека, мне не найти. Ушиб головы все еще давал о себе знать, так что мысли в ней теснились весьма сумбурные и путаные; правда, из недр памяти все-таки всплыло воспоминание о том, что сапотеки редко вступают в браки с чужаками, поскольку их соплеменники относятся к таким союзам с осуждением, так что решившиеся связать свою судьбу с иноземцами превращаются в изгоев.
Тем не менее, когда лекарь наконец позволил мне разговаривать сколько вздумается, я первым делом попытался вести речи, которые, по моему разумению, могли добавить юноше привлекательности в глазах молодой девушки. Хотя, с точки зрения народа Туч, я был всего-навсего презренным мешикатль, причем находившимся далеко не в самой лучшей форме, это ничуть не мешало мне просто из кожи вон лезть, пуская в ход все чары и льстивые уловки, какие я только мог придумать. Слова признательности перемежались восторженными заявлениями о том, что хозяйка хижины столь же красива, сколь и добра, и такого рода комплиментов прозвучало великое множество. Однако, на все лады восхваляя ее достоинства, я не забыл вроде бы между делом упомянуть о значительном состоянии, которое успел нажить в столь молодом возрасте, и рассказать о том, что в дальнейшем собираюсь его преумножить, а также дал ясно понять, что девушка, которая выйдет за меня замуж, никогда не будет нуждаться. Правда, у меня не хватило решимости открыто предложить красавице руку и сердце, однако некоторые мои вопросы и замечания содержали в себе недвусмысленный намек. Например, однажды я сказал:
– Просто удивительно, что такая красивая девушка, как ты, еще не замужем. В чем тут причина?
Она улыбнулась и ответила что-то вроде того, что, мол, ни один мужчина еще не пленил ее настолько, чтобы ради него ей захотелось отказаться от свободы.
– Но уж ухажеров-то у тебя, конечно, полным-полно, – заметил я в другой раз.
– О да, ухажеров хватает. Одно плохо: здешние молодые люди, как мне кажется, интересуются не столько мною, сколько возможностью заполучить долю в постоялом дворе, который приносит немалую прибыль.
– Ну, – не успокаивался я, – если местные юноши такие корыстные, то уж среди постояльцев гостиницы наверняка встречаются подходящие женихи.
– Ну, сами-то они, конечно, считают себя подходящими. Но ты ведь знаешь, что большинство почтека – люди в возрасте, они староваты для меня да к тому же иноземцы. Вдобавок, какие бы знаки внимания ни оказывали мне эти люди, я подозреваю, что у каждого из них дома уже есть жена. А у некоторых и не одна, и не только дома, а во многих селениях, через которые они ездят по торговым делам.
Я набрался смелости и заявил:
– Я не старый. И никакой жены у меня нигде нет, а если когда-нибудь будет, то одна-единственная на всю жизнь.
Девушка посмотрела на меня долгим взглядом и, помолчав, сказала:
– Наверное, тебе надо было жениться на Джай Беле. Моей матери.
Повторяю: мое сознание и память еще не восстановились тогда в полной мере. До этого момента я, видимо, либо путал эту девушку с ее матерью, либо вообще забыл о последней. Ну надо же: я совершенно забыл о том, что совокуплялся с ее матерью, причем (йаййа, о стыд и позор!) в присутствии этой девушки. Могу себе представить, что она обо мне подумала: наверняка сочла меня похотливым развратником, способным одновременно спать с матерью и ухаживать за дочерью. В растерянности и страшном смущении я только и смог, что пробормотать:
– Жениться на Джай Беле? Но насколько я помню... по возрасту она мне самому годится в матери...
В ответ девушка снова смерила меня долгим взглядом. Больше я ничего говорить не стал, а сделал вид, будто засыпаю.
Я повторяю, господа писцы, что мое сознание находилось после полученной травмы в плачевном состоянии и восстанавливалось чрезвычайно медленно. Это, пожалуй, может послужить единственным оправданием тем опрометчивым необдуманным фразам, которые я тогда произносил. Самую серьезную оплошность, повлекшую за собой роковые последствия, я допустил однажды утром, сказав совершенно без всякой задней мысли:
– Никак в толк не возьму, как это у тебя получается?!
– Что получается? – спросила хозяйка все с той же жизнерадостной улыбкой.
– Ну, иногда у тебя на голове отчетливо видна белая прядь, а иногда, как, например, сегодня, ее нет.
Девушка непроизвольно поднесла ладонь к лицу, на котором впервые за все время отразилось беспокойство. В то утро я увидел, как весело приподнятые крылышки уголков ее рта опустились. Она застыла неподвижно, глядя на меня. Думаю, что на моем лице отражалось одно лишь недоумение, судить же о ее чувствах я не берусь. Однако когда девушка заговорила, голос ее слегка дрожал.
– Я Бью Рибе, – промолвила она и умолкла, словно ожидая с моей стороны какой-то реакции. – На нашем языке это имя означает Ждущая Луна.
Она опять замолчала, и я искренне заметил:
– Прекрасное имя. Идеально тебе подходит.
Очевидно, девушка надеялась услышать что-то еще.
– Спасибо, – сказала она одновременно сердито и обиженно. – Что же до белой прядки, то она в волосах у Цьяньи, моей младшей сестры.
Потрясение лишило меня дара речи: я вдруг вспомнил, что у хозяйки постоялого двора действительно было две дочери. Все ясно: за время моего отсутствия младшая подросла, и теперь они со старшей выглядели почти близнецами. А ведь точно, у младшей сестры имелась отметина, полученная (сейчас мне вспомнилось и это) еще в младенчестве, малышку тогда укусил скорпион.
До сих пор я (вот ведь глупец!) не понимал, что за мною попеременно ухаживали две одинаково красивые сестры. Я не только принимал двух девушек за одну, но и, поскольку в голове моей все перепуталось, ухитрился в эту «одну» влюбиться, забыв не только о том, что их две, но и о том, что в свое время был любовником их матери. Задержись я в тот раз в Теуантепеке чуть дольше, я бы вполне мог стать со временем отчимом обеих красоток. Но самое ужасное, что во время своего медленного выздоровления я, не видя различия, с искренней страстью ухаживал за обеими девицами, которые вполне могли стать моими падчерицами.
Мне стало невыносимо стыдно, я пожалел, что не умер на пустошах перешейка, что очнулся от беспамятства, в котором так долго пребывал. Теперь мне оставалось лишь прятать глаза и молчать. Точно так же поступала и Бью Рибе. Она ухаживала за мной с прежней заботой, но упорно отводила взгляд, а когда пришло время, молча удалилась. В тот день она навещала меня еще несколько раз – кормила, давала лекарства, – но оставалась при этом молчаливой и сдержанной.
На следующий день настала очередь младшей сестры. Я узнал ее по белой пряди и сказал:
– Доброе утро, Цьянья!
О вчерашней оплошности я предпочел не вспоминать, в глубине души надеясь, что девушки сочтут мой неуместный вопрос просто неудачной шуткой: якобы на самом деле я знал, что их две сестры. Однако Цьянья и Бью Рибе наверняка уже обсудили между собой случившееся, так что мои уловки едва ли достигли цели. Я с напускной непринужденностью болтал всякую чепуху, девушка же поглядывала на меня искоса, причем, как мне показалось, скорее с любопытством, нежели с обидой или осуждением. А может быть, я просто истолковал, как мне больше нравилось, загадочную улыбку, свойственную обеим сестрам.
Улыбка эта несколько утешила меня, однако, увы, мои оплошности и беды на этом не кончились, ибо новые откровения принесли новые огорчения. Я решил поинтересоваться:
– А что, ваша матушка, пока вы ухаживали за мной, все время занималась постоялым двором? Мне кажется, что Джай Беле могла бы выбрать момент, чтобы заглянуть...
– Наша мать умерла, – прервала меня Цьянья, и лицо ее моментально омрачилось.
– Что? – воскликнул я. – Когда? Почему?
– Да с тех пор минуло уже больше года. Мама умерла в этой самой хижине, куда перебралась, чтобы разрешиться от бремени. В гостинице, среди постояльцев, это неудобно.
– Разрешиться от бремени?
– Ну да, она вынашивала ребенка.
– Что? Джай Беле родила ребенка?
Цьянья посмотрела на меня с участием.
– Целитель сказал, что тебе сейчас нельзя волноваться. Вот окрепнешь, тогда...
– Да низвергнут меня боги в Миктлан! – сорвавшись, воскликнул я так яростно, что сам себе удивился. – Это ведь мой ребенок, разве не так?
– Ну... – Она тяжело вздохнула. – Ты оказался единственным мужчиной, с которым мама была близка после смерти отца. Я уверена, что она умела предохраняться, ибо очень страдала еще при моем появлении на свет, и лекарь предупредил маму, что следующие роды могут стоить ей жизни, так что лучше, если я буду у нее последним ребенком. Поэтому мне и дали такое имя. Но... с тех пор миновало много лет, и матушка, наверное, решила, что уже не способна к зачатию. Так или иначе, – Цьянья сцепила пальцы, – она забеременела от чужака из Мешико, а ты сам знаешь, как относится к этому народ Туч. Вот почему мама не обращалась за помощью ни к лекарям, ни к повивальным бабкам Бен Цаа.
– Получается, что она умерла из-за отсутствия ухода! – негодующе воскликнул я. – Из-за вашего упрямства и ваших глупых предрассудков! Неужели никто из местных знахарей не согласился бы ей помочь?
– Может, кто-нибудь бы и согласился, не знаю, но мама ни к кому из наших не обращалась. Открылась она только одному молодому путешественнику. Этот мешикатль прожил у нас в гостинице около месяца, проявил к ней участие и, когда матушка доверилась ему, отнесся к ней с сочувствием и пониманием, словно сам был женщиной. Он сказал, что посещал калмекак, где преподавались основы лекарского искусства, и, когда пришло время родов, вызвался ей помочь...
– Что это за помощь, если женщина умерла? – воскликнул я, мысленно проклиная неумеху, влезшего не в свое дело.
Цьянья пожала плечами.
– Ее ведь предупреждали об опасности. Схватки были долгими, а роды невероятно тяжелыми. Мама потеряла очень много крови, и, пока мешикатль пытался остановить кровотечение, младенец задохнулся, обмотавшись пуповиной.
– Значит, оба умерли? – в ужасе воскликнул я.
– Прости. Ты сам настоял на том, чтобы я тебе все рассказала. Надеюсь, тебе не станет хуже?
– Провалиться мне в Миктлан! – снова выругался я. – А скажи хотя бы... это был мальчик или девочка?
– Мальчик. Мама хотела... если все пройдет удачно... назвать младенца Цаа Найацу, в твою честь. Но, увы, до этого дело так и не дошло.
– Мальчик. Мой сын, – простонал я, заскрипев зубами.
– Пожалуйста, постарайся успокоиться, Цаа, – сказала она, впервые обратившись ко мне с фамильярностью, от которой потеплело на сердце, и сочувственным тоном добавила: – Винить тут некого. Сомневаюсь, чтобы даже лучшие наши целители смогли бы сделать для мамы больше, чем этот добрый странник. Как я уже говорила, у нее открылось очень сильное кровотечение. Мы потом несколько раз мыли и оттирали хижину, но кое-где следы крови все равно остались. Видишь?
Цьянья отдернула на двери занавеску, впустив сноп света, и я действительно увидел на косяке так и не отмывшееся пятно крови. А точнее, отпечаток окровавленной ладони.
Как ни странно, но после того потрясения я не впал снова в беспамятство, а продолжил поправляться. Память моя восстанавливалась, тело крепло и обретало силу. Бью Рибе и Цьянья по очереди продолжали ухаживать за мной, а я теперь изо всех сил старался не сказать ничего такого, что могло бы быть истолковано как ухаживание. Честно говоря, меня очень удивляло, что сестры посвящали столько времени и сил выхаживанию человека, из-за которого умерла их мать. И уж конечно, теперь мне и в голову не приходило попытаться завоевать одну из них, хотя я по-прежнему был без ума от обеих. Все-таки как ни крути, я был отцом их, пусть и недолго прожившего, сводного брата, какие уж тут ухаживания...
И вот наступил день, когда я почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы пуститься в путь. Лекарь после осмотра объявил, что силы мои полностью восстановились, однако настаивал, чтобы я приучал глаза к полноценному дневному свету постепенно, день за днем совершая все более длительные прогулки. Бью Рибе предположила, что мне будет удобнее перебраться в гостиницу, где как раз освободилась комната. Я согласился, и Цьянья принесла мне одежду их покойного отца. В первый раз за невесть сколько дней я снова прикрыл чресла набедренной повязкой и набросил на плечи накидку. А вот принесенные сандалии оказались малы, и мне пришлось дать Цьянье щепотку золотого порошка, чтобы она сбегала на рынок и купила мне обувь по ноге. И вот наконец я нетвердым шагом, ибо сил у меня было куда меньше, чем казалось, покинул ту достопамятную хижину.
Догадаться, почему этот постоялый двор стал излюбленным местом остановки почтека и прочих странников, было совсем нетрудно: любой нормальный мужчина получал удовольствие от одного лишь общества очаровательных трактирщиц. Однако их гостиница была недурна и сама по себе: просторная, чистая, с хорошей кухней и внимательной, любезной прислугой. Девушки очень старались всячески улучшить свое заведение, однако очень важна была и благожелательная, уютная атмосфера, порожденная не сознательными усилиями, а их веселым, добродушным нравом. Тяжелая, нудная и грязная работа лежала на плечах слуг, каковых здесь имелось в достатке, а потому девушки, на чью долю оставалось общее руководство, всегда были прекрасно одеты, причем, чтобы еще усилить свое сходство, носили одежду гармонирующих цветов. Поначалу меня задевало, что постояльцы шутили и заигрывали с юными хозяйками постоялого двора, но потом я даже порадовался тому, что все почтека были настолько заняты флиртом, что не замечали (в отличие от меня) одной удивительной особенности одежды сестер.
– Где вы раздобыли эти блузки? – спросил я девушек потихоньку, чтобы не слышали другие торговцы и путешественники.
– На рынке, – ответила Бью Рибе. – Правда, купили мы их белыми, а отделали сами.
«Отделка» представляла собой проходивший по подолу и по кайме вдоль квадратного выреза на шее узор, который мы называем горшечным, а ваши зодчие, вроде бы знакомые с чем-то похожим, именуют «прямоугольным греческим орнаментом». Не знаю уж, что значит «греческий», но могу сказать, что узор этот был не вышивкой, а рисунком, нанесенным на ткань яркой переливающейся пурпурной краской.
– А где вы взяли такую краску? – словно между делом поинтересовался я.
– А, краска, – вступила в разговор Цьянья. – Миленькая, правда? Среди матушкиных вещей мы нашли маленький кожаный мешочек: вроде бы она получила его от отца, перед тем как тот отправился в свое последнее путешествие. Краски как раз хватило на две блузки, другого применения мы ей просто не нашли. – Она поколебалась и неуверенно спросила: – А по-твоему, Цаа, мы поступили легкомысленно?
– Что ты! – воскликнул я. – Все правильно: красивая краска должна добавлять красоты нарядным вещам, а они – украшать красавиц. Я другое хотел спросить: эти блузки уже стирались?
Вопрос удивил девушек.
– Ну конечно, и не один раз.
– Значит, краска не линяет? И не выцветает?
– Нет, это очень хорошая краска, – сказала Бью Рибе и тут наконец рассказала мне то, что я столь деликатно пытался выведать: – Хорошая-то хорошая, но, можно сказать, именно из-за нее мы лишились отца. Он отправился туда, где ее добывают, чтобы закупить большую партию и сделать на этом состояние, да так и не вернулся.
– С той поры прошел уже не один год, – заметил я. – Вы, наверное, были тогда еще слишком маленькими, чтобы запомнить, куда лежал его путь. Да и упоминал ли он об этом?
– Подожди-ка, – пробормотала девушка и, силясь вспомнить, сдвинула брови. – Конечно, мы специально не запоминали... но вроде бы отец говорил что-то о юго-западе... о побережье и скалах, о которые с грохотом разбиваются океанские валы...
– Там живет племя отшельников, именующее себя «бродягами», – подхватила Цьянья. – Помнишь, сестричка, он еще обещал принести красивых ракушек, чтобы сделать нам бусы?
– А не могли бы вы отвести меня в те места?
– Чего тут отводить? – пожала плечами старшая сестра, неопределенно махнув рукой в сторону запада. – Скалистое побережье, насколько мне известно, находится только там.
– Побережье длинное, скал много, а «бродяги» наверняка тщательно охраняют источник пурпура. Заметьте, с тех пор как пропал ваш отец, ни один купец не привозил на рынок такого товара. Девушки, пожалуйста, сходите со мной! Вдруг по дороге вы еще что-нибудь вспомните? Меня интересует любая мелочь!
– Сходить, конечно, можно, – ответила младшая сестра. – Но не забывай, Цаа, нам нужно еще и заниматься хозяйством.
– Но ведь я довольно долго болел, и все это время вы по очереди ухаживали за мной. И одновременно управляли постоялым двором. Конечно, вам обеим бросать хозяйство нельзя, но одна-то вполне может отлучиться.
Они неуверенно переглянулись, но я настаивал:
– Подумайте: мы пойдем по следам вашего отца, доведем до конца дело, которое он начал. На этой пурпурной краске можно сделать целое состояние.
Девушки колебались. Я потянулся к ближайшему горшку с растениями, сорвал два побега – один короткий, другой длинный – и зажал оба в кулаке.
– Вот, выбирайте. Та, что вытащит короткий прутик, отправится со мной в путешествие и поможет заработать состояние, которое мы поделим на троих.
Поддавшись моим уговорам, обе девушки одновременно протянули руки и взяли по прутику. С того дня, мои господа, миновало уже сорок лет, но я и сейчас не могу сказать, кто из нас троих тогда выиграл, а кто проиграл. Так или иначе, Цьянья вытянула короткий прутик. Всего лишь прутик, однако, как выяснилось впоследствии, наши судьбы с этого самого момента повернулись совершенно по-новому.
Пока девушки готовились в дорогу: сушили пиноли и мололи шоколадную смесь, я отправился на местный рынок, чтобы закупить все, что необходимо для путешествия. В лавке оружейника я перепробовал весь его товар и наконец остановил выбор на макуауитль и коротком копье, которые подошли мне больше прочих.
– Молодой господин готовится к встрече с опасностью? – поинтересовался хозяин лавки.
– Я собираюсь в землю чонталтинов, – ответил я. – Слышал о такой?
– Аййа, как не слышать! Страшное место, оно находится выше по побережью. Народ там живет такой, что хуже некуда. Чонталтинами их зовут на науатлъ. По-нашему они именуются цью, но смысл тот же: «бродяги». Насколько мне известно, это самое убогое и дикое из всех племен гуаве. Они не задерживаются долго на одном месте, вот почему их так прозвали. Мы не трогаем цью, поскольку они скитаются маленькими группами и по таким землям, которые все равно ни на что путное не годятся.
– Как-то раз мне довелось заночевать в деревеньке гуаве, – сказал я. – Не больно гостеприимный народ.
– Ну, если ты провел среди них ночь и проснулся живым, то тебе повезло встретиться с самым миролюбивым и великодушным племенем «бродяг». Цью с побережья, будь уверен, такого гостеприимства тебе не окажут. То есть встретить-то тебя они могут очень даже радушно – даже слишком радушно. Дело в том, что питаться «бродягам» приходится в основном рыбой, и она им порядком поднадоела. Так что для них нет большей радости, чем зажарить и съесть случайного путника.
Звучало это угрожающе, однако я не дрогнул и стал расспрашивать оружейника, как лучше всего добраться до обиталища этих дикарей.
– Самый короткий путь лежит прямо на юго-запад, но тогда тебе придется подниматься на горы. Так что лучше по реке – сначала на юг к океану, а потом – вдоль побережья на запад. Знаешь, вот что: поезжай-ка ты в порт Нозибе и найми там лодочника, он мигом доставит тебя к «бродягам» морем.
Мы с Цьяньей последовали этому совету. Конечно, я должен был позаботиться о своей спутнице и выбрать маршрут полегче, хотя, как оказалось впоследствии, девушка вовсе не была неженкой. Во всяком случае, она ни разу не жаловалась – ни на плохую погоду, ни на то, что нам приходилось питаться всухомятку и устраивать привалы под открытым небом, в пустынном краю, среди диких зверей.
Начало нашего путешествия оказалось легким и даже приятным: за один день мы добрались по ровной местности, вдоль берега реки, до порта Нозибе. Это название означает «Соленый», сам же порт представлял собой всего лишь скопище прибрежных навесов из пальмовых листьев, под которыми рыбаки могли посидеть в тени. Весь берег был покрыт растянутыми для просушки или починки сетями и усеян вытащенными на песок каноэ.
Я нашел рыбака, который не слишком охотно признался, что ему случалось бывать на побережье цью: он покупал у тамошних жителей рыбу и даже выучил несколько слов на их языке.
– Но они и со мной-то не особо приветливы, – предостерег он, – а уж чужаку вроде тебя опасно даже приближаться к их берегу.
Лишь услышав про щедрую оплату, рыбак согласился отвезти нас вдоль побережья в те края и даже выступить в качестве переводчика, если, конечно, «бродяги» вообще захотят со мной разговаривать. Тем временем Цьянья нашла свободное место под пальмовым навесом, разложила на мягком песке прихваченные нами из гостиницы одеяла, и мы провели ночь порознь, в целомудренном отдалении друг от друга.
Лодка отплыла на рассвете. Рыбак держался недалеко от берега и угрюмо молчал, в то время как мы с Цьяньей весело болтали, обсуждая открывающиеся с моря виды. Полоски пляжа походили на припорошенное серебро, щедро рассыпанное между лазурным морем и изумрудными кокосовыми пальмами, с которых то и дело взлетали стайки рубиновых и золотистых птиц. Однако по мере продвижения на запад яркий светлый песок постепенно темнел, превращаясь в серый, а потом и в черный, и вот уже за зелеными пальмами замаячили конусы вулканов. По словам Цьяньи выходило, что извержения и землетрясения в этих краях – обычное дело.
Ближе к полудню лодочник наконец нарушил свое молчание.
– Вон там, – он махнул веслом, – деревенька цью, куда я раньше заходил. – На отлогом берегу, покрытом серым песком, и впрямь виднелось скопище хижин. – Ну что, причаливаем?
– Нет! – воскликнула Цьянья. Девушка неожиданно заволновалась. – Помнишь, Цаа, ты говорил, что тебя интересуют любые мелочи? Как я могла забыть раньше? Отец упоминал гору, которая входит в воду! Вот она!
– Где?
Девушка указала вперед: действительно, прямо по курсу лодки, примерно в одном долгом прогоне за деревней цью, черные пески неожиданно обрывались у внушительного скального выступа. Подобно черной стене, он перегораживал пляж и уходил далеко в море. Даже с такого расстояния я через свой кристалл видел, как морские волны, разбиваясь о подножие гряды из чудовищных валунов и каменных обломков, вздымаются и вскипают белой пеной.
– Видишь те огромные камни, которые выбросила гора? – спросила Цьянья. – Это и есть то место, где добывают пурпур! Туда-то нам и надо.
– Девочка моя, это мне туда надо, – поправил я ее. – Ты останешься здесь, на берегу.
– Вот уж не советую оставлять девушку в этой деревне, – мрачно заметил лодочник.
Показав ему макуауитль, я провел пальцем по острейшей обсидиановой грани и сказал:
– Ты высадишь девушку на берег и объяснишь здешним жителям, что приставать к ней нельзя и что мы вернемся за ней до темноты. А мы с тобой отправимся к той горе, что входит в воду.
Лодочник поворчал, уверяя, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет, но повернул через полосу прибоя к берегу. Видимо, все мужчины цью были в море, ибо навстречу нам из прибрежных лачуг высыпали одни женщины. Жалкие, грязные существа: босые, выше пояса голые, одетые в одни лишь рваные юбки. Слова лодочника они выслушали угрюмо, и хотя взгляды, которые бросали эти дикарки на высадившуюся на берег миловидную, хорошо одетую девушку, трудно было назвать приветливыми, нападать на нее явно никто не собирался. Разумеется, мне вовсе не хотелось оставлять Цьянью в таком подозрительном месте, но это было все-таки безопаснее, чем брать ее с собой.
Когда мы с лодочником снова отплыли от берега, даже мне, хоть я и совершенно не разбирался в морском деле, стало ясно, что высадиться на склон горы с моря невозможно. Подступы к главному хребту преграждала россыпь валунов и обломков, иные из которых не уступали размерами небольшим дворцам Теночтитлана, а между ними неистово бурлили и пенились океанские волны. Они накатывали на утесы, взметнувшись на невероятную высоту, зависали там, обрушивались вниз с таким ревом, словно все громы Тлалока грянули разом, и снова откатывались, образуя водовороты столь мощные, что сотрясали даже прибрежные скалы высотой с дом.
Казалось, что повсюду здесь море, сталкиваясь со скалами, впадает в буйную ярость, так что лодочник с большим трудом отыскал место к востоку от горы, где все-таки смог меня высадить. Он показал себя умелым моряком, поэтому, когда мы, вытащив каноэ на песок вне пределов досягаемости неистового прибоя, откашлялись и выплюнули всю соленую воду, которой нахлебались, я от души поздравил его:
– Ты так отважно укротил злобное море, тебе ли бояться этих презренных цью?
Рыбак, похоже, малость приободрился: во всяком случае, он взял мое копье и последовал за мной по песку к перегораживавшей побережье скале. С суши она выглядела не такой отвесной. Найдя относительно пологий склон, мы взобрались на кряж, откуда смогли увидеть простирающийся по ту сторону западный участок побережья. Однако туда мы не пошли, а двинулись налево, в сторону моря, и постепенно оказались на вдающемся мысом в воду утесе; внизу бесновались среди исполинских валунов яростные волны. Я добрался до того места, о котором говорил отец Цьяньи, но казалось маловероятным, чтобы здесь можно было найти драгоценную пурпурную краску или хрупких улиток.
Зато я вскоре обнаружил группу из пятерых человек, которые двигались по гребню со стороны океана, явно направляясь к нам. Я решил, что это жрецы цью, ибо они были столь же грязными, что и наши, да и волосы у них были такие же всклоченные и немытые, как у жрецов мешикатль. Правда, в отличие от последних на них красовались не просто нестиранные накидки, а рваные, гнилые звериные шкуры, вонь от которых намного опережала эту компанию. Вид у всех пятерых был весьма недружелюбный, а затем шедший впереди неприветливо выкрикнул что-то на своем языке.
– Быстро объясни им, – велел я лодочнику, – что мне нужна пурпурная краска, за которую я заплачу золотом.
Но он не успел перевести, поскольку один из этих людей проворчал:
– Обойдемся без толмача. Я сам прилично говорю на лучи. Я жрец Тиат Ндик, бога моря, здесь его владения. Вы умрете, поскольку вторглись в святилище.
Стараясь говорить на лучи как можно проще и понятнее, я стал втолковывать жрецу, что ни за что не ступил бы на священные камни, будь у меня возможность достать краску где-нибудь в другом месте. Я попросил его отнестись к моему поступку со снисхождением, обдумать выгоды, которые сулит им мое появление. Проявленное мною смирение, похоже, несколько смягчило сердце жреца, хотя четверо его товарищей продолжали таращиться на меня с весьма свирепым видом. Во всяком случае, его следующая угроза была не столь прямолинейной.
– Уходи отсюда, Желтый Глаз, и может быть, ты останешься жив.
Я попытался растолковать жрецу, что все равно уже вторгся во владения бога моря, так нельзя ли мне задержаться здесь чуть подольше, чтобы заодно обменять свое золото на его пурпур? Но на это мне было сказано, что пурпур является святыней морского бога и не продается ни за какую цену.
– Уходи немедленно, и может быть, ты останешься жив, – снова повторил жрец.
– Хорошо, я уйду. Но не удовлетворишь ли ты сначала мое любопытство? Какое отношение к пурпурной краске имеют улитки?
Но он явно не знал этого слова и обратился за переводом к дрожавшему от страха лодочнику.
– А, ндик диок, – сказал жрец, поняв.
Он помедлил, потом повернулся и сделал мне знак следовать за ним. Лодочник и четверо остальных цью остались на хребте, а мы с главным жрецом стали медленно спускаться к морю. Спуск был трудным, и вздымавшиеся вокруг грохочущие волны все чаще обдавали нас холодными брызгами. Однако в конце концов жрец привел меня к замкнутой в кольцо массивных валунов и утесов лагуне, где, несмотря на царившее снаружи буйство, волнение лишь едва ощущалось.
– Это священная лагуна Тиат Ндик, – пояснил жрец. – Место, где бог моря позволяет нам услышать его голос.