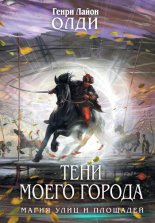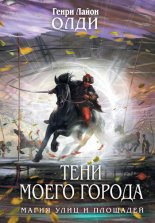Ацтек Дженнингс Гэри
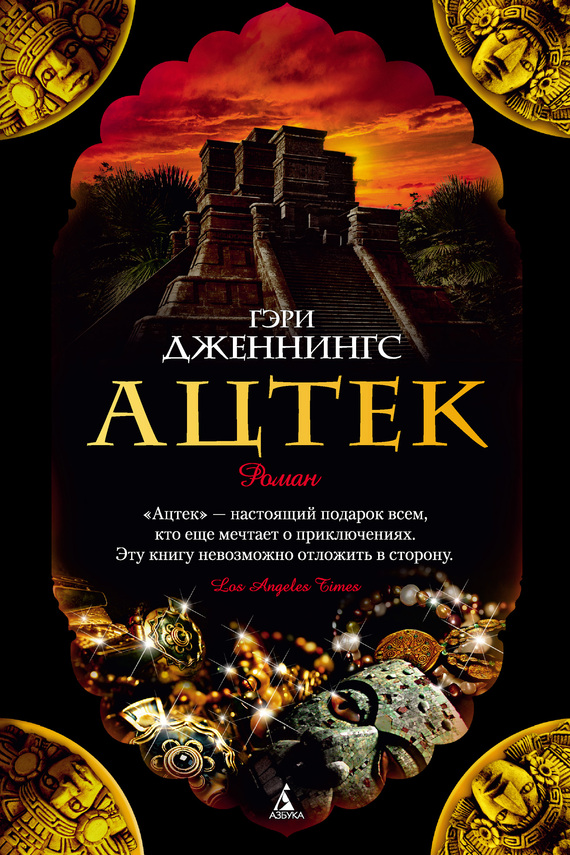
– Его голос? – переспросил я. – Ты имеешь в виду шум океана?
– Его голос, – настойчиво повторил жрец. – Если хочешь услышать, нужно опустить голову в воду.
Не отрывая от него глаз и на всякий случай держа макуауитль наготове, я встал на колени и опустил голову, погрузив одно ухо в воду. Поначалу в нем отдавался лишь стук моего сердца, но потом – сначала тихо, но постепенно становясь все громче – до моего слуха стал доноситься и другой звук. Как будто кто-то свистел под водой – хотя всем известно, что это невозможно, – причем мелодия была сложной, и этот кто-то насвистывал ее гораздо более искусно, чем любой земной музыкант. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, я не могу сравнить эту мелодию ни с каким другим звуком, который мне когда-либо доводилось слышать. Впоследствии мне пришло в голову, что это, должно быть, ветер, гулявший по трещинам и расщелинам в скалах, издавал звуки, которые искажались и казались под водой трелями. Но в тот момент я готов был принять на веру слова жреца о голосе морского бога.
Тем временем он обошел озерцо со всех сторон, что-то там высматривая, потом наклонился, погрузил руку по плечо в воду, пошарил по дну и раскрыл передо мной ладонь со словами:
– Ндик диок.
Рискну предположить, что существо, которое я увидел, находится в некотором родстве со знакомой каждому сухопутной улиткой, но отец Цьяньи явно поторопился, пообещав дочкам бусы из ракушек. Этот скользкий слизняк не имел ни домика, ни створок, ни какого-либо подобия панциря.
Тем временем жрец наклонился над слизняком и сильно подул на него. Видимо, существу это пришлось не по нраву, ибо оно выделило на ладонь жреца небольшое пятнышко бледно-желтой жидкости. Жрец бережно вернул морскую улитку на подводный камень и сунул мне под нос запачканную ею ладонь. Я невольно отпрянул, ибо выделения моллюска испускали зловоние, но тут же с удивлением заметил, что пятнышко на ладони меняет цвет. Из бледно-желтого оно сделалось сначала желто-зеленым, потом зеленовато-голубым, после чего приобрело сине-красный цвет, который, темнея и густея, превратился в переливчатый пурпур. Ухмыльнувшись, жрец вытер руку о мою накидку. Яркое пятно все еще продолжало отвратительно вонять, но я уже понял, что это краска, которая никогда не выцветает и не смывается. Затем жрец жестом велел мне следовать за ним, и мы принялись карабкаться вверх по скалам. По пути мой проводник, заменяя недостающие слова жестами, объяснил мне все насчет ндик диок.
Как оказалось, народ цью собирал улиток и заставлял их выделять пурпур лишь дважды в год, по священным праздникам, которые устраивались не в определенные дни, но тогда, когда на это указывали какие-то мудреные пророчества и знамения. Хотя на подводных камнях налипли тысячи морских улиток, каждая из них выделяла лишь малюсенькую капельку красящего вещества, так что в праздники людям приходилось отыскивать моллюсков среди бушующих волн и даже нырять за ними в водовороты, чтобы потом собрать все их выделения на мотки хлопковой пряжи или в кожаные мешочки. К улиткам здесь относились бережно, их требовалось сохранить в целости, дабы они могли дать пурпур и к следующему празднику. А вот люди ценились тут меньше. Два раза в год, при совершении каждого из этих обрядов, гибло по четверо-пятеро ныряльщиков: кого засасывали в глубины океанские водовороты, а кого бешеные волны, вышвырнув, разбивали о скалы.
– Но раз уж вы все равно идете на такие жертвы, что гибнут люди, почему ты упорно отказываешься получить от ндик диок прибыль? – Я несколько раз повторил свой вопрос и наконец добился того, что жрец понял.
Снова поманив за собой, он привел меня во влажный прохладный грот и горделиво объявил:
– Наш бог моря, чей голос ты слышал. Тиат Ндик.
Моему взору предстала статуя, весьма примитивная, ибо представляла собой грубое нагромождение круглых камней: валун обозначал нижнюю часть туловища, камень поменьше – грудь, а самый маленький – голову. Но вся эта, с позволения сказать, скульптура была окрашена в светящийся пурпур. А вокруг Тиат Ндика были разложены мешочки, полные краски, и мотки окрашенной ею пряжи. Эта пещера скрывала в себе просто бесценные сокровища.
Когда мы снова взобрались на гряду, раскаленный докрасна диск Тонатиу уже спустился к западному горизонту и погружался во вскипающий паром облаков океан. Потом диск исчез, и на какой-то миг мы увидели, как Тонатиу на самом краю мира осветил море изумрудно-зеленой вспышкой. Впрочем, это зрелище ни на миг не прервало разглагольствований жреца о том, что подношения в виде пурпурной краски необыкновенно важны для цью, ибо, если они не умилостивят морского бога, Тиат Ндик не станет посылать рыбу в их сети.
Я попытался возразить:
– Но послушай, получается, что в обмен на все эти жертвоприношения и дары ваш бог моря позволяет цью лишь влачить жалкое существование, питаясь одной рыбой. Позволь мне доставить ваш пурпур на рынок, и я принесу вам столько золота, что вы сможете купить целый город. Город в какой-нибудь прекрасной местности, где полным-полно куда лучшей снеди, чем рыба, а также рабов, которые будут вам служить.
Жрец, однако, был непреклонен:
– Пурпур не продается. Бог не простит нам кощунства. – Он помолчал и добавил: – Кроме того, Желтый Глаз, мы не всегда едим одну только рыбу.
И жрец с улыбкой указал мне на берег, где вокруг костра стояли четверо его помощников. А над костром, насаженные на мое собственное копье, жарились два человеческих бедра. Лодочника нигде не было видно, и мне потребовалась вся сила воли, чтобы не выдать того, какой ужас охватил меня при этом зрелище.
Вынув из складок набедренной повязки пакет с золотым порошком, я кинул его на землю – между собой и главным жрецом.
– Разворачивай пакет бережно, – сказал я, – иначе все золото унесет ветром.
Когда служитель морского бога опустился на колени и принялся осторожно разворачивать ткань, я продолжил:
– Если бы ты позволил мне нагрузить пурпуром лодку, я пригнал бы ее обратно, почти полную золота. Что же до этого пакета, то я предлагаю его тебе лишь за ту краску, какую смогу унести в руках.
К этому времени жрец развернул ткань, и золотой порошок засверкал в лучах заходящего солнца. Четверо помощников сгрудись позади жреца, глядя на золото с алчным блеском в глазах. Главный жрец нежно просеял золотой порошок сквозь пальцы, взвесил пакет на ладони и, не глядя на меня, произнес:
– Это золото ты отдашь за пурпур. А сколько ты выложишь за девушку?
– За какую девушку? – спросил я, и сердце мое упало.
– Да за ту, что стоит у тебя за спиной.
Я торопливо оглянулся и увидел несчастную, перепуганную Цьянью, а позади нее – шестерых или семерых мужчин цью. Впрочем, они не столько караулили девушку, сколько вытягивали шеи, чтобы рассмотреть золото в руках служителя бога.
Жрец все еще бережно перекладывал пакетик из одной руки в другую, когда я занес макуауитль и стремительным ударом отсек ему обе кисти. Вместе с пакетом они упали на землю.
Остолбеневший жрец в ужасе уставился на хлеставшую из обрубков рук кровь.
Все цью мгновенно метнулись вперед, то ли на помощь своему вождю, то ли за рассыпавшимся золотом, а я не теряя времени схватил Цьянью за руку и бросился бежать сначала вдоль хребта, а потом вниз, по его восточному склону. Как только мы пропали из поля зрения цью, я резко метнулся влево, чтобы укрыться среди огромных, выше нашего роста, камней. Расчет был на то, что цью наверняка решат: беглецы поспешат к своему каноэ, чтобы ускользнуть морем. Может, так нам и следовало бы поступить, но гребец из меня не ахти, так что рыбаки наверняка перехватили бы нас без особого труда.
Я не ошибся: очень скоро мимо нас, именно в том направлении, как я и думал, с криками пробежали несколько дикарей.
– Теперь вверх! – скомандовал я девушке, и она, не задавая лишних вопросов, стала карабкаться вслед за мной по каменистому склону.
Мы укрывались в расщелинах и за валунами, чтобы преследователи не заметили нас снизу. Ближе к гребню росли кусты и деревья, среди которых можно было затеряться, но до этого зеленого укрытия было еще далеко, и я очень боялся, что нас выдадут птицы. Казалось, что каждое наше движение вспугивает целую стаю крикливых морских чаек, пеликанов или бакланов.
Но тут я заметил, что птицы, причем не только морские, но и сухопутные – вроде длиннохвостых попугаев, голубей или скальных крапивников, – взлетают не только там, где мы лезем, но по всему склону; мало того, они с тревожными криками вьются над гребнем. Еще более удивительным было внезапное появление животных, ведущих ночной образ жизни: броненосцы, игуаны, змеи выползали из своих укрытий и, подобно нам, явно спешили вверх по склону. Да что там змеи: нас двумя прыжками обогнал оцелот, не обративший на людей ни малейшего внимания, а откуда-то сверху, хотя до наступления темноты было еще далеко, донеся заунывный вой койота. Ну а когда прямо у меня перед носом из какой-то трещины выпорхнула стайка летучих мышей, стало ясно, что приближается очередное землетрясение, они ведь постоянно случаются на здешнем побережье.
– Быстрее! – крикнул я девушке. – Давай туда, откуда вылетели мыши. Там должна быть пещера. Ныряй в нее!
Если бы не летучие мыши, мы бы, наверное, и не заметили лаза, хотя он и оказался достаточно широк: мы с Цьяньей втиснулись в него бок о бок. Углубляться в пещеру мы не стали, хотя, думаю, она была большая: мышей из нее вылетело великое множество, а снизу, откуда-то из темных глубин, поднимался сильный, резкий запах их гуано. Едва мы нырнули в эту нору, как снаружи все стихло. Птицы улетели, звери позабивались в щели. Даже беспрестанно стрекочущие цикады и те умолкли. Первый толчок землетрясения оказался резким, но тоже беззвучным.
– Цьюйю, – испуганно прошептала Цьянья, и я покрепче прижал ее к себе.
Потом откуда-то издалека, из глубины суши, послышался низкий протяжный рокот. Это один из цепи тянувшихся вдоль побережья вулканов пробудился, и его извержение оказалось столь бурным, что сотрясало землю до самого моря.
Второй, третий и все остальные (я потерял им счет) толчки происходили со все меньшими перерывами, так что вскоре они слились в непрерывные судороги: земля качалась, плясала и становилась на дыбы. Нас трясло и швыряло так, словно мы находились внутри полого бревна, отданного на волю бурного стремительного потока, а несмолкающий шум был настолько оглушительным, как если бы нас угораздило забраться внутрь чудовищного барабана, в который исступленно колотил обезумевший жрец. На самом деле шум этот объяснялся тем, что от нашей горы откалывались куски, добавляя новые валуны и обломки к уже усеивавшим мелководье.
Я невольно подумал, не грозит ли нам с Цьяньей участь оказаться среди этих обломков (не зря ведь летучие мыши предпочли покинуть пещеру), но выбираться наружу было еще страшнее, и мы непроизвольно втиснулись глубже. На долю мгновения катившийся с вершины валун перекрыл лаз, погрузив нас во мрак, но, к счастью, вход не завалило: после следующего толчка огромный камень покатился дальше. Мы снова увидели свет, правда заодно с ним появилось и облако пыли, заставившей нас задыхаться и кашлять.
Но еще больший страх я испытал, услышав приглушенный гром изнутри горы. Теперь стало ясно, почему осторожные твари покинули свою огромную пещеру: ее купол с ужасающим грохотом распался на куски и провалился в исполинскую пропасть. Туннель накренился, мы стали неумолимо сползать прямо в бушевавшие недра земли. Я крепко обхватил Цьянью руками и ногами, надеясь, когда мы попадем в камнепад, хоть как-то защитить ее своим телом.
Однако наш туннель удержался, а толчки постепенно пошли на убыль. Мало-помалу земля успокоилась, шумы стихли, и теперь снаружи доносился лишь шелест маленьких камешков, осыпавшихся по склону вслед за уже скатившимися крупными камнями. Я пошевелился, намереваясь высунуть голову наружу и посмотреть, что осталось от горы, но Цьянья удержала меня.
– Еще рано, – предупредила девушка. – Толчки часто возобновляются. К тому же очень может быть, что какой-нибудь обломок скалы все еще колеблется прямо над нами и рухнет вниз при малейшем движении. Подожди немного.
Разумеется, то была разумная осторожность, но впоследствии девушка призналась, что удерживала меня тогда не только по этой причине. Я уже упоминал о том, как воздействует землетрясение на поведение и чувства людей. Понятно, что прижимавшаяся ко мне всем телом Цьянья ощущала, как напрягся мой тепули, а я сквозь разделявшую нас тонкую ткань одежды чувствовал ее набухшие соски.
– О нет, Цаа, мы не должны... – пролепетала она. – Не надо, Цаа, пожалуйста, ты ведь был возлюбленным моей матери... И отцом моего младшего брата... Нам с тобой нельзя... – И хотя дыхание девушки участилось, она продолжала повторять это снова и снова до тех пор, пока не догадалась наконец уже совсем задыхающимся голосом сказать: – Но ты так рисковал собой, спасая меня от этих дикарей...
Больше слов не было – одно лишь тяжелое дыхание, постепенно сменившееся стонами удовольствия.
Как ни странно, но у землетрясения тоже есть свои плюсы: например, если девственницу во время него лишают невинности, то она обязательно получает удовольствие, что в остальных случаях бывает далеко не всегда. Цьянья испытала тогда такое наслаждение, что не отпустила меня, заставив повторить все еще два раза, причем мое возбуждение было столь сильным, что я даже не выходил из нее в промежутках между этими совокуплениями. Разумеется, каждый раз, извергнув семя, мой тепули терял твердость, но как только это случалось, в лоне Цьяньи вокруг него мигом сжималось какое-то колечко мускулов, причем сопровождалось это такой нежной дрожью, что мой член прямо в ее теле набухал снова.
Мы могли бы продолжать и дальше, но проникавший снаружи в наш туннель свет вдруг приобрел тусклый красновато-серый оттенок, и мне захотелось, пока не стемнело окончательно, взглянуть, как там снаружи обстоит дело. Поэтому мы разъединились и поднялись. Солнце уже давно село, но вулкан или землетрясение взметнули облако пыли настолько высоко в небо, что оно все еще ловило лучи Тонатиу, исходившие из Миктлана, или где там он к тому времени находился. Из-за этого небо было не темно-синего цвета, а светилось красным и даже окрасило багрянцем белую прядку в волосах Цьяньи. Света этого оказалось достаточно, чтобы мы могли оглядеться.
Засыпанный камнями прибрежный участок заметно расширился, и волны вскипали теперь вокруг с еще большей яростью. В склоне горы зиял чудовищный провал.
– Может быть, – предположил я вслух, – обвал погубил наших преследователей, а то и всю их деревню? Хорошо бы, а не то они обвинят в этом бедствии нас и станут преследовать еще более ожесточенно.
– Обвинят нас? – воскликнула Цьянья. – Но при чем здесь мы?
– Я осквернил святилище их верховного бога, так что цью запросто могут счесть землетрясение проявлением его гнева. Возможно, так оно и было, – добавил я после недолгого размышления, но тут же вернулся к практическим вопросам: – Но если мы останемся и переночуем в нашем укрытии, а потом еще до рассвета отправимся в дорогу, то, думаю, нас никто не перехватит. А когда мы перевалим через горы и вернемся в Теуантепек...
– Ты думаешь, мы вернемся, Цаа? Но у нас нет никаких припасов и воды тоже...
– У меня есть макуауитль. И мне доводилось покорять горы покруче тех, что отделяют нас от Теуантепека. А когда мы вернемся... Цьянья, ты выйдешь за меня замуж?
Может быть, мое предложение и показалось ей неожиданным, но девушка явно не имела ничего против, поскольку сказала:
– Мне кажется, я знала ответ на этот вопрос задолго до того, как ты его задал. Может быть, это нескромно с моей стороны, но я уверена, что в том, что сегодня случилось, виновато не только цьюйю...
На что я ответил ей вполне искренно:
– Знаешь, я так благодарен цьюйю за то, что это стало возможным. Я давно хотел тебя, Цьянья.
– Вот и прекрасно! – воскликнула она и радостно раскинула руки, собираясь меня обнять.
Я, однако, в ответ покачал головой, и улыбка девушки потускнела.
– Ты для меня настоящее сокровище, просто подарок судьбы, – промолвил я. – Но вот насчет меня этого сказать нельзя. – Цьянья хотела было что-то возразить, но я снова покачал головой. – Если ты выйдешь за меня замуж, то тебя отвергнут твои прекрасные соплеменники – народ Туч. Это немалая жертва.
– Поверишь ли ты, Цаа, если я скажу, что ты стоишь такой жертвы? – спросила она после недолгого размышления.
– Нет, – ответил я. – Мне лучше знать, чего я стою.
Девушка кивнула, как будто ожидала такого ответа.
– Тогда я могу сказать лишь одно: я люблю человека по имени Цаа Найацу больше, чем своих соплеменников.
– Но почему, Цьянья?
– Кажется, я полюбила тебя с тех пор, как... но давай не будем говорить о том, что было. Скажу лишь, что люблю тебя сегодня и буду любить завтра. Вчерашний день миновал, тогда как сегодняшний продолжается, а завтрашний еще может наступить. И в каждый из новых наступивших дней я буду повторять, что люблю тебя. Можешь ты поверить в это, Цаа? Можешь сказать мне в ответ то же самое?
Я улыбнулся ей.
– Могу и обязательно скажу. Я люблю тебя, Цьянья.
В ответ девушка тоже улыбнулась и не без лукавства заявила:
– Ах, Цаа, таков уж наш с тобой тонали, а от него, как известно, не уйдешь. Смотри! – И она жестом указала сначала на свою грудь, а потом на мою.
Когда мы с Цьяньей сблизились, краска, которой запятнал меня жрец, была еще влажной, и теперь у нас обоих красовалось на одежде по одинаковому пурпурному пятну – у нее на блузке и у меня на накидке.
Я рассмеялся, а потом не без раскаяния сказал:
– Надо же, Цьянья, я давно влюблен в тебя, а теперь даже собрался стать твоим мужем, но до сих пор не удосужился поинтересоваться, что же значит твое имя?
Когда девушка ответила, я сперва счел это шуткой и поверил ей лишь после пылких уверений.
Как вы, наверное, уже поняли, мои господа, имена, принятые у всех племен и народов нашей земли, обязательно обозначают какие-то понятия, подчас довольно сложные. Взять хотя бы мое собственное имя – Темная Туча – или любое из тех, что я уже упоминал, – Сама Утонченность, Пожиратель Крови, Дар Богов, Вооруженный Скорпион и так далее. Поэтому мне трудно было поверить, что девушка может носить имя, состоящее всего из одного, самого простого и распространенного слова – слова «всегда».
Именно это и обозначало имя моей возлюбленной. Цьянья. Всегда.
IHS S.C.C.M.
Его Священному Императорскому Католическому Величеству императору дону Карлосу, нашему королю и повелителю
Всемогущему и наиславнейшему предводителю нашему и монарху из города Мехико, столицы Новой Испании, в день Святого Проспера, в год от Рождества Христова одна тысяча пятьсот тридцатый, шлем мы наш нижайший поклон.
При сем, великий государь, прилагается, как обычно, запись последних словесных излияний пребывающего под нашим кровом ацтека, в коих, как уже повелось, мало vis[25], но избыток vomitus[26]. Из самого последнего письма Вашего Величества явствует, что наш, суверен все еще находит эту историю достаточно занимательной и заслуживающей того, чтобы пятеро добрых христиан продолжали день за днем не только выслушивать ее, но и записывать слово в слово. В связи с этим мы предполагаем, что Вашему Высокочтимому Величеству, возможно, будет небезынтересно узнать о благополучном возвращении миссионеров из ордена доминиканцев, коих мы направляли в южную область, именуемую Оаксака, для подтверждения или опровержения рассказа нашего ацтека о том, что тамошние индейцы издавна, хотя и под причудливым именем Всемогущее Дыхание, почитают Господа Нашего Вседержителя и, кроме того, используют крест в качестве священного символа.
Брат Бернардино Минайа и сопутствовавшие ему братья-миссионеры доложили, что они видели в этой местности множество на первый взгляд действительно христианских крестов – во всяком случае, крестов той формы, которые в геральдике называются croix botonee[27], – однако они не служат никакой религиозной цели, а представляют собой лишь знаки, коими, из сугубо практических соображений, отмечаются там источники пресной воды. Соответственно, викарий Вашего Величества склонен рассматривать эти кресты с августинианским скептицизмом. По нашему мнению, государь, сие есть не более чем проявление злокозненного коварства Врага Рода Человеческого. Очевидно, что, предвидя наше прибытие в Новую Испанию, дьявол поспешил обучить некоторое количество этих язычников нечестивому подобию христианских верований и обрядов, снабдив их псевдосвященными предметами в надежде запутать и ввести нас в заблуждение, когда мы явимся, дабы одарить сих дикарей светом Истинной Веры.
Кроме того, насколько смогли понять братья-доминиканцы, испытывавшие серьезные затруднения с тамошним языком, Всемогущим Дыханием индейцы именуют не Бога, а верховного чародея, или, как сказал бы наш хронист, жреца, властвующего над подземными криптами описанного в предыдущей части рассказа города Льиобаана, который считался у туземцев Святым Домом. Братья, предупрежденные нами о совершавшихся там многочисленных языческих погребениях и греховных жертвоприношениях – самоубийствах добровольцев, – заставили индейцев допустить их в подземелья.
Как Тесей, осмелившийся вступить в лабиринт Дедала, они разматывали позади себя нить, продвигаясь при свете факелов по извилистым туннелям через мрачные пещеры. Их преследовал зловонный запах разложившейся плоти; они ступали по костям бесчисленных скелетов. К сожалению и в отличие от Тесея, добрые братья скоро утратили мужество. Когда им стали встречаться гигантские, объевшиеся трупами крысы, змеи и прочие паразиты, их решимость сменилась ужасом и они устремились наружу едва ли не в беспорядочном бегстве.
Оказавшись наверху, братья, несмотря на все мольбы и стенания индейцев, повелели завалить и замуровать входы в туннели, дабы навсегда захлопнуть и скрыть от людских глаз эту, как выразился брат Бернардино, «заднюю дверь в Преисподнюю». Позволю себе заметить, что сие вполне оправданное деяние, кое следовало бы предпринять уже давно, напоминает нам о святой Екатерине Сиенской, молившейся о том, чтобы ее непорочное тело распростерлось над Бездной, дабы ни один из бедных грешников более не был туда низвергнут. Вместе с тем мы сожалеем о том, что, возможно, так никогда и не узнаем, сколько же там было в действительности этих подземных каверн, равно как и не доберемся до сокровищ, которые наверняка брали с собой в последний путь знатные язычники. Но пуще всего мы опасаемся, что это совершенное в порыве чувств действие доминиканцев едва ли способствовало укреплению доверия тамошних индейцев к нашей Святой Церкви, равно как и любви их к нам самим, несущим свет Христианства заблудшим душам.
Мало того, мы вынуждены с прискорбием сообщить Вашему Величеству, что и наши соотечественники испанцы также не испытывают к нам особой любви. Думаю, что служащие Королевского Совета по делам Индий уже не раз получали жалобы на наше «вмешательство в мирские дела». Господу ведомо, что жалобщики сии, в первую очередь землевладельцы, в имениях которых трудится значительное количество индейцев, обыгрывают наше имя, непочтительно именуя нас «епископ Сурриаго»[28]. А все лишь потому, государь, что мы осмелились осудить с кафедры бытующий в Новой Испании обычай непосильным трудом буквально доводить работающих у них индейцев до смерти. «Ну и что такого? – заявляют эти господа. – Ничего страшного: в здешних краях по-прежнему приходится по пятнадцать краснокожих на одного белого. Так почему бы не изменить это соотношение в нашу пользу, тем более если заодно несчастные туземцы еще и выполнят какую-нибудь полезную работу?»
Испанцы, придерживающиеся такой точки зрения, подводят под свои рассуждения религиозную основу, videlicet[29]: коль скоро мы, христиане, избавили этих дикарей от поклонения дьяволу и, следовательно, от неизбежной погибели и даровали им надежду на спасение души, то индейцы пребывают в вечном долгу перед своими избавителями. Капеллан Вашего Величества не может отрицать того, что в этом аргументе наличествует логика, но мы тем не менее полагаем, что долг индейцев перед нами отнюдь не включает обязанности умирать без надобности и по произволу (от побоев, клеймения, голода и тому подобного), а уж тем паче – обязанности умирать раньше, чем они будут крещены и полностью утвердятся в Истинной Вере.
Поскольку перепись населения Новой Испании все еще не закончена, а результаты ее не упорядочены, мы можем предложить Вашему Величеству лишь примерные цифры численности туземцев в прошлом и настоящем. Имеются веские основания полагать, что ранее в пределах того края, каковой ныне является Новой Испанией, проживало примерно шесть миллионов краснокожих. Сражения Конкисты, безусловно, значительно сократили их количество. К тому же за последние девять лет еще около двух с половиной миллионов индейцев, пребывавших под испанским владычеством, умерло от различных болезней. Сколько жизней уже унесли и продолжают уносить недуги в еще не завоеванных нами регионах, ведомо одному Творцу.
Очевидно, Нашему Господу угодно было сделать краснокожую расу особенно уязвимой для некоторых заболеваний, которые, по всей видимости, до сих пор не имели распространения в здешних землях. Тогда как иные хвори были известны здесь и ранее (что не удивительно, принимая во внимание присущую язычникам склонность к распутству), то бубонная чума, холера, корь, оспа и некоторые другие болезни прежде, видимо, обходили этот край стороной. Трудно сказать, случайно ли совпали моровые поветрия с покорением сей земли христианами, либо же они представляют собой страдания, ниспосланные язычникам Господом, дабы очистить их души от скверны, но индейцы страдают от этих болезней несравненно сильнее, чем европейцы.
Так или иначе, но все это прискорбное множество смертей проистекло, во всяком случае, по естественным причинам, попущением Господним, и исправить свершившееся не в нашей воле и власти. Другое дело, что мы полагаем своим священным долгом призвать наших соотечественников положить конец намеренному истреблению краснокожих. Поскольку Ваше Величество помимо сана епископа Мексики и апостолического инквизитора даровал нам еще должность протектора (защитника) индейцев, то мы будем действовать сообразно обязательствам, налагаемым оным титулом, пусть даже сему будут неизбежно сопутствовать происки жалобщиков и недоброжелателей из числа наших соотечественников.
Испанцы, использующие туземцев как дешевую и легко расходуемую рабочую силу, не должны забывать о своей главной, первостепенной заботе – спасении их заблудших душ. Наш успех в этом благородном деле умаляется со смертью каждого индейца, не успевшего приобщиться к христианской вере. Если подобная безвременная кончина постигнет слишком многих туземцев, пострадает доброе имя Святой Церкви. Кроме того, если все эти индейцы умрут, то кто будет тогда строить наши соборы, храмы, часовни, мужские и женские монастыри, подворья, усыпальницы и прочие христианские сооружения? Кто, спрашиваю я, составит основную массу наших прихожан? Кто будет трудиться, платить подати и вносить десятину на содержание слуг Господних в Новой Испании?
Да сохранит Господь Ваше Наиславнейшее Величество, истинного ревнителя и поборника благочестия, дабы наш монарх, к Вящей Славе Его, мог благополучно пользоваться плодами неустанных своих трудов.
Епископ Мексики Хуан де Сумаррага
(подписано собственноручно).
SEPTIMA PARS[30]
Стало быть, ваше преосвященство сегодня присоединится к нам, чтобы послушать о моей семейной жизни?
Мне кажется, вы найдете этот рассказ не столь изобилующим происшествиями, как истории, касающиеся бурного периода моего возмужания, однако, хочу надеяться, и не столь задевающим ваши чувства. Хотя я и должен с сожалением сообщить, что сама церемония моей свадьбы была омрачена штормом и грозой, но зато могу добавить, что, к счастью, большая часть последовавшей за этим семейной жизни оказалась солнечной и безмятежной. Только, пожалуйста, не подумайте, что она была скучной или монотонной. Напротив, живя с Цьяньей, я испытал множество приключений, и само ее существование наполняло каждый мой день радостным волнением. К тому же в годы, последовавшие за нашим бракосочетанием, жизнь в Мешико, находившемся на вершине своего могущества, была необычайно бурной, и мне довелось лично участвовать в событиях, которые, как я теперь понимаю, были не столь уж и значимыми, но в ту пору и нам с женой, и большинству наших соотечественников представлялись великими и судьбоносными. Пусть наши победы и радости не были эпохальными и не повлекли за собой выдающихся последствий, но ведь, в конце концов, именно из них и складывалась наша жизнь.
Кроме того, простому человеку могло показаться важным то, что не имело значения ни для кого другого, например, интимная сторона брака. Помню, еще в самом начале нашей совместной жизни я спросил Цьянью, как ей удается сжимать колечко мускулов в своей промежности, делая наш акт любви столь возбуждающим. Она, покраснев от удовольствия и смущения, тихонько ответила:
– С тем же успехом ты мог бы спросить, как мне удается моргать или дышать. Это получается само собой, когда у меня возникает желание. А разве у всех других женщин иначе?
– Я не имел дела со всеми другими женщинами, а теперь, когда я заполучил лучшую из них, остальные меня совершенно не волнуют.
Но ваше преосвященство, разумеется, не интересуют подобные тривиальные детали. Думаю, что лучше всего я мог бы объяснить вам, какой была моя супруга, сравнив ее с растением, которое мы называем метль, хотя, конечно, это растение не настолько красиво, как Цьянья и оно не умеет любить, говорить или смеяться.
Метль, ваше преосвященство, это зеленое или голубое растение высотой с человека – красивое, полезное, нужное и растущее повсюду. Вы называете его агавой. Так вот, длинные, изогнутые листья агавы можно, нарезав, разложить так, чтобы они перекрывали друг друга, и получится прекрасная водонепроницаемая кровля. Те же самые листья, если размолоть их, отжать и высушить, дают бумагу, а если разделить на волокна – материал, из которого делают нити и веревки и плетут канаты. Из волокон агавы можно изготовить грубую, но зато прочную ткань. Острые шипы, окаймляющие каждый лист, служат иголками, булавками и гвоздями, а наши жрецы применяли их еще и для умерщвления плоти.
Молодые побеги, растущие возле самой земли, имеют нежную, очень вкусную мякоть и идут на приготовление сластей, а высушенные листья являются превосходным – экономным и не дающим дыма – топливом. Мало того, сгорев, они оставляют белый пепел, которым отбеливают бумагу и который применяют при изготовлении мыла. Если срезать центральные листья агавы и удалить из них сердцевину, то в выемке постепенно накопится прозрачный сок. Он вкусный и питательный, но пригоден не только для питья. Наши женщины втирают его в кожу, чтобы избавиться от морщин, сыпи и пятен, а мужчины дают ему перебродить и получают пьянящий напиток октли или, как называете его вы, пульке. Ну а детишки просто обожают сваренный из этого сока сироп – густой и сладкий, как мед.
Короче говоря, агава сторицей воздает тому, кто выращивает ее и за ней ухаживает, именно в этом и заключается смысл сравнения с ней моей несравненной Цьяньи. Моя жена была хороша не в каком-то одном смысле, а решительно во всех отношениях, во всех своих делах и поступках, причем касавшихся не только меня. Хотя мне, конечно, доставалось все самое лучшее, я ни разу не встретил человека, который бы не любил ее, не ценил и не восхищался ею. Имя Цьянья означает «всегда», но она была еще и всем.
Простите, я понимаю, что не должен занимать драгоценное время вашего преосвященства своими сентиментальными воспоминаниями, так что позвольте мне вернуться к рассказу и изложить события в том порядке, в каком они происходили.
Ускользнув от жестоких цью и уцелев во время землетрясения, мы отправились в Теуантепек сушей, что заняло у нас семь дней. Погубило ли землетрясение дикарей, или они, наоборот, решили, будто землетрясение погубило нас, это мне неизвестно. Во всяком случае, за нами никто не гнался, и при переходе через горы мы страдали только от жажды и голода. Зажигательного кристалла я лишился еще на перешейке, когда на меня напали грабители, а поскольку голод был не так силен, чтобы заставить нас есть сырое мясо, мы с Цьяньей питались дикими плодами, ягодами и птичьими яйцами. Все это было съедобно в сыром виде и, кроме того, содержало достаточное количество влаги, чтобы мы могли насытиться ею в переходах между редкими горными источниками. По ночам мы устраивали ложе из сухих листьев и спали, прижавшись друг к другу ради тепла и иных взаимных удовольствий.
Когда нам удалось-таки добраться до Теуантепека, мы, надо полагать, малость отощали и уж совершенно точно выглядели оборванцами. Одежда наша истрепалась, сандалии износились о камни, ноги были сбиты и стерты.
Когда мы, усталые и радостные, доковыляли до постоялого двора, навстречу нам выскочила Бью Рибе. Лицо ее выражало одновременно сочувствие, раздражение и облегчение.
– Я уж думала, что вы пропали, как наш отец, и никогда не вернетесь! – сказала она, радостно, хотя и несколько укоризненно улыбаясь, а затем пылко обняла сначала сестру, а потом и меня. – С того самого момента, когда вы скрылись из виду, на душе у меня было неспокойно, вся эта затея показалась мне дурацкой и опасной... – Вдруг Бью Рибе запнулась, внимательно вглядевшись в нас обоих, и я во второй раз в жизни увидел, как опали крылышки ее улыбчивых губ. Она осторожно провела рукой по лицу и повторила: – Дурацкой... и опасной...
Ее глаза, рассматривавшие сестру, расширились, а затем вспыхнули недобрым огнем, когда Бью Рибе перевела взгляд на меня.
Хотя я прожил немало лет и знал многих женщин, но до сих пор не пойму, как одна из них может мгновенно и точно определить, что другая была близка с мужчиной и перешла ту грань, за которой девушка превращается в женщину. Ждущая Луна оглядела сестру с изумлением и досадой, а меня с гневом и негодованием.
– Мы собираемся пожениться, – поспешно сказал я.
– И просим твоего благословения, – добавила Цьянья. – В конце концов, ты – глава семьи.
– Могла бы вспомнить об этом и раньше! – произнесла старшая сестра сдавленным голосом. – До того, как ты... как вы... – Туту нее, похоже, перехватило дыхание. Теперь глаза Бью Рибе просто метали молнии. – Нет, надо же... не просто с каким-то там иноземцем, но с похотливым мешикатль, совокупляющимся со всеми без разбору. Не окажись ты у него под рукой, Цьянья, – ее голос зазвучал еще более громко и злобно, – он, скорее всего, раздобыл бы вонючую самку цью, чтобы насадить ее на свой длинный, ненасытный...
– Бью! – выдохнула Цьянья. – Я никогда не слышала от тебя таких слов. Опомнись! Я понимаю, это выглядит неожиданно, но, уверяю тебя, мы с Цаа любим друг друга.
– Да уж, действительно неожиданно! Ты уверена, что он тебя любит? – неистово воскликнула Ждущая Луна, после чего обратила свою ярость на меня. – А ты сам-то в этом уверен? Ты ведь еще не распробовал всех до последней женщин в нашей семье!
– Бью! – снова взмолилась Цьянья.
Я попытался пошутить, чтобы успокоить девушку, но получилось это у меня довольно неуклюже, так что, боюсь, вышло только хуже.
– Бью, я ведь не такой знатный и богатый, чтобы иметь нескольких жен.
Тут Цьянья бросила на меня взгляд почти такой же разгневанный, как у ее сестрицы, и я попытался выкрутиться:
– Цьянья станет моей женой, а тебя, Бью, я счел бы за честь назвать сестрой.
– Вот и прекрасно, братец. Можешь назвать, я тебе разрешаю. Но с одним условием – немедленно убраться куда глаза глядят. Убирайся прочь и забирай с собой... свою... свою избранницу. Благодаря тебе у нее нет здесь больше ни чести, ни доброго имени, ни дома. Ни один жрец Бен Цаа не сочетает вас браком.
– Мы знаем это, – сказал я, старясь придать голосу твердость. – Для совершения брачного обряда мы отправимся в Теночтитлан. Но церемония не будет ни тайной, ни постыдной. Нас поженит один из верховных жрецов двора юй-тлатоани Мешико. Да, твоя сестра выбрала иноземца, это правда, но отнюдь не никчемного бродягу. И она выйдет за меня замуж, дашь ты ей свое благословение или нет.
Последовала долгая напряженная пауза. Слезы струились по почти одинаково прекрасным и почти одинаково расстроенным лицам девушек. По моему же струился пот. Мы трое стояли подобно углам треугольника, связанные невидимыми, натянувшимися до предела ремнями. Казалось, вот-вот что-то лопнет, но тут Бью ослабила напряжение. Ее взор погас, плечи поникли, и девушка сказала:
– Прошу прощения. Пожалуйста, извини меня, сестра Цьянья. И ты тоже, брат Цаа. Конечно, я дам вам свое благословение и от всей души пожелаю счастья. Извините меня за необдуманные слова, которые невольно сорвались с языка... – Тут она попыталась рассмеяться над собой, но смех оборвался на середине. – Вы правы, это все так неожиданно. Не каждый день я теряю... любимую сестру. А сейчас заходите в дом. Помойтесь, поешьте и отдохните с дороги.
С того самого дня Ждущая Луна возненавидела меня смертной ненавистью.
Мы с Цьяньей пробыли в гостинице еще дней десять, но все это время сохраняли между собой дистанцию. Она, как и раньше, ночевала в комнате с сестрой, а я жил в своей собственной, и мы старались не показывать свои чувства на людях. Пока мы приходили в себя после неудачного путешествия, Бью, похоже, пыталась оправиться от потрясения, которое испытала после нашего возвращения. Она помогала Цьянье сложить то немногое, что моя невеста собиралась взять с собой в Мешико.
Поскольку я остался без единого боба какао, мне пришлось взять у девушек взаймы некоторую сумму на дорожные расходы, а также чтобы заплатить осиротевшей семье несчастного лодочника из Нозибе. О гибели рыбака я сообщил бишосу Теуантепека, который заверил, что непременно уведомит о последней дикарской выходке презренных цью гуаве владыку Коси Йюелу.
Признаться, Бью удивила меня, устроив в последний день праздничный пир, какой могла бы устроить, соберись ее сестра замуж за своего соплеменника. На пир этот пригласили всех постояльцев гостиницы и многих горожан. Она специально наняла музыкантов, а танцоры в великолепных костюмах исполняли генда лица – традиционный танец народа Туч, символизировавший «дух родства».
Так или иначе, добрые отношения между сестрами и между Бью и мной вроде бы восстановились, и на следующее утро мы простились тепло, с объятиями и поцелуями.
Взвалив на спины дорожные торбы, мы с моей невестой отправились не прямиком к Теночтитлану, а на север, через равнинный перешеек, то есть пошли тем путем, которым я пришел в Теуантепек. Поскольку теперь мне надо было думать не только о себе, я особенно остерегался промышлявших на дорогах разбойников. Держа макуауитль наготове, я внимательно озирал окрестности, присматриваясь к любому месту, способному послужить укрытием для злоумышленников.
Мы прошли не более одного долгого прогона, когда Цьянья с простодушным волнением и восторгом вдруг воскликнула:
– Подумать только, мне ведь еще никогда в жизни не приходилось уходить так далеко!
От этих незамысловатых слов сердцу моему вдруг стало тесно в груди, а чувства нахлынули с еще большей силой. Она отважилась уйти в неизвестность, всецело доверившись моему попечению. Я засиял от гордости, мысленно благодаря свой и ее тонали за то, что они свели нас воедино. Все остальные люди в моей жизни принадлежали прошлым дням и годам, но любовь к Цьянье была совсем свежей, и наша близость еще не приобрела налета обыденности.
– Я даже представить себе не могла, – восклицала она, раскинув руки, – что вокруг может быть столько ровной земли! Какой простор!
Подобные восторги у девушки вызвала самая обычная, в общем-то довольно унылого вида равнина, но неподдельное восхищение Цьяньи не могло оставить равнодушным и меня. Я радовался возможности знакомить ее с тем, что казалось мне совершенно заурядным, но очаровывало ее своей новизной, да и самому мне, честно говоря, благодаря Цьянье удавалось взглянуть на привычные вещи несколько по-иному.
– Ты только посмотри на этот куст, Цаа. Он же живой! Как и мы, он понимает, что происходит вокруг, и боится, бедняжка. Видишь? Когда я дотрагиваюсь до его веточки, он складывает все свои листья, плотно закрывает цветки и выпускает колючки. Только что зубы не скалит.
Так могла бы радоваться миру юная богиня, рожденная матерью всех богов Тетеоинан и только что снизошедшая с небес, чтобы познакомиться с землей. Цьянью приводили в изумление и восторг мельчайшие детали мироздания... она удивлялась даже мне и самой себе. Живость натуры Цьяньи и ее невероятная жизнерадостность напоминали лучи волшебного света, что постоянно играют внутри изумруда. Меня не переставало поражать ее совершенно неожиданное отношение к самым, казалось бы, обычным вещам.
– Нет, мы не будем раздеваться, чтобы заняться любовью, – заявила моя невеста, когда мы впервые остановились на ночлег. – Только в одежде, как тогда, в горах.
Я, естественно, попытался возразить, но она стояла на своем.
– Позволь мне приберечь свою наготу до первой брачной ночи. Раз уж я не смогу после свадьбы подарить тебе невинность, так пусть хоть это придаст нашей супружеской близости новизну.
Я повторяю, ваше преосвященство, что подробный рассказ о нашей совместной жизни вряд ли может кого-то заинтересовать, ибо она была богата не столько событиями, сколько чувствами, а чувства, такие как любовь или счастье, передать словами намного сложнее, чем описать какие-нибудь происшествия. Могу лишь сказать, что, когда мы поженились, мне было двадцать три года, а моей возлюбленной – двадцать, однако возникшее между нами чувство оказалось не только пылким, что естественно для такого возраста, но и стойким. Во всяком случае, со временем наша взаимная любовь не угасла, но обрела новую глубину и силу. Почему так произошло? Трудно сказать.
Правда, теперь, когда я вспоминаю минувшее, мне кажется, что в тот далекий день, в самом начале нашего пути, Цьянья нашла очень верные слова, определяющие ее сущность.
Помню, увидев в траве одну из смешных длинноногих птиц-скороходов (такая птица встретилась ей впервые в жизни), она задумчиво промолвила:
– Почему, интересно, эта птица предпочитает землю небу? Я, будь у меня крылья, никогда бы этого не сделала. А ты, Цаа?
Аййа, дух ее действительно обладал крыльями, и эта окрыленность передавалась и мне. С самого начала мы стали не только любовниками, но и друзьями, делившими поровну радости и тяготы предстоявшего нам долгого приключения. Мы любили приключения и любили друг друга. Ни один мужчина и женщина не могли бы, наверное, просить у богов большего, чем они дали нам с Цьяньей. Я мог, пожалуй, желать только одного: исполнения обещания, содержавшегося в ее имени: чтобы это продолжалось всегда.
На второй день мы нагнали направлявшийся на север отряд купцов-сапотеков. Их носильщики были нагружены панцирями черепах. Товар это предназначался для ольмеков: их ремесленники, распарив панцири и придав им различную форму, изготовляли из них украшения или использовали этот материал для инкрустации. Торговцы радушно пригласили нас присоединиться к их компании. Хотя вдвоем мы проделали бы весь путь быстрее, но с караваном было безопаснее. Поэтому мы приняли их предложение и дошли вместе до городка Коацакоалькоса, лежавшего на перекрестье торговых путей.
И вот, едва мы вступили на рыночную площадь и Цьянья принялась радостно порхать среди разложенных на лотках и земле товаров, как прямо над моим ухом взревел до боли знакомый голос:
– Так ты, оказывается, жив? Выходит, мы зря придушили тех разбойников!
– Пожиратель Крови! – радостно вскричал я. – О, и Коцатль тоже тут! Что это вы забрели в такую даль?
– Да так, – ответил старый воин усталым голосом, – скука, знаешь ли, замучила.
– Врет, – выдал товарища Коцатль, превратившийся за время моего отсутствия из мальчика в нескладного голенастого подростка. – Мы беспокоились о тебе.
– Ничего мы не беспокоились, а просто скучали! – стоял на своем Пожиратель Крови. – Я даже распорядился выстроить тебе в Теночтитлане дом, но надзирать за каменщиками и штукатурами – это занятие не для меня. Тем паче что строители и сами не раз давали понять, что без моих подсказок работа у них пойдет куда как более споро. Кстати, и Коцатлю после стольких приключений учеба показалась не слишком увлекательной. Вот мы с парнишкой и решили найти тебя и выяснить, что ты поделывал эти два года.
– Мы и понятия не имели, где тебя искать, – подхватил Коцатль, – да случай помог. На здешнем рынке мы наткнулись на четверых малых, пытавшихся продать кое-какие ценные вещи, среди которых мы узнали твою застежку.
– Откуда у них твои вещички, эти пройдохи вразумительно объяснить не смогли, – продолжил Пожиратель Крови, – поэтому я отволок их прямиком в суд. Грабителей допросили с пристрастием, признали виновными и удушили цветочной петлей. Как теперь выяснилось, не совсем справедливо. Впрочем, они так и так заслужили казнь, наверняка на их совести много преступлений. Короче говоря, держи: вот твои застежка и зажигательный кристалл.
– Ну вы и молодцы! – восхитился я. – А разбойникам поделом: они напали на меня, избили, ограбили, а потом бросили, сочтя мертвым.
– Мы тоже боялись, что ты умер, но не теряли надежды, – сказал Коцатль. – А поскольку других дел у нас все равно не было, обшаривали здешнее побережье вдоль и поперек. Ну а сам-то ты, Микстли, что делал?
– Тоже шастал по побережью, – ответил я. – Искал сокровища, как обычно.
– Нашел? – пробурчал Пожиратель Крови.
– Ну, я нашел себе жену.
– Жену! – Он отхаркался и сплюнул. – А мы-то боялись, что ты всего лишь умер.
– Все тот же неисправимый старый брюзга! – Я рассмеялся. – Но погоди, посмотрим, что ты запоешь, когда ее увидишь...
Я огляделся, позвал Цьянью, и она тут же явилась, царственная, как Пела Ксила или госпожа Толлана, но несравненно более красивая. За то время, что я беседовал с друзьями, она успела обзавестись новой блузкой, юбкой и сандалиями, переодеться в обновки и украсить свою белую прядь радужным переливающимся жуком, которого мы называем «живым самоцветом». Полагаю, я и сам уставился на нее с не меньшим восхищением, чем оба моих друга.
– Правильно ты назвал меня старым брюзгой, Микстли, – признал старик. – Аййо, девушка из народа Туч – это воистину бесценное сокровище!
– Я узнал тебя, госпожа, – галантно обратился к девушке Коцатль. – Ты была юной богиней в том храме, который маскировался под постоялый двор.
Я познакомил своих друзей с Цьяньей, которым она явно пришлась по душе, а потом сказал:
– Как удачно, что мы встретились, я ведь собирался по пути зайти в Шикаланко, где меня поджидает еще одно сокровище. Думаю, вчетвером мы сможем донести его сами, не нанимая носильщиков.
И мы все неспешно отправились дальше – в путешествие по стране, где мужчины ходят, согнувшись под тяжестью своих имен, а женщины поголовно, словно ламантины, жуют жвачку. И наконец прибыли в мастерскую мастера Такстема, который показал нам, что ему удалось сделать из гигантских зубов. Поскольку я уже знал кое-что о качестве материала, с которым сам же и поручил ему работать, мое потрясение при виде того, что вышло из рук мастера, было не столь велико, как у Коцатля и Пожирателя Крови. Как я и просил, Такстем сделал фигурки почитаемых в Мешико богов и богинь разной величины, а также резные рукоятки кинжалов и гребни. Но кроме того, мастер, уже по собственной инициативе, выточил черепа величиной с настоящие черепа детей, украсив их искусно выгравированными сценами из старых легенд, сделал удивительные шкатулочки с тщательно пригнанными крышками и флакончики для благовоний копали с затычками все из того же материала. Еще там были красивые медальоны и застежки для накидок, свистки и броши в форме крохотных ягуаров и сов, цветов и кроликов, а также изысканное фигурки обнаженных женщин.
Работа была столь тонкой, что рассмотреть как следует иные детали оказалось возможным только с помощью моего приближающего кристалла. Это относилось, например, к тепили на фигурке обнаженной девушки размером не больше шипа агавы. Следуя полученным от меня указаниям, Такстем не потратил впустую ни одного кусочка или осколочка, все пошло в дело: на серьги для ушей и носа, на браслеты для щиколоток и запястьев и, наконец, на элегантные зубочистки и палочки для чистки ушей. И все эти предметы, большие и маленькие, отсвечивали желтоватой молочной спелостью, словно были вырезаны из луны и светились внутренним светом. Касаться их было так же приятно, как и на них смотреть: их поверхность художник сделал столь же гладкой, как кожа на груди Цьяньи. Как и ее кожа, эти вещи, казалось, манили: «Коснись меня, приласкай меня...»
– Ты обещал, молодой господин Желтый Глаз, что мои изделия достанутся только тем, кто их достоин, – сказал Такстем. – Так позволь же мне сделать первый выбор самому.
С этими словами он наклонился, поцеловал землю перед Цьяньей и, выпрямившись, повесил ей на шею изысканную волнистую цепочку, состоявшую из сотен звеньев. Наверняка, чтобы вырезать их из твердого цельного костяного массива, он потратил уйму времени. Цьянья вся просияла и промолвила:
– Мастер Такстем оказывает мне великую честь. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из смертных мог быть достоин таких чудесных вещей. Их следовало бы приберечь для ваших богов.
– А по-моему, – возразил мастер, – красивая молодая девушка с молнией в волосах и именем, означающем на языке лучи «всегда», больше похожа на настоящую богиню, чем каменные изваяния.
Мы с Такстемом поделили между собой все изделия согласно уговору, после чего разложили мою долю по четырем сверткам. В виде поделок груз был уже далеко не таким громоздким, как исходный материал, так что мы вчетвером должны были без особого труда доставить его домой, не прибегая к помощи носильщиков. Первым делом мы отнесли свои сокровища в ближайшую гостиницу, где привели себя в порядок, подкрепились и остались на ночь.
На следующий день я выбрал из наших новых приобретений один предмет – ножны для маленького ножа, на которых был выгравирован Кецалькоатль, уплывающий в море на сплетенном из змей плоту, и пока Коцатль с Пожирателем Крови показывали моей невесте достопримечательности города, облачился в лучшее платье и, направившись во дворец, испросил аудиенции у тамошнего правителя, табаскуба. Не знаю уж, почему вы, испанцы, положили его титул в основу названия целой страны, назвав Табаско большую часть бывших земель ольмеков.
Владыка принял меня достаточно любезно. Как и большинство представителей других народов, он вряд ли питал к Мешико особую любовь. Однако его страна жила за счет торговли, а наши торговцы были самыми многочисленными и богатыми.
– Владыка табаскуба, – сказал я, – один из твоих умельцев, мастер по имени Такстем, изготовил партию редкостных изделий, которые я рассчитываю продать с большой выгодой. Однако, по моему разумению, первый образец нового товара должен быть преподнесен правителю этой земли. Так что позволь мне подарить тебе вот это от имени Чтимого Глашатая Мешико, Ауицотля из Теночтитлана.
– Ну что же, дар щедрый, да и жест весьма продуманный, – промолвил он, рассматривая ножны с нескрываемым восхищением. – До чего же искусная работа! В жизни не видел ничего подобного.
В качестве ответного подарка табаскуба дал мне маленькое перо золотого порошка для мастера Такстема и короб с покрытыми золотом не только для красоты, но и для пущей сохранности удивительными обитателями моря (морской звездой, веткой коралла и морскими коньками), попросив передать эту диковину от его имени Чтимому Глашатаю Ауицотлю. Из дворца я вышел с приятным чувством: кажется, я поспособствовал, пусть и совсем чуть-чуть, налаживанию добрососедских отношений между ольмеками и мешикатль.
Разумеется, я не преминул упомянуть об этом, когда сразу по прибытии в Сердце Сего Мира предстал пред очами Ауицотля. Я надеялся, что подарок поможет мне умилостивить Чтимого Глашатая: мне так хотелось, чтобы он позволил совершить наш с Цьяньей брачный обряд одному из главных придворных жрецов. Однако Ауицотль лишь бросил на меня сердитый взгляд, прорычав:
– Как ты смеешь просить нас о подобной милости, в то время как дерзко ослушался наших прямых указаний?
– Я? Ослушался? Но каких указаний, мой господин? – спросил я с искренним недоумением.
– Когда ты доставил нам отчет о своем первом путешествии на юг, я предупредил тебя, что вскоре ты нам понадобишься для последующего обсуждения твоего донесения. А ты вдруг взял и исчез, тем самым лишив Мешико возможности развязать столь нужную и полезную войну. Сначала ты пропадаешь неведомо куда, а потом, заявившись через два года, смеешь просить у нас покровительства в связи с предстоящей свадьбой.
– Чтимый Глашатай, – промолвил я, все еще пребывая в растерянности, – поверь, я никогда не позволил бы себе уйти вопреки приказу своего владыки. Я тогда, должно быть, чего-то не понял. Да признаться, я и до сих пор не понимаю, о какой упущенной возможности идет речь и о какой войне ты толкуешь.
– Из твоего письменного отчета следовало, – прорычал правитель еще более грозно, – что ваш караван подвергся нападению разбойников-миштеков. А мы, да будет тебе известно, никогда не позволяли разбойникам безнаказанно грабить наших почтека. – По правде сказать, у меня сложилось впечатление, что на меня юй-тлатоани гневался значительно больше, чем на разбойников. – Останься ты на месте, чтобы выступить с жалобой, у нас появился бы хороший повод послать против этих миштеков войска. Но при отсутствии жалобщика...
Я с должным смирением и покорностью пробормотал подобающие извинения, но тут же добавил:
– Мой господин, невелика честь взять верх над жалкими миштеками, да они и не обладают ничем таким, ради чего их стоило бы побеждать. Однако на сей раз я вернулся из чужих краев с новостями о народе, у которого имеются сокровища, ради которых можно затеять поход, не говоря уж о том, что они заслуживают наказания, ибо обошлись со мной весьма грубо и непочтительно.
– Кто посмел обидеть нашего купца? И какими такими сокровищами это племя обладает? Ну-ка выкладывай! Возможно, тебе и удастся оправдать себя в наших глазах.
Я рассказал правителю о своем путешествии на морское побережье, о том, что там, на вдающихся в море скалах, обитает дикая и злонравная ветвь племени гуаве, именующаяся чонталтин, или цью, или попросту «бродяги». Я поведал Чтимому Глашатаю, что только этому племени известно, когда и куда следует нырять за морскими улитками, которые, хотя и весьма неприглядны с виду, выделяют поразительную темно-пурпурную краску, которая никогда не выцветает и не меняет цвет. Я упомянул о том, что такой уникальный товар будет поистине бесценным, а потом рассказал владыке, как мой проводник-сапотек был зверски убит «бродягами» и как мы с Цьяньей едва избежали подобной участи. Мой рассказ привел Ауицотля в такое возбуждение, что он вскочил со своего медвежьего трона и принялся мерить шагами зал.
– Да, – сказал он, хищно ухмыльнувшись. – Столь гнусное преступление, направленное против одного из наших почтека, вполне оправдало бы карательный поход, а один только пурпур с лихвой возместит все расходы. Но стоит ли нам довольствоваться укрощением одного лишь жалкого племени гуаве? В той стране наверняка немало и других сокровищ, достойных того, чтобы они стали нашими. Не так давно, при моем отце, Теночтитлан уже заставлял покоряться себе этих гордых сапотеков.
– Осмелюсь напомнить Чтимому Глашатаю, – торопливо промолвил я, – что его почтенному отцу Мотекусоме не удалось удержать завоеванную страну в покорности прежде всего в силу ее отдаленности. Для покорения сапотеков Мешико пришлось бы содержать там постоянные гарнизоны, а как в таком случае снабжать находящихся столь далеко наших воинов? Даже если бы нам удалось установить и поддерживать свою власть над этой страной, расходы намного превзошли бы возможные выгоды.
– Похоже, – проворчал Ауицотль, – у тебя всегда найдутся доводы против достойной войны...
– Не всегда, мой господин. Но в данном случае я бы предложил заручиться поддержкой сапотеков в качестве союзников. Они посчитают для себя большой честью выступить против гуаве бок о бок с мешикатль. А потом можно обложить побежденных данью, лучше всего в виде их драгоценного пурпура, но не в нашу пользу, а в пользу правителя земли Уаксьякак господина Коси Йюела.
– Что за вздор? Ты предлагаешь мне затеять войну, сражаться, победить, а потом отказаться от плодов победы?!
– О Чтимый Глашатай, выслушай меня. Одержав победу, ты заключишь договор, обязав Уаксьякак продавать пурпурную краску только нашим купцам. Таким образом выиграют оба народа, ибо, разумеется, наши почтека будут потом перепродавать краситель намного дороже. А сапотеки гораздо прочней, чем силой, окажутся привязанными к нам выгодной торговлей и тем, что вместе с нами ходили в поход против общего неприятеля.
Правитель все еще хмурился, но мои слова заставили его призадуматься.
– Хм, и то сказать: выступив в союзе с нами один раз, они смогут сделать это и в другой, ив третий... – Он одарил меня почти одобрительным взглядом. – Эта мысль кажется мне здравой. Решено: как только наши прорицатели выберут благоприятный день, мы отдадим приказ о выступлении. Ну что ж, текуиуа Микстли, готовься принять воинов под командование.
– Но, мой господин, я собрался жениться!
– Ксокуиуи! – выругался правитель. – Жениться тебе никто не запрещает, но солдат, а уж тем паче командир должен всегда быть готов откликнуться на призыв своего вождя. И не забывай, что именно ты – наш живой предлог для того, чтобы развязать войну.
– Владыка Глашатай, в моем присутствии не будет никакой нужды. Предлог для вторжения уже готов.