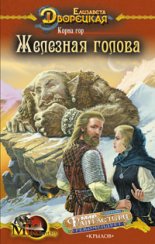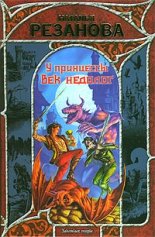Поп и пришельцы Хаецкая Елена
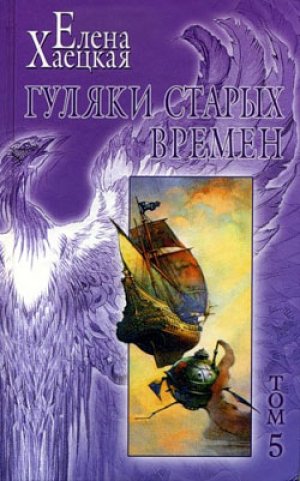
В 2241 году Пасха приходилась на 2 мая. В селе Поярково на реке Шексна многие встречали ее с особенной радостью. Она представлялась истинным освобождением от долгого, тяжелого сна, поразившего Поярково с осени. Об этом и говорил в воскресный день священник Николаевской церкви отец Герман Машуков.
Николаевский храм был просторный, каменный и холодный. Его возвели в середине XXI века и сгоряча сделали большим – тогда и жертвователи нашлись, и строители-энтузиасты из райцентра и области приезжали – и освятили именем последнего русского царя. Спустя полвека храм запустел. В Пояркове и близлежащих селах не набиралось народу выстаивать длинные службы. Хор состоял тогда из трех старух и был, в силу естественных причин, плохоньким.
Потом вышло так, что местный поп полез подновлять на куполе кресты, навернулся и разбился насмерть. Тут уж заговорили о разной неприятной ерунде: что храм-де проклят, что выстроен он на кровавые бандитские деньги, что царь-то Николай считался в народе как Кровавый.
Приехал человек, копал под стеной храма, нашел коричневый конский череп без зубов и открыл корреспонденту местной газетки, что Николаевский храм возведен на месте языческого капища, где предки-славяне поклонялись исконным богам. С тех пор паства окончательно оскудела. Лет семьдесят храм пустовал. Предприимчивые жители Пояркова то и дело пытались найти ему применение – например, под кустарные мастерские народных промыслов или там склад, – но Церковь цепко держала ветшавшее здание в руках и согласие на такое дело не давала. Молодые люди и девушки проникали туда целоваться и ради иного, а дети – стращаться и доказывать храбрость. Говорили также, что если зачать ребенка в алтаре Кровавого храма, то будет большой убийца.
Когда в 2235 году в Поярково прибыл неожиданно новый поп с женой и пятнадцатилетним сыном, то встретили его с некоторым изумлением. Никто не предполагал даже, что найдется охотник служить в Николаевском храме. К тому же с приездом попа наглядно и окончательно рухнули неоформленные надежды владельца кролиководческого хозяйства г-на Драговозова прибрать здание для собственных нужд.
Поярковцы все нашли время побывать возле храма и невзначай поглядеть на отца Германа – как он отдирает с окон доски и сбивает с дверей ржавый замок. А заодно и на его матушку – каково-то ей понравится кособокий домишко, выстроенный еще прежним злополучным попом. Домишко был чрезвычайно неприглядный, облупленный, стекла выбиты, занавески черны от пыли и стоят колом, повсюду мыши – особенно в шкафу. Сын-подросток сперва помогал отцу с досками, потом пошел на Шексну купаться.
Отец Герман солидного впечатления никак не производил. «Жидкий», – объявил дядя Мотях. Дядя Мотях был очень черный, с множеством жил на шее, которые беспрестанно шевелились и пульсировали, как бы отдельно от всего прочего организма. Из одежды дядя Мотях ценил сапоги, все прочее на нем было старое и неопределенное. Кроме того, он очень много пил, но пьяницей не был. Работу ему давали, например, сторожем, но ничего делать не требовали.
Поярковский мотоциклист Андрей Курмей, тридцатилетний с лишком лихач, безнадежно застрявший в женихах, оказался с дядей Мотяхом не согласен. Новый поп хоть и выглядел хлипковато – рыжеватый, с мелким лицом, даже как будто застенчивый – неприятно напоминал гибэдэдэшника.
– Я тебе говорю, не будет с него проку, – упрямо сказал дядя Мотях. – Пугнут завтра – он и съедет.
Курмей хмурился, качал редеющими кудрями. Очень ему поп не нравился. Прямо по сердцу царапало: оштрафует!..
Матушка, напротив, выглядела успокаивающе: женщина внушительных объемов, на лбу озабоченная складка, губы бантиком, пухлые щеки в крошечных красненьких прожилочках. Поярковские дамы ее вполне одобрили, две даже зашли в дом и поглядели, как она управляется с барахлом от прежних владельцев.
– Мыши вчистую все съели и загадили, – рассказывала потом одна из них возле магазина-«стекляшки».
Беседа смолкла на миг, когда со стороны Шексны к магазину вышел попович – в мокрой одежде и с подбитым глазом. Едва он миновал собрание, как разговоры возобновились. Дядя Мотях гнул свое – скоро попа как пить дать выкурят, поскольку он тут без надобности, а даром его кормить дураков нет. Курмей, демонстрируя разведенке Надежде Соколик мужественно обнаженную шею-колонну, тосковал и предрекал от попа беды.
Затем на дорогу к «стекляшке» выбрался старообразный восемнадцатилетний Стафеев, первый год работавший на кроликовода г-на Драговозова, и с ним верный его прилипала Стасик Мрыхов пятнадцати лет; оба – в неприглядном виде. Стасик хлюпал носом и безуспешно унимал кровь, стекавшую на подбородок. Стафеев оглядел собравшихся жуткой подушкой на месте левого глаза, сплюнул розовой пеной, невнятно выругался и купил папиросы.
– А я что говорил, – сказал Курмей. – Чем он тебя, Стафеич?
– Палкой, – донеслось сквозь разные другие слова. И укоризненно Стафеев вскричал, обращаясь к Мрыхову: – Говорил тебе, держи его! Тютя!
Мрыхов всхлипнул, больше от позора. Стафеев сунул ему папиросу.
Тем временем матушка Анна Владимировна выкинула ветошь и вылила на пол первое ведро мыльной воды. Сын-подросток с холодной примочкой на глазу сжигал во дворе мусор. Отец Герман непонятно и гулко гремел в храме. Поярковцы бродили вокруг, приглядываясь, но с приезжими не заговаривали. Зато к ночи в домик храбро проникла старуха Котофеевна и принесла в качестве гостинца кислой капусты в банке. Ее угостили городским чаем. Обстоятельная матушка очень глянулась Котофеевне; что до попа, то он, как она впоследствии делилась, «мужчина так себе – ни рыба ни мясо». Мальчик спал и прихода старухи не видел. Матушка спросила у Котофеевны кошку, и та обещала поспособствовать с котеночком.
Первые несколько месяцев отец Герман служил в пустом храме. Со стены на него взирали большие глаза Спаса – штукатурка облупилась вся, оставив только эти глаза. Иконостаса давно не было – отец Герман, в первый же день своего приезда обнаружив это, установил дощатую перегородку и прикрепил к ней две простые бумажные иконки Спаса и Богоматери Казанской, а прямо посреди храма водрузил специально привезенный большой образ государя Николая в византийском царском облачении. Николай был ласков и грустен, но как-то слабоволен и не мудр, а потому и не мог как следует запугать и тем самым внушить к себе надлежащее почтение.
Заново освящать храм приезжали важные священники из Вологды, а потом опять отец Герман остался один.
Что отца Германа в поярковцах по-настоящему удивило, так это их нелюбопытство: ни один из них не пришел на Литургию, даже из пустого интереса. Старуха Котофеевна старалась избегать встреч с Анной Владимировной, поскольку тоже в храм не захаживала, хотя поначалу и обещалась.
Вечерами отец Герман совершал долгие прогулки по шоссе, что проходило в двух километрах от Пояркова. Думал.
Шоссе в ночном воздухе выглядело белым. Мистически рассекая громадины лесов, оно уносилось вдаль, к краю черепашьего панциря. Леса были здесь зековские и языческие, там, в непролазной чащобе, перемещались развалившиеся вышки и ползали призрачные узкоколейки, сдвигались с места обглоданные червями идолы, глухо мычали божки со стертыми лицами и такие же вертухаи. Все это кишело в дремучих здешних лесах и отступало только перед дорогой.
А по дороге, под черным звездным небом, гремящими звездами мчались мотоциклисты. Они летели, ревя, мимо отца Германа, разгоняясь с каждым мгновением до космической скорости, и для них ничего в мире не было, кроме звезд и дороги, и казалось, что прямо с дороги, как с трамплина, они взлетали в небеса и повисали там новыми беспокойными звездами. А отец Герман – персть земная – тихо брел себе по обочине и на все это смиренно любовался.
В августе того же 2235 года произошел – не перелом даже (перелома так и не случилось) – но маленький надлом в положении отца Германа, и связано это было с вознесением над краем черепахи Андрея Курмея, стареющего сердцееда и мотоциклиста. Хмурые люди, частично в штатском, показали плачущей Надежде Соколик закрытый гроб и обломки знакомого мотоцикла. К одному обломку приклеилась светлая прядь и темное, липкое – Надежда взвыла и осела рядом. Когда ее привели в чувство, того обломка уже не было. Она зачем-то рассказала, что вчера Андрей от нее уехал в десять вечера, а ночевать не приехал, но такое и прежде случалось. Она расписалась на каких-то бумагах, и ее доставили домой.
В доме Курмея отыскалась бабушка Курмей, очень старенькая, пахнущая мышами. Бабушке ничего объяснять не стали. Она на всех глядела добрыми незабудковыми глазами, утопленными в море мелких морщинок, и улыбалась беззубо и радостно. С помощью бабушки в буфете, в рюмке с отбитым краем, обнаружили крестик Курмея и командировали Надежду к попу, чтобы мотоциклиста отпел, как положено. Надежда накрасила губы и решительно пошла.
Отец Герман нашелся на огороде. Сверял что-то с грядки с тем, что было в тоненькой затрепанной книжке. Надежда деликатно протиснулась в калитку, прошла несколько шагов, и тут поп поднял глаза. Она сразу остановилась.
– Добрый день, – сказал отец Герман с любопытством.
Надежда от души колыхнула грудью, собралась было заговорить о своем деле, но заплакала.
– Вот, – вымолвила она сквозь слезы, и с ее пальцев свесился на цепочке крестик. – Крестик у него был… отпеть…
Отец Герман посерьезнел, крестик взял, Надежду отвел на веранду и угостил там чаем. Отпевание назначили на завтра. Надежда ушла успокоенная и отчасти гордая собой.
Закрытый гроб доставили из милиции прямо в церковь. Смущаясь, стали собираться люди. Ждали чего-то нового. Дядя Мотях сдернул кепку с маленькой, просаленной, черной головы и принялся вертеться по сторонам и клацать языком о зубы. Стасик Мрыхов был бледен и шепотом сознавался Стафееву, что боится покойников. Бабушка Курмей, завидев гроб, вдруг забеспокоилась, зашлепала по крышке руками, залопотала и впала в мрачную тревогу. Ее усадили на скамеечку у входа и там оставили.
К собравшимся вышел наконец отец Герман. Пришло человек сорок. Он всю ночь думал над тем, что скажет им. Нужно было сказать нечто такое, что заставило бы потом хотя бы десять из сорока прийти снова.
– Современный человек обычно делает вид, что смерти не существует, – начал отец Герман. – Поэтому она застигает его врасплох.
Он хотел бы сказать им о том, что чувствует на самом деле: как вздрогнули в дремучих лесах темные нежити, когда Курмей вдруг рассыпался над их головами множеством ярких осколков.
– Андрей, думается мне, был хорошим человеком, – сказал вместо всего этого отец Герман.
И уж конечно тотчас нашелся человек, который отметил:
– Смерть забирает лучших.
Этим человеком оказался Игнатий Федорович Адусьев, владелец магазина-«стекляшки». Высказавшись так, он громко вздохнул и оглянулся.
Отец Герман стремительно напал на него:
– А вот это неверно, – сказал он. – На самом деле смерть забирает всех.
Это их напугало. Запереглядывались. Дядя Мотях скривил губу, которая без папиросы смотрелась неприлично голой. Стафеев раздул ноздри. Страстотерпец царь Николай взирал на него сочувственно.
Не получилась речь к прихожанам.
Отпели и закопали мотоциклиста, прикрутили проволокой к кресту фото. На снимке Курмею лет двадцать – все то же самое, только нет истасканности. Надежда, ощущая себя как бы вдовой, взяла к себе бабушку Курмей. А та, оказавшись снова на печке, опять погрузилась в светлое беспамятство. Так и преставилась под самое Рождество 2236 года.
Теперь в храм стали захаживать. Слушали, полуоткрыв рот, – недолго, правда, быстро соскучивались и уходили. Дядя Мотях говорил: «Излагает мудрено, иные слова как не по-русски. А вот запах там приятный».
Отчаянно смущаясь и от всех таясь, Стасик Мрыхов покрестился и купил за десять рублей молитвенник и образок. «Мне Курмей снился, – признался он отцу Герману. Стасик говорил так невнятно, что священник едва разбирал сказанное. Да еще голову свесил почти до колен. – Усы у него почему-то… Покреститься советовал…»
Надежда тоже сперва ходила в храм, но потом обиделась крепко, когда отец Герман указал ей на существенную разницу между «возлюбила много» и «возлюбила многих».
Перед Пасхой 2236 года неожиданно явился сам г-н Драговозов с супругой и двумя дочками. Драговозов был крупен и мясист – килограммов сто первосортной буженины; супруга его, напротив, худощавая и с виду злая, похожая на белокурого кузнечика; дочки, семи и четырнадцати лет, – красивые и неожиданно милые. Девочек отправили в сад – смотреть скворечник.
Господин Драговозов втиснулся за накрахмаленный стол, несколько раз с трудом повращал головой, озираясь. Обстановка маленького, очень бедного дома, казалось, вызывала у него большое недоумение. Супруга снисходительно поместилась на стул и сразу стала производить впечатление странного, совершенно лишнего предмета. Матушка ушла готовить чай. Драговозов пошевелился, откуда-то извлеклись конфеты в расфранченной коробке и очень глянцевая книжка «Кролики Драговозова» с красавицей в сарафане. По косе красавицы карабкались к ее кокошнику пушистые кролики, а еще одного она держала на руках.
– Это… – выдавил Драговозов. Стул под ним пискнул, и Драговозов снова замер.
Тем временем из драговозовской машины вышел человек и выгрузил во дворе большой блестящий предмет.
Отец Герман занял третий стул, обтер ладони о колени и показал, что готов слушать.
– Кроликов вам, – объяснил Драговозов, указывая за окно.
– За это спасибо, – вполне искренне произнес отец Герман.
Вошла Анна Владимировна с чайником, разлила по чашкам чай. Она заметно суетилась, зачем-то разглаживала складку на скатерти, а потом уселась и притихла. Когда дошла очередь до конфет, она опять на миг оживилась, выковыряла конфетку из коробки, заметила, что раньше были еще конфеты «Птичье молоко», но сюда их не завозят, и снова замолчала.
– Это… – молвил Драговозов. – Кролики дохнут.
Отец Герман непроизвольно метнул взгляд за окно. Драговозов сразу понял:
– Эти, вроде, здоровые… Если что – заменю. Дохнут у меня. – Он постучал толстым пальцем по красавице в кокошнике. – Двух ветеринаров уволил, третий аж из Москвы – дохнут! – Он стукнул кулаком по столу. Стол оказался крепче, чем вглядел.
Анна Владимировна, чуть покраснев, снова разгладила скатерть.
– В общем, так, – подытожил Драговозов, – надо молебен.
Отец Герман задумался.
– Если что надо, я добавлю, – обеспокоился Драговозов.
– Молебен отслужить можно, – проговорил отец Герман наконец. – Но есть несколько условий.
Драговозов с готовностью кивнул.
– Вы верите в Бога?
Вопрос застал Драговозова врасплох. Наконец он сказал:
– Это… Кролики дохнут…
– А насчет молебна – это вам кто присоветовал?
– Московский ветеринар, – сказал Драговозов и крякнул.
– Сделаем так, – решил отец Герман. – Сначала вы с семьей примете крещение. Я вам объясню, что это значит.
Драговозов задвигался. Отец Герман успокоил его:
– Займет час, от силы полтора. А потом сразу кролики. Но предупреждаю: может не помочь. Я ведь не шаман и не заклинатель скота.
– Какие проблемы! – сказал Драговозов. – Шамана в области нет, я уж искал. По объявлениям в газете – фуфелки! Я наводил справки. Порекомендовали вот вас. Так и говорили: мол, гарантий нет, но если помогает – то уж помогает.
– Кто это говорил?
– Одна скотница, – отмахнулся Драговозов. – Ей в одном деле помогло, она приходила свечу ставила.
– Ясно, – сказал отец Герман. – Ситуация такая. Лично я ничего дать не могу, могу только просить за вас, а там уж как Господь управит. Если вы креститесь, вероятность положительного решения вашей проблемы возрастает. Но гарантий все равно нет – здесь уж без обид.
Драговозов чуть развел ладони:
– Нет проблем. Завтра – вас устроит?
И отбыл, забрав жену и дочек. Садок с кроликами остался во дворе, как артефакт после приземления инопланетян – непривычно блестящая, из новейшего полимерного материала вещь. И кролики в садке казались тоже какими-то нездешними, хотя охотно угостились листом вполне земной капусты.
На следующий день к Николаевскому храму подъехали три автобуса – ярко-фиолетовые, с красными стрелами на бортах. Стрелы, если приглядеться, представляли собой стилизованных кроликов с прижатыми к спине ушами.
Колеса в последний раз возмутили апрельскую дорогу, моторы умерли, и из распахнувшихся дверец начали вылезать работники драговозовского хозяйства. Затем из-за поворота выскочил автомобиль господина Драговозова и, окатив воздух веером жидкой грязи, затормозил у порога. Показались три серебристые шубки и сам Драговозов в мягкой куртке.
Храм наполнился людьми, и в нем сразу стало как будто светлее. Женщины испуганно переговаривались, не зная, как относиться к происходящему – в частности, к образу царя Николая в византийской шапке с крестиком наверху. Две заспорили насчет его жены – была или нет. «Если его портрет тут, значит, он святой, – говорила одна, – а у святых жен не бывает».
Отец Герман чувствовал легкую панику. Он вышел к собравшимся – перед облачением все шарахались в мистическом ужасе. Драговозов, чуть покачиваясь, приблизился, оглядел, повернувшись всем корпусом, приведенную им толпу, и выговорил:
– Это… Можете приступать.
Матушка пересчитывала имевшиеся в наличии крестики. Выходило двадцать восемь, а требовалось не менее девяноста. Когда она привезла сюда из городской лавки тридцать, то думала, что хватит надолго. За первые месяцы крестили только Стасика Мрыхова да еще одного младенца, принесенного бабушкой со следующей формулировкой: «Говорят, скоро конец света – пусть хоть Митенька в рай попадет». А тут – практически весь профсоюз!
Отец Герман сказал:
– Значит, так. Железных крестов на всех не хватит, поэтому сейчас будем делать из палочек. – И быстро, безошибочно глянул туда, где уже зрел вопрос: «А разве это можно, чтобы крестики нефирменные?» – Они будут вполне действительными после освящения. Можете их потом заменить на железные, серебряные или золотые, кому как нравится.
Никто не тронулся с места. Ждали еще чего-то.
– Насколько я понял, здесь члены профсоюза? – сказал отец Герман. – Пусть ко мне подойдет секретарь.
Настороженно приблизился молодой мужчина.
– Возьмите десять работников, – обратился к нему отец Герман. – Лучше женщин, у них руки ловчее. Анна Владимировна покажет, что и как делать. За двадцать минут управятся.
Господин Драговозов омрачился, чуть вжал голову в плечи, стал мясистой скалой.
– Вы не предупредили меня, – упрекнул его отец Герман. – Я приготовил все только для вас четверых.
– Справедливо, – проворчал Драговозов. Но все равно остался недоволен.
Пока вязали крестики, отец Герман рассказывал о храме и о царе Николае (заодно и о его жене), добавил несколько слов о смысле крещения. Кругом носили воду, переругивались и смеялись, куда-то укатывались катушки ниток – все напоминало подготовку к детскому празднику. Панически трещали в потревоженном воздухе тонкие свечки, царь Николай улыбался с иконы.
«Кто из них вернется сюда потом? – думал отец Герман. – Кто сохранит деревянный крестик, пусть даже в рюмке с отбитым краем?»
Он крестил всех – девяносто три человека. Драговозова, оказалось, звали Николаем – как царя-святого. Это обстоятельство изумило Драговозова, словно удар дубины, и он, уже уходя, пожертвовал на храм десять тысяч рублей – как раз хватит на ремонт отопительной системы. Отчасти смягчило Драговозова и то обстоятельство, что его семья получила железные крестики, чин по чину, как положено.
Три автобуса, величавые, как каравеллы, отбыли, сверкая среди голых деревьев и бледненьких весенних полей. Воздух над полями и между стволов был зеленоватый. Отец Герман как будто смотрел сквозь взвесь зеленки, хотя еще даже почки на деревьях как следует не лопнули. В приоткрытое окно возле водительского места влетал будоражащий кисловатый запах, пьяный, как пиво.
Кролиководческое хозяйство помещалось в трех километрах от Пояркова. К нему вела довольно сносная грунтовая дорога, которая сразу за хозяйством обрывалась. Лет десять назад ее асфальтировали, но асфальт давно заплыл почвой. Автобус плавно повернул, словно заложил пируэт, и показался длинный кирпичный дом, возле которого был гараж.
Выгрузились. Господин Драговозов поехал рядом на машине.
Отец Герман предполагал увидеть длинные ряды садков, но вместо этого перед ним предстала большая поляна с загончиком на краю. Поляна была вся совершенно покрыта густой сочной травой-скороспелкой, немного химического – чрезмерно яркого – цвета. Как будто это место принадлежало нереальному миру – было создано какими-нибудь феями, например. И везде были кролики. Они грызли траву или вдруг, скачком, тяжело перемещались. А иногда какой-нибудь кролик вдруг замирал, прислушивался к чему-то внутри себя, а затем глаза у него становились как пуговицы, и он опрокидывался, точь-в-точь как игрушка. За те несколько минут, что отец Герман рассматривал поляну, это произошло не менее пяти раз. Две женщины в оранжевых резиновых перчатках до локтя бродили по поляне, выискивая и подбирая за уши ставших игрушечными кроликов – тех бросали в тележку. Неестественная электрическая зелень травы посреди непробудившейся еще природы, растопыренные черные деревья и мириады умирающих кроликов – все это показалось отцу Герману видением Апокалипсиса, и он вспомнил одного своего бывшего сослуживца, еще из прошлой жизни, такого веселенького пессимиста Артемия Сырейщикова, который частенько говаривал: «Босх ничего не придумывал».
Провели молебен о сохранении скота, освятили хозяйство и гараж. Потом состоялся банкет.
Спустя месяц после Пасхи 2230 года явился Драговозов – один, без семьи и шофера, бодрый, существенно более подвижный и разговорчивый. Сказал, что мор прекратился совершенно, и привез для Анны Владимировны шубку.
Постепенно жизнь налаживалась, хотя службы до сих пор иной раз шли в пустом храме или при одном молящемся. То мирилась с отцом Германом, то опять на него обижалась Надежда Соколик. С годами пышные формы Надежды усохли, и она стала строгая и красивая.
Вырос и уехал учиться в Москву сын отца Германа Алеша. Старуха Котофеевна не менялась и по-прежнему коснела в духовном мраке. Большие беспокойства доставлял Стасик Мрыхов. Спустя два года он возрос в худого юношу с тревожными прозрачными глазами. На его подбородке засквозила растительность, которая еще не успев как следует вырасти, уже сделалась неопрятной. Стасика посещали видения, и он вечерами тоскливо скребся к отцу Герману – рассказать. «Не знаю, что и делать, – жаловался отец Герман матушке Анне Владимировне. – Он ведь меня не слушает… Возможно, сие излечивается с помощью брома».
Стафеев женился на стряпухе из рабочей столовой драговозовского хозяйства Алевтине Галкиной.
Дядя Мотях возглавлял атеистическую оппозицию, имевшую штаб-квартирой магазин-«стекляшку». Главным аргументом на протяжении всех этих лет дядя Мотях имел тот, что поп-де осуждает употребление спиртного. «Грех, видите ли! – язвил дядя Мотях. – Грех, значит, – после работы выпить свои законные! Куда ему понять, сам-то не работает, а только кадилом машет. Нет уж, мы сами по себе, а он пусть сам по себе и не пьет».
Кроме того, у отца Германа имелся также ученый оппонент – местный учитель и краевед Иван Петрович Гувыртовский. Он родился в Пояркове, учился в Петербургской Академии Культуры и принципиально поехал работать обратно в Поярково, где и преподавал в течение последующих двадцати пяти лет все предметы начальной школы. После четвертого класса школьники передавались учебным заведениям областного или районного центра. До района ходил автобус, который был то платный, то бесплатный, смотря по эпохе.
Иван Петрович был высок, худ, немного сутулился, носил коричневый мятый пиджак. В быту он был совершенный аскет. От привычки язвительно поджимать губы – а это он делал весьма часто, например, ожидая ответа на вопрос: «Как мы пишем ША, ЩА, ЖИ, ЩИ?» – на его лице образовались специфические складки, которые лишь слегка видоизменялись при попытках Гувыртовского улыбнуться. Вообще это был мрачный человек. Краеведение только усугубляло эту особенность его характера. Везде находил он кости, наконечники стрел, ржавые снаряды и каски, гигантские шпалы от зековских узкоколек.
Гувыртовский тесно сотрудничал с районной газетой. Он усыпил бдительность тамошнего редактора безобидной статьей про Пушкина и получил предложение стать внештатным корреспондентом. С тех пор Гувыртовский снес в редакцию без счета сочинений, среди которых были его стихи, рассказы-«были» и записки краеведа: «Об уточнении числа расстрелянных в бывшей Земляникиной балке», «Братские могилы рассказывают», «В поисках лагеря ВК-679», «О чем поведал пробитый шлем» и другие. В последние годы Гувыртовский увлекся идеей неопознанных летающих объектов. Следствием этого увлечения стали очерки «Мы не одиноки во Вселенной», «Гости на пороге», «Готовы ли мы» и еще несколько.
В Пояркове знали, что Иван Петрович пишет, относились к этому со снисходительной завистью и иногда читали газету с очередной статьей учителя, однако побеседовать о сути изложенного – по-настоящему побеседовать – этого Гувыртовскому было не с кем. Редактор от него прятался и от общения всячески уклонялся. Материалы принимала женщина-ответсек, она же выдавала скудные гонорары. Но ответсек всегда была всегда занята, а кроме того, ничего не знала.
И вот в селе появился поп. Иван Петрович сразу угадал в нем своего естественного собеседника. Он завел привычку являться к отцу Герману вечерами, не реже двух раз в неделю, порой спугивая Стасика, и неизменно приносил к чаю кулек чрезвычайно жестких безвкусных белых сухарей. Гувыртовский считал себя интересным человеком, и это очень чувствовалось.
В самом начале знакомства его с попом Гувыртовский притащил пухлую папку с вырезками своих статей и предложил ознакомиться, поскольку отцу Герману, несомненно, нужно владеть, так сказать, информацией, чтобы полноценно общаться.
Отец Герман честно ознакомился. Многое в заметках показалось ему поучительным и наводило на серьезные размышления. Как это ни странно в отношении священника, но отец Герман Машуков всегда был далек от мистики. «Чудо вообще, – говорил он, – это не феномен, а явленная сущность». В этом они безбрежно с Гувыртовским расходились. Иван Петрович искал чудес вовне – вне предметов, людей, явлений природы – и считал их чем-то наружным, что вдруг обляпывает некую произвольно избранную вещь и делает ее особенной. Отец Герман был уверен в обратном: чудо глубоко скрыто везде и присуще всему изначально – уже просто в силу того, что весь мир был чудесно и таинственно сотворен Богом. Иногда, в силу обстоятельств, чудесная сущность вещей вдруг обнажается перед человеком. И в этом смысле какой-нибудь ручей Понявка не менее чудесен, нежели священная река Иордан.
Некоторые заметки краеведа касались истории Николаевского храма. Рассказывая о жизни «якобы святого» царя Николая, Гувыртовский явно путал его с Гришкой Распутиным. Это особенно разъярило отца Германа, и когда Гувыртовский явился в следующий раз, заранее торжествуя, священник прямо с порога спросил его:
– А убиенного царевича Димитрия вы, вероятно, смешиваете с Гришкой Отрепьевым?
У них так с первого дня повелось: сразу о деле, без ритуалов типа «добрый вечер» или «погоды нынче благодатные».
Гувыртовский от такой атаки растерялся, заморгал. Отец Герман вынес ему двумя пальцами статью «Кровавый царь, кровавый храм» и поболтал ею в воздухе.
– В общем так, – проговорил он, – если вы в ближайшем же номере местной газеты не напечатаете опровержение этой гадости, я вас удавлю, а улики подделаю – сочтут за самоубийство.
Гувыртовский вдруг осознал, что поп не шутит. Он машинально развернул принесенный с собою кулек, сунул в рот сухарь и с чудовищным хрустом перекусил его. Наконец сказал зло:
– Дайте хоть чаю, если вы интеллигентный человек.
– Черта вам лысого, – сказал отец Герман и плюнул, – а не моего чаю. Сперва прилюдно извинитесь и напишите правду, а пока и близко к моему дому не подходите.
– Вам надо, вы и пишите, – огрызнулся Гувыртовский.
– Ну уж нет! Вступать с вами в полемику я не буду. Вы у нас писатель, вот и постарайтесь.
Гувыртовский замялся. Дело в том, что с отцом Германом ему было интересно. По-настоящему интересно – как еще ни с кем не было, даже в Академии Культуры, где его считали занудой. А кроме того, хоть Иван Петрович и был аскет, но пирожки с клюквой, выпекаемые Анной Владимировной… но машуковский обжитой дом, где у Гувыртовского уже образовался «свой угол»… Как всего этого лишиться?
– Сделаю, – буркнул он. – Только книжку мне какую-нибудь дайте, с информацией… Я же больше с местными преданиями работаю…
Отец Герман нырнул в дом и скоро вернулся с тоненькой книжкой.
– Вам хватит, – сказал он.
Гувыртовский породил новую статью, «Правда о святом царе», снес ее в редакцию и целый месяц почти ежедневно ходил на почту – звонить туда и интересоваться: как? Он боялся, что статью отвергнут. В конце концов статья вышла в одном из воскресных номеров. Иван Петрович отправился к попу мириться.
Тот даже обрадовался его приходу. Все творения Гувыртовского были к тому времени отцом Германом изучены, и он вполне подготовился к разговору.
Иван Петрович безмолвно вручил отцу Герману газету и был допущен в дом, где сразу уловил сдобный запах.
– Сегодня с яблоками, – объявила Анна Владимировна.
В магазине ей сказали, что у Ивана Петровича в Петербурге есть жена, но они со студенческих времен не виделись и даже не переписываются. Матушку это сильно огорчило, и она воплотила свое сочувствие к Ивану Петровичу в пирог. Уж на что Герман Васильевич всегда любил ее пироги, но такого благодарного едока, как бесприютный Гувыртовский, матушка в жизни своей не видела.
– Я вам, Анна Владимировна, стихи посвятил, – объявил он, насыщаясь, и полез в карман пиджака, где сыскалась бумажка из школьной тетради. На обороте Анна Владимировна ясно видела выведенное детской рукой слово «ДЕКТАНТ».
Стихи начинались так:
- Когда иду в гостеприимный дом,
- То знаю: плодотворным будет вечер,
- И проведем его мы все втроем
- И разойдемся вплоть до новой встречи.
Далее излагались во всех подробностях впечатления Гувыртовского от пирогов. Например, одна строфа перечисляла достоинства теста:
- Не только дрожжи, но и доброта
- Замешаны в душистое их тесто,
- Присуща им особенная красота,
- Они пышны, как разодетая невеста.
Закончив читать, Иван Петрович спрятал листок, но обещал переписать красиво и в следующий раз преподнести.
– То, что вы пишете про НЛО, очень любопытно, – сказал отец Герман, резко меняя тему разговора.
Что в Гувыртовском было хорошо – он никогда не требовал обстоятельного разбора своих поэтических произведений. Их можно было даже не хвалить. Они существовали сами по себе как объективная реальность. Другое дело – статьи.
– Откуда вы брали материал? – поинтересовался для начала отец Герман.
– Отчасти из центральных изданий, – ответил Иван Петрович. – Кроме того, здесь несколько лет работала группа уфологов из Москвы и Пензы. Они много интересного рассказывали, давали литературу. Они и личным опытом делились, кстати. С ними был еще один американец, так это вообще кладезь информации.
– Я анализировал описанные вами случаи похищения людей инопланетянами, – сказал отец Герман. – Много общего. Во-первых, сами жертвы. Как правило, это домохозяйки или мужчины с неустроенной личной жизнью, проживающие в глубинке. Москвичи, как я понял, больше их исследуют, а похищаются разные – обобщающе говоря – поярковцы. Как правило, жертвы обитают кучно – в одном регионе.
– Ну и что? – насторожился Иван Петрович. – Это вполне объяснимо. Генетический материал в провинции чище!
– Только водкой порчен, – вздохнул отец Герман. – Что до Америки, то там вообще нет и не может быть «чистоты», ни расовой, ни даже национальной. Нет, генетическая чистота – это не объяснение.
– А у вас есть свое толкование? – осведомился Иван Петрович.
– Да.
Гувыртовский поерзал на стуле. Ему очень хотелось курить, но в доме священника, в присутствии икон, это было запрещено.
– Изложите? – спросил Гувыртовский.
– В свое время. Продолжим анализ. Все эти жертвы пошли на контакт практически добровольно: увидели свет, заинтересовались и т.д. Свет, как я понимаю, был очень яркий, но заинтересовались далеко не все. Затем жертвы были обездвижены, с ними проделали нечто, что практически всегда воспринималось ими как сексуальное насилие. После чего их отпустили. И что же они делают дальше?
– Что? – не понял Гувыртовский.
– Ну подумайте, подумайте! Как ведут себя, например, жертвы автомобильных аварий?
– Лечатся, – сказал Иван Петрович.
– Именно! – воскликнул отец Герман. – Именно что лечатся! И стараются забыть о случившемся. А жертвы ограблений?
– То же самое? – рискнул Гувыртовский.
– Да. Теперь посмотрите, как поступают похищенные инопланетянами. Они собираются в клубы, где бесконечно возвращаются к своему опыту контакта с пришельцами.
– Ну да, – сказал Гувыртовский. – Американцы первыми создали такие центры общения, наши позаимствовали опыт. Что тут плохого? Этим людям необходимо было получить поддержку, осознать, что они не одиноки – ведь им никто не верил!
– Итак, создаются клубы, центры поддержки, группы общения и так далее, – продолжал отец Герман. – Теперь обратим внимание на то, кто руководит этими группами. Как правило, это «квалифицированные специалисты» из больших городов. На какие мысли пока что наводит вас информация, рассортированная подобным образом?
Гувыртовский заморгал красноватыми веками. Наконец выговорил:
– Вы хотите сказать, что все это на самом деле организовали спецслужбы для испытания биологического оружия?
Отец Герман расхохотался. Он смеялся так долго, что Гувыртовский вышел на двор курить. Он вернулся более или менее успокоенный и собранный, готовый встретить любые выводы отца Германа.
Отец Герман сказал:
– Картина поразительно напоминает средневековую эпидемию ведьм. Совпадение по всем основным точкам.
– Вы, кажется, предлагаете учредить инквизицию? – осведомился Гувыртовский, поджимая губы. – Организовать травлю этих несчастных?
– К сожалению, это невозможно… Во-первых, преследования не помогают, а зачастую наоборот – разжигают эпидемию. Во-вторых, возможны перегибы…
– Я не понимаю, – надулся Иван Петрович. – Какую связь вы видите между невежественными средневековыми ведьмами и современными образованными людьми?
– Некая область, где-нибудь в глубинах штата Монтана или бескрайней Сибири, внезапно подвергается массовым похищениям людей инопланетянами. Если вы помните, эпидемии ведьм тоже охватывали целые районы. Не было такого, чтоб везде по две ведьмы или там по десять. Где-то их сотни, а где-то – ни одной.
– Внешнее совпадение.
– Одно совпадение можно считать случайным, – согласился отец Герман. – Но их куда больше. Подавляющее большинство жертв – женщины, которым очень скучно. Скука, особенно если эмоционально неуравновешенный человек живет вдали от источников информации, – убийственная вещь. Она порождает самых извращенных маньяков, самые дикие фантазии. Если говорить прямо и грубо, то жертвы НЛО – это малообразованные, изнемогающие от недостатка эмоций мазохисты.
– Секс! – презрительно молвил Иван Петрович и скривился.
– Воплощенные эротические фантазии крайне мазохистского толка, – повторил отец Герман. – Абсолютно то же самое рассказывали ведьмы.
– Под пытками! – возразил Иван Петрович. – Давно доказано, что обвиненные в ведовстве наговаривали на себя по указке палачей.
– Вовсе нет, – возразил отец Герман. – Для людей, одержимых диаволом, пытки – это способ самопознания, так что арест и допросы в застенках входят в их программу. Помните, что они говорили о шабашах? Кроме всего прочего – сношение с диаволом, в крайне болезненной и унизительной форме. И тем не менее ведьмы стремились испытывать это снова и снова – точно так же, как люди, которых похищали повторно, в третий раз и так далее.
Иван Петрович начал поддаваться.
– А центры общения? – спросил он. – Какая здесь точка соприкосновения с ведьмами?
– Протоколы инквизиции содержат много подробностей, и все они сходятся. О чем это говорит? – Отец Герман не стал дожидаться ответа и ответил сам: – Об общей информационной базе. Ведьмы рассказывали друг другу, и неофитки в точности знали, что именно им надлежит увидеть и пережить.
– Галлюцинации?
– Нет, – сказал отец Герман. – Явленная сущность. Руководят группами по обмену информацией хорошо образованные люди из больших городов. Я думаю, что это сознательные сатанисты, которые поддерживают своих подопечных в нужном градусе. Контактеры считают себя особенными, у них свой круг друзей, своя культура и прочее. Это фактически секта. Как было и с ведьмами.
– Я одного не понял, – сказал Иван Петрович, – вы согласны с тем, что инопланетяне существуют?
– Это не инопланетяне, – сказал отец Герман. – Самые обычные бесы. В средние века человек твердо знал, что у беса есть рога и копыта – ему и являлся гражданин с рогами и копытами. Теперь человек знает, что должен узреть зелененького гуманоида с большой головой и глазами-тарелками. Бес об этом осведомлен не хуже человека и уж конечно не обманет ожиданий. Знаете, Иван Петрович, сколько раз бывало, что человек, которого, например, грабят в темной аллее, взывает к Богу, к Ангелу-Хранителю?
– Наверное, часто, – согласился Гувыртовский. – Особенно если милиции нет.
– Тогда почему же этого никогда не делали похищаемые инопланетянами?
– Откуда вы знаете?
– Обычно жертва очень подробна в описаниях своих переживаний. «Тут я подумала о своих детях… Меня мучила обида – почему это со мной происходит… Я все думала: выдержу или не выдержу…» Если человек в минуты сильной беды молится, он всегда вспоминает об этом.
– Ну и почему же, по-вашему, контактеры не молились?
– Потому что им нравилось общаться с бесами, – ответил отец Герман. – Потому что бесы исполнили их сокровенные желания.
– Вы – обскурант! – твердо произнес Гувыртовский.
Отец Герман развел руками:
– Мои выводы построены на вашем материале. Попробуйте их опровергнуть, Иван Петрович.
– Хотелось бы знать, – медленно проговорил Гувыртовский, – что бы вы запели, если бы здесь приземлились настоящие инопланетяне? Не бесы, как вы говорите, а живые гуманоиды? Которые не удирают при виде креста и не рассыпаются от молитвы?
– Кстати, о молитве, – сказал отец Герман. – Почему вы не посещаете церковь? Беспокойства в вас лишнего много.
Гувыртовский обещал прийти в следующее воскресенье и действительно отстоял всю службу вместе с Надеждой Соколик, Стасиком Мрыховым и двумя работницами с фермы Драговозова, но беспокойства в учителе после этого если и убавилось, то самую малость.
Одни годы проходили быстрее, другие медленнее. При поддержке благодарного Драговозова Анна Владимировна устроила в бывшем хлеву на задах поповского дома воскресную школу. С тех пор, как вырос Алеша, матушка тосковала по деткам. В хорошие годы она учила по десять, а то и пятнадцать ребятишек; на праздники ставили разные спектакли: к Рождеству – «Снежную королеву», к престольному празднику на Николу Летнего 18 июля – миракль «Царевна Анастасия, школьница и хулиганы», к Пасхе – действо «Разговор Лонгина со своей душой». Девочки помладше играли снежинок и ангелов, а мальчики – пастухов и солдат. Самых красивых выбирали на роли Герды, царевны Анастасии и Души Лонгина.
Осенью 2240 года события вдруг пошли непрерывной чередой, одно за другим, и время повело себя еще более странно, чем обычно: день пролетал, как один час, набитый происшествиями почти до отказа; но количество дней как будто возросло, и неделя тянулась дольше месяца.
Началось со Стасика Мрыхова. Стасик был постоянная головная боль отца Германа. Он перешел двадцатилетний рубеж, но работать нигде не стал – его подкармливали жалостливые женщины за ничтожную помощь по хозяйству, а иногда и Анна Владимировна. Впрочем, благодеяниями матушки отца Германа Стасик старался не злоупотреблять. В магазине-«стекляшке» его особенно не любили, во всеуслышание подозревали в воровстве или стыдных и заразных болезнях и неизменно прогоняли. Господин Адусьев, владелец магазина, распорядился продавать ему хлеб только со служебного входа. Также гоняла Стасика и старуха Котофеевна – за то, что он якобы ворует еду у ее кошек.
На самом деле ничем стыдным или заразным Стасик не хворал, а просто так иногда казалось из-за его обыкновения ночевать там, где заставала ночь: на берегу Шексны, под стеной церкви в кустах, а зимой – то на почте под батареей электроотопления, то на подстанции, а то и в хлеву под брюхом буренки. Когда Стасик не спал, глаза его непрестанно двигались на застывшем тонком и бледном лице, словно выискивали в прозрачном воздухе ангелов или бесов, и от этих изнурительных поисков Стасик всегда страдал.
Однажды – с этого и началась бесконечная осень 2240 года – он заснул посреди дня на автобусной остановке в двух километрах от села, на шоссейной дороге, которая связывала Поярково со всем остальным обитаемым миром. Остановка была большая, прочная, крытая прозрачным стеклопластиком. К одной из боковых ее стен был пристроен небольшой киоск, где иногда летом вдруг появлялся человек, у которого можно было купить теплое пиво или леденцы. Однако чаще всего киоск пустовал, а пыльное стекло его стенки изнутри облепляли выгоревшие ценники без товара. Другая стена остановки украшалась мозаичным изображением кролика в русской рубашке и шароварах.
Стасик любил смотреть на шоссе. Оно казалось ему таинственным и иногда как будто само собою двигалось в дальние миры. Любил он и наблюдать прибытие рейсового автобуса: как он уверенно катит сперва к Пояркову, а затем прочь; гадать о пассажирах – что за нужда сорвала их с места и погнала куда-то, словно опавшие листья? Кто ждет их дома? К кому они едут в гости? В стасиковых мечтах выходило так, что все эти люди были счастливы и ехали навстречу еще большему счастью. От этих мыслей он тихонечко вздыхал.
Иногда выходившие пописать в лес дамы подавали Стасику рубль. Стасику виделось в их походах в лес что-то невыразимо трогательное, целомудренное. Он вообще ужасно жалел женщин. «Они ведь как ангелы, – говорил он отцу Герману. – Если не станут отягощать себя земными заботами, барахлом всяким, кофточками, маникюрами, то и по земле-то ходить не смогут, а мы их еще и осуждаем».
У Стасика был один любимый куст при дороге – осенью его листья становились густо-красными, так что среди желтых и зеленых пятен он один пылал, как костер, дерзкий, пышный и радостный. Разглядывание куста приводило Мрыхова в восторг – он начинал прозревать языки пламени и необычайное, прекрасное, небесное лицо. Но никогда до конца так ничего и не увидел, а от усталости всматривания частенько засыпал.
Вот и в тот день заснул и спал, наверное, долго – одеревенел; за полчаса до прихода по расписанию автобуса его пробудили. Какие-то незнакомые. Один настойчиво тряс за плечо, другой стоял за спиной и был пока Стасиком не видим.