Дело Томмазо Кампанелла Соколов Глеб
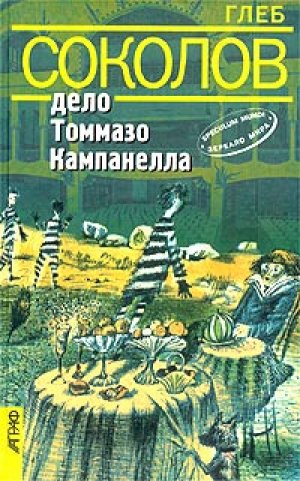
Завистливый школьник остро чувствовал, что он теряет время, что что-то надо делать. Ему было даже странно, что он вообще вошел в этот зал после всего, что с ним сегодня произошло, после всего, что он сегодня увидел и услышал. Ведь здесь он мог лишь сидеть и потреблять!.. Вроде как его развлекали! Какой жалкой ему казалась эта роль: быть просто развлекаемым! Повышать твой культурный уровень!.. Ерунда! Никогда он не был тупым потребителем чего-то, что делали другие!.. Если он и был готов играть в эту игру, то лишь играть в нее на равных с актерами: пусть будет пять актеров, но и пять зрителей, пусть не только актеров здесь уважают, но и зрителей, пусть не только актерами восхищаются, но и зрителями. Пусть зрители тоже что-то дают им, актерам, и актеры ими, зрителями, за это восхищаются. Пусть актеры не воспринимают зрителей лишь как благодарное им, актерам, стадо, которое в нужный момент хлопает в ладоши и, встретив своих кумиров в фойе театра, униженно просит их расписаться на программке спектакля. Пусть Лассаль тоже выпрашивает у зрителей автографы!
Да, именно в этот момент завистливый школьник решил что он больше не может и не должен оставаться в зале театра. К тому же от выпитого в буфете вина его стало очень сильно тошнить.
– По рассказам. И столько я о вас слыхал того сего… – неслось со сцены.
Завистливый школьник три раза подряд громко икнул. А где же Таборский?..
Он привстал со своего кресла и, вертя головой, осмотрел зал. Он увидел едва проступавшую в темноте лепнину балконов и лож, слегка поблескивавший хрусталь огромных люстр, до его ушей донеслись какие-то неясные, приглушенные шорохи и покашливания. По-прежнему шел спектакль… Да, вот уж чего он сам от себя не ожидал, так это такой покорности: после всего, что ему наговорила пожилая женщина, которая продавала театральные буклеты, после разговора про яркие и неяркие профессии, он вместе с остальными баранами-зрителями приплелся в этот зал и принялся потреблять наравне со всеми предлагавшуюся со сцены жвачку. Хотя к баранам-зрителям он не испытывал особой злости, наоборот – ему было их жалко: скорее всего, они просто не понимали всей унизительности собственного положения. Баранам-зрителям не хватало ума для того, чтобы осознать, в каких пошлых, тупых, ничтожных и никем не уважаемых потребителей всего этого «искусства», хотя еще надо проверить, что это за «искусство», – искусство ли это на самом деле? – их превращают в угоду вот таким вот Лассалям. Да что там Лассаль – он тоже был лишь частичкой большой театральной системы. Быть может, даже ее жертвой… Да где же этот чертов Таборский?!. Неужели он уже вышел из зрительного зала?!. Хотя, с другой стороны, только такой уход и мог быть единственным правильным решением, избавлением от позора!.. Самому развлекать и раздавать автографы – это одно, но так быть развлекаемым – это совсем другое!.. Куда же все-таки этот Таборский запропал?.. Ведь вроде после того, как в зале погас свет, из него никто не выходил!.. Может, Таборский, поджидая кого-то у входа в театр, все-таки не успел на спектакль?.. Ну да Бог с ним, с Таборским!.. Теперь уже совсем не до него: самому уходить надо!.. Уходить отсюда прочь!.. Уходить!..
Между тем, как ни старался Шприх завести дружбу, – все было тщетно. В конце концов, когда он наконец отошел в сторону, Лассаль проговорил со злостью: «портрет хорош, – оригинал-то скверен!»
Самая большая масса скверных оригиналов сидела в зрительном зале!.. И потому, не мешкая, из него надо было уходить!.. И даже не уходить, а бежать…
От выпитого вина завистливому школьнику становилось все хуже и хуже.
– Каков Арбенин! Каков!.. Как играет! – продолжал на свою беду восторгаться пожилой зритель. – Стоит посмотреть!.. – прошептал он, наклонившись к завистливому школьнику.
В этот момент завистливый школьник наконец не выдержал, – встав со своего кресла он проговорил так, что было слышно всему залу:
– Посмотреть-то стоит, потому что, спору нет, Арбенин хорош!.. Но вы-то, зритель, сами что же?!. Вы-то, зритель, каковы? Что же, все один Арбенин хорош?!. А вы сами-то, зритель – что?!. Получается, вас тут вовсе нет, на вас тут никто внимания не обращает. Лассаль хорош, спору нет!.. А вы-то каковы и где?!. Нет тут вас, зритель, вовсе, вот что!
– Почему же, я есть… – опешил пожилой зритель. – Молодой человек!.. Ты?!. Я есть!.. – от растерянности он тоже заговорил достаточно громко.
– Это вы там где-то есть, где вы ходите или ходили когда-то на свою работу!.. Надо ли вам так здесь унижаться?!.. Ведь пойдут же они, в конце-концов, все к черту вместе со своим театром!.. Бедный пожилой зритель, не унижайтесь! – странно, но в тот момент, когда завистливый школьник поднялся с кресла и распрямился, извержение, которое начиналось у него где-то в желудке, замедлилось и тошнота на мгновения слегка ослабла.
– Я никак не унижаюсь… – пожилой зритель изумился еще больше и посмотрел по сторонам. Он понимал, что весь зал и, наверняка, актеры со сцены смотрят теперь на них. Пожилой зритель не знал, как себя вести, он попытался схватить завистливого школьника за воротник, но тот увернулся.
– Вас здесь с вашей неяркой профессией просто не существует, с тем неярким успехом, которого вы добились в жизни… Мне очень жаль вас!.. – на глаза у завистливого школьника наворачивались слезы. – Жалко вас, правда! Жалко!.. Мне вас жалко!.. Вы – жертва!.. Несчастная и жалкая жертва!..
Между тем Арбенин-Лассаль начал говорить какие-то важные по сюжету слова, но его монолог оказался полностью сорванным. В этот момент никто уже не следил за тем, что происходило на сцене. Сидевшие в зале зрители смотрели на громко кричавшего завистливого школьника и пожилого театрала, а не на великого актера Лассаля, игравшего роль Арбенина.
И тут – о ужас! – Арбенин перестал говорить и повернулся лицом к залу, хотя по мизансцене он не должен был этого делать. Пристально вглядываясь в полумрак зрительного зала, он, не мигая, смотрел на завистливого школьника. Да, точно, ошибки быть не могло: Лассаль смотрел именно на завистливого школьника.
Но завистливый школьник ничуть не испугался этого пристального взгляда, ему теперь было все равно: пусть Лассаль смотрит, пусть великий актер даже взбешен – Лассаль сам это заслужил. Нечего было делать идиотов из зрителей! Зрители не такие идиоты! Есть и среди зрителей толковые люди, которые понимают что к чему.
– Мне-то самому наплевать. Я театром не интересуюсь… Каков Арбенин или он совсем не каков – мне это без разницы… Мне вас, дурака, жалко!.. – громко, на весь зал проговорил напоследок завистливый школьник.
На коленях пожилого театрала был приготовлен букет роз.
– Слушай, ты, мерзкий мальчишка!.. – из-за душивших его чувств пожилой театрал так и не смог договорить фразы, а вместо этого замахнулся букетом роз и швырнул его в завистливого школьника.
Букет попал завистливому школьнику в лицо и немного его расцарапал.
– Завистник! – выкрикнули из зала с негодованием.
- Я не завистник!.. Но оправдываться я перед вами не стану!.. – огрызнулся завистливый школьник, продираясь к выходу и спотыкаясь при этом о чьи-то коленки. Пару раз его больно ущипнули за ногу какие-то тетеньки. Но и он отдавил немало ног. Какой-то дядька, так же как и пожилой театрал, попытался схватить его за ворот, но завистливый школьник оттолкнул его руку.
С разных концов зала к нему уже спешили несколько билетерш.
Завистливый школьник все-таки выскочил за двери, и едва он оказался в узком коридоре, как его сильно, фонтаном стошнило. Это был конец. Он решил, что теперь, за крики в зале, за произведенное в театральном коридоре безобразие, его обязательно должны забрать в отделение, а худшего завершения истории в театре, чем привод в милицию, придумать было невозможно, потому что из милиции обо всем обязательно бы сообщили в школу, а после такого сообщения, какая могла быть школьная дискотека?!. Всем его мечтам и планам придет конец!..
Конец!..
И из-за кого навалилось на него это несчастье?!. Из-за ярких и впечатляющих людей, встреченных на улице, из-за пожилой женщины, продававшей буклеты с ее разговорами про яркие и неяркие профессии, из-за великого актера Лассаля, из-за этого пакостного театра с лицедеями на сцене и на портретах в театральном фойе. Ох, и нехороших же людей повстречал он на свою беду сегодня!.. И как ни стремился он раскрыть их коварные подлости, как ни противодействовал им, а все-таки они его настигли, достали, победили, испортили жизнь! Все-таки один-ноль оказался в их, а не в его пользу!.. И Таборского с его деньгами они унизили!.. Они привычно, как делают это каждый вечер, унизили зрителешек-баранов. Пожилого театрала они в который раз уже унижают. Черт возьми, как нехорошие театральные люди, получается, сильны!..
Пока завистливый школьник об этом думал, он стоял, оцепенев, лицом к произведенному им бесчинству: часть стены театрального коридора, ковровая дорожка и стул были безобразно перепачканы, и он даже сам чувствовал, как отвратительно здесь теперь пахло, хотя от подлинной силы запаха завистливый школьник, может, ощущал только одну десятую часть.
Но завистливый школьник тем не менее не раскаялся, а со злостью подумал: «Стоило метнуть содержимое на портреты актеров, на их отвратительную портретную галерею! Чертовы угнетатели!»
А вокруг завистливого школьника тем временем все сильней разгоралась суета: билетерши несли тряпки и ведро с водой, какая-то тетенька, стоявшая рядом с ним, непрерывно обругивала его последними словами, но он не обращал внимания на эту ругань. Завистливый школьник понимал, что он действительно задал трудившимся в театре теткам неприятной, лишней работы. А они-то как раз в его теперешнем тягостном положении никаким образом не виноваты.
Вот одна из билетерш с размаху ударила завистливого школьника по лицу половой тряпкой, и он медленно, совершенно не имея больше ни на что сил, отошел чуть в сторонку. Странно, завистливый школьник уже словно позабыл, что собирался уйти из театра, что именно поэтому он вышел из зрительного зала. Завистливый школьник как будто чего-то ждал, как будто то, что с ним произошло, принесло ему некоторое физическое облегчение, но никак не способствовало разрядке напряженности в его душе. Завистливый школьник стоял так, словно он ждал чего-то еще, словно до сих пор с ним не произошло чего-то главного, того, что только и могло теперь, после всего, что случилось с ним в этот вечер в театре, умиротворить его возмущенную душу. Он ждал еще чего-то, хотя прекрасно понимал, что ничего больше не будет, кроме разве что появления милиции, которая возьмет его под руки и уведет отсюда. И даже то, что никто, кажется, не спешил до сих пор за милицией, его не радовало. Вонючие испарения, что исходили от безобразия, которое театральные тетушки именно теперь вытирали, уже распространились из коридора по всему фойе театра. В завистливом школьнике не было ни одной мысли об его любимом увлечении, об его любимой радиоэлектронике. Мысли и мечты, которые были связаны с радиоэлектроникой, были раздавлены черным туманом, точно он был все еще там, в зале, вместе с остальными зрителями, и свет по-прежнему был погашен.
Коридор, в котором сейчас находился завистливый школьник, огибал зрительный зал дугой и одной стороной выходил в фойе театра и к гардеробу, а другой своей стороной заканчивался стенкой, в которой была небольшая дверь, которая, судя по всему, была заперта на ключ и обычно никогда не открывалась. Было неясно, куда вела эта странная запертая дверь… Но вдруг раздался громкий лязг проворачивавшегося в замке ключа, потом странная дверь дернулась, раздался громкий треск, но дверь не отворилась, – что-то мешало ей сделать это.
Завистливый школьник невольно устремил свой взор к странной двери в конце коридора, но теперь уже слева от дверей, что вели в зрительный зал, через которые он вышел только несколько минут назад, послышался скрип прикрываемых дверных створок. Завистливый школьник повернул голову на этот скрип и увидел, что тот самый пожилой театрал, который сидел рядом с ним в зале, теперь вышел в коридор и медленно к нему приближается.
Но и справа, там где была странная дверь в конце коридора, что-то происходило: вновь послышался сильнейший треск, точно кто-то, пытаясь отворить дверь, резко толкал ее. Наконец давно не смазывавшиеся петли противно заскрипели. Завистливый школьник резко обернулся на этот скрип и остолбенел еще сильнее чем прежде: из распахнувшейся загадочной двери появилась нога Арбенина в лоснившейся мертвым блеском фрачной брючине, его лаковая туфля, та самая, которая так запомнилась завистливому школьнику во время спектакля, и вот уже великий лицедей Лассаль показался собственной персоной на пороге странной двери в конце коридора. Из-за плеча великого актера Лассаля высовывалась голова Шприха, который мерзко улыбался некой дьявольской, предвкушавшей что-то недоброе улыбкой. По росту Арбенин был выше, чем Шприх, и тому приходилось привставать на носки, чтобы увидеть что-то из-за его спины.
Какая-то гроза должна была вот-вот разразиться над головой завистливого школьника. Теперь он решил, что миновать отделения милиции не удастся почти наверняка.
Получив от разъяренного Лассаля хлесткую, тяжелую пощечину, завистливый школьник упал на пол и попытался закрыть лицо руками… Но ударов больше не последовало. Лишь Шприх неловко и потому совсем не больно пнул завистливого школьника концом туфли по мягкому месту.
Билетерши онемели, полностью растерявшись и не зная, как им себя вести.
Вдруг завистливый школьник разревелся, как маленький ребенок, размазывая ладонью по лицу слезы и уже выступившую кровь.
Пожилой театрал подошел ближе и наклонился над ним.
– Мне же было интересно. Такой вкусный спектакль!.. Почему же ты мне не дал им насладиться?!.. Духовная пища не менее важна для человека, чем пища телесная. Почему ты меня так обидел? А?.. Такой вкусный спектакль! Не хочешь, чтобы я духовную пищу вкушал?!. Ведь не каждый же день доводится такое посмотреть. Театр – это мое. Я его очень люблю! И всегда любил, даже сам в самодеятельности игрывал. И сейчас люблю. Обожаю, можно сказать… Хотел насладиться… «Маскарад»!.. Любимый с детства Лермонтов. Михаил Юрьевич!.. Так вкусно было!.. Правда, ей-ей, я слово это люблю: «вкусно»… Точное словцо!.. А ты!.. Как же дошел до жизни такой?!.. Старику, пенсионеру – а не дал!.. А?!. Старой перечнице не дал вкуснотой себя побаловать. Чем же перечница-то провинилась?! А?!. – произнес пожилой театрал. В его лице было тихое страдание. Седые волосы растрепались, обнаружив круглую блестящую лысину, придававшую голове пенсионера еще более беззащитный вид. Его дешевенький галстучек съехал на бок, а шариковой ручки в кармане пожилого зрителя больше не было. Быть может, шариковая ручка выпала на пол и теперь валялась где-то рядом со смятым букетом роз.
Пожилой театрал помог завистливому школьнику подняться с пола, затем, достав из кармана носовой платок, энергично принялся оттирать с его лица кровь.
– Мальчишка!.. Щенок!.. Дурак!.. – при этом приговаривал пожилой театрал. – Но бить-то его – чего?..
– Не надо… Ну не надо… – завистливый школьник отвел от себя руку с платком и сделал шаг в сторону от пожилого театрала.
– Что же, по-вашему, просто лениво сидеть и быть развлекаемым – это удовольствие?! Это вкусно?!. – спросил завистливый школьник у пожилого театрала, судорожно сглотнув при этом слюну.
– А разве нет?! Вкусно! – убежденно ответил пожилой зритель. – А вот насчет лениво сидеть – это ты не разобрался…
– А быть в центре внимания – это еще более вкусно!.. – неожиданно прокричал завистливый школьник.
– Ну знаешь, молодой человек, ты какой-то тупой! – поразился пожилой театрал. – Тебя ничем не прошибешь…
А завистливого школьника уже было нельзя остановить:
– Может, вы еще скажете, что все профессии являются одинаково яркими? – спросил он у тех, кто стоял вокруг него в театральном коридоре.
– Яркими?!.. Что значит яркими? – удивился пожилой театрал.
– Постойте… – вдруг вспомнил что-то завистливый школьник. – Вы же… Вы же сами себя только что выдали!.. Вы же играли в самодеятельности. Значит, стремились хоть как-то быть причастным к яркому, к яркой актерской профессии. Точно, вы сами себя выдали! Ох, как вы себя выдали!.. Я полностью прав! Прав!.. Я-то никогда в самодеятельности не участвовал, к ярким профессиям не стремился. Я радиоэлектроникой, электроникой… – завистливый школьник засмеялся. История показалась ему очень простой и определенной.
В эту секунду завистливый школьник получил вторую пощечину от Арбенина-Лассаля.
Отшатнувшись, завистливый школьник тихо проговорил:
– А между прочим, в средние века профессия актера была самой презираемой. Я и сейчас вам нисколько не завидую, я просто не хочу, чтобы вы за мой счет удовлетворяли свое больное самолюбие.
Завистливый школьник вдруг почувствовал ужасную слабость, он понял, что больше не может противостоять актерам.
– Товарищ Лассаль, извините меня, пожалуйста. Я даже не знаю, почему так вышло. Я же еще школьник, к вину не привык. Выпил вот и сорвал спектакль. Вы просто извините меня. Я совсем не прав, так что простите меня. Только и вы пожалейте зрителешек. Не обижайте их своим актерским преимуществом – это не по правилам… Не по правилам!.. Должны же быть и на этот счет какие-то правила! В нашей стране насчет всего есть правила. А как же иначе?..
Последние фразы он произносил, уже когда дверь за Арбениным и Шприхом притворилась и поворачивавшийся ключ залязгал в замке. В следующее мгновение кто-то потянул его за руку, завистливый школьник обернулся и увидел Таборского.
– Пойдем, я провожу тебя к выходу, – сказал тот.
Вечер в театре на премьере «Маскарада» Лермонтова для завистливого школьника был на этом закончен.
Часть первая
ДВОЙНИК ГОСПОДИНА ИСТЕРИКА
Глава 1
Человек в портьере
Пар клубами валил из приоткрывавшихся, чтобы впустить человека с улицы, дверей магазинов и маленьких торговых павильончиков, дрянного кафе, приютившегося под самой железнодорожной насыпью, где собирались выпить разливного «Клинского» по десять руб. весьма незаконопослушного вида личности, и чистенького одноэтажного ресторана быстрого питания сети «Макдоналдс», где битком студентов Автодорожного института, вырывался на мороз из вестибюля станции метро «Электрозаводская», – как раз был вечерний час пик, и народ спешил к электричкам и автобусам, – изо ртов уличных торговок, наперебой предлагавших изголодавшимся работягам неказистые кушанья («Беляши! Чебуреки! Сосиска в тесте!»), из пасти бродячего пса, терпеливо надеявшегося на подачку от двух джигитов, нагружавших в конце, видимо, удачного торгового дня на большую расхристанную телегу с маленькими железными колесиками опорожненные ящики из-под марокканских мандаринов и о чем-то весело переговаривавшихся на родном наречии… Минус тридцать, а жизнь на этом бойком рыночном месте не замирала ни на минуту! Старый фабричный район, как и зиму, и две, и три назад, покупал здесь пиво, сигареты и хлеб, пересаживался из троллейбусов на электрички, толкался, изрыгал потоки нецензурной брани, почтительно сторонился милиционеров и приобретал на лотках последний номер газетки «Спорт-Экспресс Футбол». Златоглавая, закутавшись во все, что можно было извлечь из шкафов и гардеробов, не очень-то и испугалась морозов, жила своей обычной жизнью, хотя и ожидала с нетерпением оттепели, которая, вопреки прогнозам «Метео-ТВ», запаздывала уже почти на целую неделю.
Весьма образованного вида мужчина не старых еще лет, с бородкой клинышком и в простеньких очках-велосипедах, с портфелем в руках, но странно для своей внешности одетый в наглухо застегнутый на все пуговицы светлый бараний тулуп с поднятым воротником, большую серую шапку-ушанку из волка и обутый в самые обыкновенные белые русские валенки, купил у бабки пару пачек сигарет, протолкался через тесную площадь, прошел через пешеходный тоннель и затем нырнул в арку, слева и справа – по продуктовому магазину, сверху – занавешенные окна просторных квартир, немного попетлял между большими кирпичными сталинскими домами и наконец набрел на красно-белое здание старой школы, в котором призрачно светился только ряд окон на втором эта» же, а в них виднелось несколько силуэтов, отчаянно жестикулировавших и то сходившихся, то удалявшихся друг от друга.
Перед самой входной дверью мужчина остановился и еще некоторое время сосредоточенно докуривал, глядя исключительно себе под ноги, дешевенькую сигаретку марки «Прима», которую запалил на полдороге от станции метро. Потом бросил окурок в ближайший невысокий сугроб и несообразно со своим перекуром, так, словно очень спешил, вошел внутрь школы.
Видимо, он не был в этом самом заурядном учебном заведении посторонним, да и за сегодняшний день приходил сюда не впервые, потому что сторож отнесся к его появлению как-то очень буднично, а мужчина, не поздоровавшись и не сказав сторожу ни единого слова, сразу направился в сторону лестницы, что вела на верхние этажи.
– Они уже полчаса репетируют! – словно очнувшись, прокричал ему вслед школьный сторож, но мужчина с бородкой, клинышком уже резво, по-мальчишески преодолел несколько лестничных маршей и меньше чем через полминуты вошел в просторную классную комнату, хотя и сильно обшарпанную и бедную.
Тут же ему навстречу шагнула, дико вихляясь всем телом и как-то непонятно гримасничая, маленького роста женщина – едва ли не карлица, – одетая в шутовской наряд и колпак с бубенчиками:
– Воркута, вы купили сигареты?!. Ведь вы же, конечно же, о боже, купили сигаретки?.. Не так ли?!. О, не разочаровывайте нас в вашем же приюте, наш друг!..
– Мандрова, вам подошло бы быть бомжихой, напиваться и танцевать возле метро под музыку из киоска звукозаписи! – проговорил мужчина в бараньем тулупе поморщившись, но тем не менее вытащил из кармана пачку «Примы» и ловким движением бросил ее женщине-шуту, которая не менее ловко поймала сигареты на лету, тут же вскрыла, поддев бандерольку длинным, накрашенным в морковный цвет ногтем, и, прикурив от металлической зажигалки, с наслаждением затянулась дешевеньким дымком.
Между тем никто, казалось, всерьез не обращал ни на вошедшего учителя, ни на Мандрову никакого внимания. Только еще пара человек, бывших в комнате, потянулись к пачке за сигаретками… Одним из «страждущих» был сухощавый человек с аккуратно стриженной бородкой-клинышком. На нем был черный пиджак какой-то глянцевой, очень качественной кожи, что вовсю отбрасывала блики в электрическом вечернем освещении, а также – темные шерстяные брюки – очень чистые и с тщательно наглаженными стрелочками. Под пиджак этот человек носил водолазку ярко-красного сочного цвета… Обут он был в блестевшие во много раз сильнее кожаного пиджака лакированные туфли – слишком легкие для зимнего сезона. Выглядел он, в основном из-за этого сочетания красного и черного цветов, весьма эффектно… Впрочем, не только из-за него одного: из его отвисших карманов торчали несколько мобильных телефонов и портативная радиостанция, а еще – какой-то ужасно замусоленный и затрепанный номер журнала, по-видимому посвященный радиосвязи и электронике, раскрытый на странице, полностью занятой большой электронной схемой… Рядом с ним стояла наглухо закрытая достаточно большого размера кожаная сумища, из которой торчал электрический провод, оканчивавшийся каким-то хитрым разъемом.
Этот человек, стараясь не шуметь, непрерывно ходил туда-сюда по проходу вдоль окон и, словно ожидая какого-то звонка, который боялся пропустить, время от времени доставал из кармана один из сотовых телефонов, испытующе смотрел на его дисплей, после чего убирал телефон обратно в карман.
Взяв из рук учителя сигарету, но не закурив ее, а спрятав во внутренний карман пиджака, он, по крайней мере внешне, немного успокоился, сел на подоконник и принялся смотреть в окно, за которым виднелся заснеженный двор школы, ограда и метрах в пятидесяти – невысокий старый дом с захламленными балконами.
…Посреди комнаты на табуретке стоял молодой мужчина, закутанный, наподобие плаща или тоги, в кровавого цвета портьеру и громко читал какой-то непонятный текст, кажется, это даже был монолог. Но вот из какой пьесы?..
Учитель робко присел на одну из парт и принялся почтительно слушать…
– Проснуться в полдень в светлой, чистой комнате, в большом доме на центральной оживленной улице… – читал мужчина. – Подойти к окну, распахнуть его и увидеть, как идут по бульвару люди, как едет вдоль тротуаров троллейбус, как веселые школьники выбежали откуда-то из-под арки и покупают в киоске мороженое… И на перекрестке стоит веселый аккуратный милиционер и регулирует движение. И светит солнце!.. И уже несколько дней, как наступила весна!.. И знать наверняка, что я везде, всюду – первый!.. И если и вспомнить Лефортово – то только вскользь, мельком… Светит солнышко… Радуются люди!.. И кругом блеск такой, что никакому театру и аэропорту не сравниться… Проснуться в какой-то вечно блестящей жизни, где есть только большие, самые престижные дома, и улицы – только оживленные и центральные… Где полно успеха и внимания, где все газеты печатают только мои портреты!.. Где в шкафах у меня только роскошные одежды, – возможно ли это?!. Разве это не глупо и не несбыточно?!. Но ничто другое уже не может помочь мне!.. Если я не обнаружу себя вдруг, как можно скорее, в неком совершенно идеальном, поросячьем счастье, я просто больше не выдержу!.. Мне нужно такое усиление счастья, что просто… Меня не устраивает нормальная жизнь… Мне нужно постоянное утро поросячьего счастья… Постойте!.. Я, кажется, сам немного запутался… Чего же мне нужно?!. Утро чего мне нужно?!. Мне нужно постоянное утро после избавления… Вот накануне я наконец-то избавился от чего-то ужасного, мрачного и страшного, что ужасно тяготило меня, забылся наконец сном, и вот – наутро я проснулся, обнаружил себя в светлой чистой комнате в большом доме на центральной оживленной улице и тут вспомнил… Боже, наконец-то, как я счастлив, – я же наконец избавился!.. И тут я подхожу к окну, распахиваю его и вижу – троллейбус, пешеходы, жизнь, движение, яркое солнце светит!.. Остановись, мгновенье, ты прекрасно!.. Как остановить это мгновенье?!.
Закутанный в портьеру мужчина на мгновение замолчал, делая, как ему казалось, многозначительную паузу, потом продолжил:
– И ведь ничто другое не будет избавлением… Нужно только это!.. Только это можно считать единственной целью жизни!.. После этого мой мозг наконец выработает тот самый, единственно нужный гормон счастья – химическое вещество, которое разольется вместе с кровью по всему организму…
Тут он вновь сделал паузу, и она была неверно истолкована одним из находившихся в классной комнате – молодым человеком в форме курсанта военного училища, – потому, что тот решил – выступление завернувшегося в портьеру самодеятельного артиста закончилось. Курсант спросил:
– И что же?!.
Возможно, он вообще не понял, что это был монолог из пьесы, или это, на самом деле, не было никаким монологом, а просто стоявший на табуретке высказывал свои мысли, но почему тогда он стоял на табуретке, завернувшись в портьеру, словно намеренно стараясь подчеркнуть, немного гротескно, впрочем, всю ненатуральность, театральность, придуманность происходившего?..
Читавший монолог не ответил на заданный вопрос сразу…
Тем временем с другой стороны раздался еще вопрос:
– Вы сказали, «жизнь, где полно успеха и внимания, где все газеты печатают только ваши портреты…» Это что – «Хорин»?.. Вы полагаете, что «Хорин», занятия в «Хорине» принесут вам такую популярность?!. Такую славу?!. Вам что же, вообще, для счастья непременно необходима слава?.. Вы хотите видеть себя на страницах газет?!.
– А почему бы и нет?!. – на этот раз моментально откликнулся человек, еще минуту назад произносивший свой монолог. – В конце-то концов я же не просто так, не с бухты-барахты двинул в самодеятельные артисты!.. А артисту непременно необходима настоящая большая слава!..
Курсант, так и не дождавшись ответа на свой вопрос, продолжал настаивать:
– И что же?.. При чем тут «Хорин»?.. При чем тут ваш… наш самодеятельный театр?.. Я сегодня в первый раз, поэтому путаюсь… – пояснил курсант и продолжил. – Вы сказали про какие-то портреты, про центр внимания… Вы что, полагаете, что этот самодеятельный театр окажется в центре внимания… всего мира?!. И что самодеятельный театр как-то приведет вас к роскоши?!.
– Черт возьми, я понимаю, что вы, товарищ курсант, простите, не знаю, как вас зовут, здесь первый день, вы, так сказать, не знаете, да и не можете знать (естественно, коли вы здесь первый раз) всей предыстории… – стоявший на табуретке артист самодеятельности заговорил уже совсем другим, не столь восторженным тоном, каким он читал свой «монолог из некой пьесы».
– Да-да!.. Он здесь первый раз!.. – откликнулась за курсанта тетенька средних лет в теплой, домашней вязки кофте и большим пуком седеющих волос на затылке. В руках она держала блокнотик на пружинке и дешевенькую шариковую ручку, время от времени делая в нем какие-то пометки крупным размашистым почерком. – Он ничего не знает!.. Ничегошеньки!.. Это мой племянник!.. Но он очень умный, очень понятливый… И хоть его отец, муж моей сестры, и отдал его в военное училище, он, знаете ли, с детства был очень неравнодушен к поэзии!.. Все стихи на елках читал!.. Сам сочинял и читал!.. Бывало, выйдет на середину зала к елке и читает…
Молодой человек, курсант, смутился и даже зарделся. От смущения принялся теребить пальцами кончик длинного, тоненького носика. Потом он принялся отчего-то пристально смотреть на свои часы. Часы были «Командирские» с большими красными звездами, каким-то танком, парашютом, изображенными на циферблате, большими стрелками и металлическим браслетом. Курсант смотрел на них что-то уж слишком пристально.
– Отлично!.. Отлично, что он у нас поэт!.. Поэты нам нужны!.. – немного развязно, даже нагло продолжал человек, завернувшийся в портьеру. Тон его уже ничем не напоминал тот, которым он читал свой монолог. Он продолжил:
– Да… Я понимаю!.. Вы не знаете предыстории… Черт возьми!.. У меня нет времени объяснять… Нормальная жизнь – избавление от чего-то мрачного и тяготившего – организм тут же начинает вырабатывать гормон счастья, который есть самое обыкновенное химическое вещество!.. Вот такая последовательность событий… Воздействие событий на психику, воздействие событий на настроение – самое главное в этой последовательности. Мне нужно одуреть от впечатлений, которые должны свалиться на меня враз, в короткий промежуток времени, и одуреть настолько, чтобы я на время вообще перестал испытывать какие бы то ни было чувства!.. Потом очнуться, и чтобы дальше все пошло в лихорадочном темпе… Настроение… Но темп, темп, лихорадочный темп – это самое важное!.. Не приходить в себя!.. Нужно столько важных и потрясающих событий, чтобы не было времени и возможности даже пытаться приходить в себя…
– Эх, вот вы так, уважаемый Томмазо Кампанелла, сказали, и как-то сразу светлее стало, веселее!.. – проговорил, обращаясь к тому человеку, что стоял на табуретке, один дедок лет восьмидесяти, регулярно ходивший в «Хорин». – Ей-богу, веселее!.. Я вот, когда Зимний дворец в леворуцию брал, мне тоже, примерно на этот же манер, весело было…
– Вот врет!.. – тихонько проговорила Мандрова, наклонившись к Воркуте. – Он хоть и старый, а в «леворуцию-то» его еще на свете не было!..
Дедок этого, естественно, не слышал и продолжал:
– Как-то вы здорово сказанули: чтоб в темпе все пошло, чтоб от нормальной этой жизни избавиться!.. Рутину, значит, чтоб преодолеть!.. Мы тогда, когда Зимний брали, – тоже в темпе, тоже от прежней, нормальной жизни избавлялися… Мол, время – вперед!.. Сейчас нам в «Хорине» на тот же манер надо!.. А то дома – скучища… Да бабка все ворчит… Нет, ей-богу веселее!.. Правильно это вы рассуждаете!.. Здорово!..
– Правда, товарищи, здорово?!. – обратился дедок к остальным хориновцам.
– Разрешите папиросочку… – и он протянул руку с оттопыренными двумя пальцами к Воркуте. – Сигареточку…
Тот молча угостил его «Примкой».
– Вот я тоже помню, после леворуции, при нэпе… В кабачке одном было… – начал было дедок, разминая сигарету в стариковских пальцах. – Вино, музыка, приятное общество…
– Темп, конечно, это здорово!.. – проговорил в некоторой растерянности курсант. Потом, повернувшись к своей тете, сказал:
– Тетушка, а ведь я сегодня договорился с Васей… Вася заберет нас на своей «копейке» и отвезет в казарму… Только там сегодня горячей воды нет… Как же я мыться-то буду?.. Я же грязным-то не засну!.. Уж извините!.. Сами в детстве к чистоте приучили!.. Я не виноват!.. Нисколечки… Сами приучили!..
– Ужасно!.. – проговорил актер самодеятельности, завернутый в портьеру. – Ужасно, когда там, где живешь, горячей воды нет. Я, например, без горячей воды покрываюсь крокодильей шкурой. Чешуей!.. Мне обязательно надо часто споласкиваться горячей водой… Иначе – чешуя!.. В противном случае я превращаюсь в настоящего крокодила… Или в подобие библейского прокаженного Лазаря, покрытого струпьями! Знаете, был такой…
– Нет, я не могу вас так сегодня отпустить!.. – сказал человек в черном кожаном пиджаке и водолазке сочного красного цвета. – Мне необходимо поддерживать связь со всеми вами постоянно.
– Но мне надо ехать!.. – проговорил курсант таким тоном, словно он обижался в эту минуту на незаслуженное оскорбление. – Что же я могу поделать?!.
Он даже встал и засобирался, отыскивая в куче зимней одежды, наваленной на одной из парт в последнем ряду, свою шинель и форменную шапку-ушанку. Поднялась со своего места и его тетя, впрочем, сделала она это совершенно без всякой охоты.
Вероятно, к этому моменту лицо вновь прибывшего с бородкой и очками-велосипедами действительно приняло чересчур серьезное, даже угрюмое выражение, хотя угрюмость его, скорее всего, была только казавшейся, потому что у него не было повода для того, чтобы быть мрачным, но женщина-шут все-таки подскочила к нему и громко закричала:
– Воркута все портит!.. Посмотрите, с какой кислой мордой он здесь уселся!.. Какого черта я нацепила на себя этот дурацкий колпак?!. Чтобы он обзывал меня бомжихой?!. – с этими словами она стащила с себя шутовской колпак и нахлобучила его на голову пришедшего. Тот нисколечко не противился, но губы его брезгливо скривились.
Молодой мужчина на табуретке с недоумением смотрел на женщину-шута.
– А ты что на меня уставился?.. – проговорила она, повернувшись к нему…
– Что ты тут читаешь?.. Это что – смешной монолог?.. А вы что все здесь ведете смешные разговоры?!. А ты, дедок, чего раздухарился?!. – сказала она, обращаясь к дедку. Потом опять – к тому человеку, что стоял на табуретке и которого дедок назвал Томмазо Кампанелла:
– Нет, это что – смешно?!. Я не могу ничего понять!.. Ты же вчера говорил всем нам, что Лефортово тебе нравится!.. А теперь получается, что – нет!.. Так нравится или не нравится?!.
– Я еще сам не решил… – тихо и пока еще не обращая внимания на агрессивный тон Мандровой, а потому спокойно ответил мужчина. – Может быть, и не нравится… А может, очень, очень, до безумия, до того, что я скорее умру, чем уеду отсюда куда-нибудь, нравится!… Это от многих моментов зависит… Я еще и сам не могу никак в этом разобраться… К тому же я сейчас достаточно плохо себя чувствую, так что мне тяжело на что-нибудь решиться…
– Ну хорошо!.. – сказала женщина-шут и злобно посмотрела на Воркуту, неосторожно упомянувшего в связи с ней «бомжиху». – Ну хорошо… Допустим, не решил… Допустим, тебе плохо, и ты не в состоянии ни на что решиться… Но юмор-то где?.. Где в твоем монологе – смешное?.. Где комедия?.. Ты бы лучше какую-нибудь юмореску из журнала «Вокруг смеха» разучил и нам здесь представил… В лицах!.. Вот это было бы по теме!..
– Это была моя исповедь… – точно бы извиняясь, проговорил тот, что читал монолог. – Я хочу, чтобы эту исповедь произносил персонаж, которого я буду играть в той пьесе, которую мы все вместе напишем… Все, что я говорил, – это про меня…
Сказав последнюю фразу, он отвернулся в противоположную сторону от собеседников, какие-то мгновения так стоял, кажется, даже трогая кончик носа, словно бы заразившись этим жестом от молоденького курсанта военного училища, потом вдруг повернулся обратно ко всем лицом и, лукаво улыбаясь, произнес:
– А, может, и не про меня!.. – рассмеялся и добавил. – Я еще не решил… В конце-концов все это можно считать только текстом из пьесы. А текст из пьесы не обязательно нужно соотносить с личностью… С личностью автора…
– А вот тут, хочу я заметить, и есть самая что ни на есть настоящая неправда!.. – проговорил даже как-то радостно дедок… – Потому как всего только несколько дней назад ты мне, мил человек, говорил, что скоро в Лефортово будет труп… Твой труп… Говорил, что покончить с собой собирался, и даже говорил про таблетки, которые принимаешь… Вот они, таблетки-то!.. Говорил про таблетки-то?!. А, сознайся?!.
С этими словами дедок действительно достал из кармана облатку каких-то таблеток, хориновцы даже успели заметить, что это, кажется, был какой-то недорогой транквилизатор.
Дедок тем временем продолжал:
– Забыл, как я тебе разъяснил, что таблетки – это одна химия и никакой пользы душе, а потом я тебя портвейном и водочкой отпаивал и ты у меня на руках в рыданиях трясся и говорил, что обязательно возьмешь на себя грех через Лефортово, и говорил даже, что знаешь человека, который вот так же через это наше распроклятое Лефортово уже с собой покончил – в петлю влез, а я тебя еще больше отпаивал, а потом ты успокоился, уснул у меня в комнате, а на утро-то, наверно, ты действительно ничего и не вспомнил… Получается, и вправду забыл…
Тут какая-то тень пробежала у дедка по лицу…
– Получается, я, дурак, для красного словца тебе про все напомнил…
Потом, без всякой связи с предыдущим, он проговорил:
– А таблетки-то, пока ты спал, я у тебя из кармана-то и вытащил, поскольку это, правда, одна химия и вред, а если плохо, то ты уж лучше пей… Я тебе завсегда компанию составлю.
Тут дедок окончательно замолчал… Но потом все же добавил:
–У меня в леворуцию таких черных мыслей никогда не было!.. Ты уж лучше, чем того… Лучше делом каким займись!..
– А ты правильно говоришь, дедок!.. – мрачно произнес самодеятельный актер, стоявший на табуретке. – Вот я, пожалуй, как ты говоришь, «леворуцию» и устрою!.. А что?!. «Леворуцию» в театральном искусстве!.. А, Радио, как?!.
Но их перебила женщина-шут:
– Какая вам революция в театральном искусстве… Жалкие вы скоморохи!.. Вы что как актеры – нули, что как режиссеры – та же цифра… Да и драматурги, полагаю, недалеко от режиссеров и актеров в вас ушли… Бездари!..
– Господин Радио!.. – с жалобой в голосе обратилась женщина-шут к человеку в черном пиджаке и красной водолазке, что сидел теперь на подоконнике и курил. – Ну разве я не права?!. Ведь мы же договорились, что сегодня мы станем отрабатывать ю-мо-ри-стическую… Ю-мо-ри-стическую, слышите вы, составляющую нашего будущего спектакля!.. – она опять злобно посмотрела на учителя Воркуту. – Будем смешить, веселить друг друга… Импровизировать веселые сценки… Разыгрывать этюды на смешные темы… А они что несут – это же кошмар какой-то!..
– Я не хочу разыгрывать сегодня никаких этюдов на смешные темы… Мне вообще сегодня совсем не смешно и не весело… Я вам говорил уже… – теперь уже мрачно произнес человек, что был завернут в портьеру… Мне надо решить одну большую, одну огромную проблему… У меня все время отрицательные эмоции!..
Но Мандрова, словно даже и не слушая его совершенно, продолжала говорить:
– Я вот костюм шута прошедшей ночью сшила – глаз не сомкнула… Анекдоты собиралась рассказывать… Вот например… «Возвращается муж из командировки домой раньше положенного времени…»
Но рассказать анекдот ей не удалось.
– А вы знаете, что произошло неделю назад здесь неподалеку?.. – прерывая женщину-шута по фамилии Мандрова, проговорил вдруг Воркута, – видимо, ему надоело ее слушать, а может, он действительно счел то, что он случайно прочитал, когда взгляд его упал на клочок газеты «Криминальные новости», валявшийся на полу между партами, очень важным, – последние тридцать секунд он сидел согнувшись, словно пытаясь отыскать на полу какую-то упавшую мелкую вещь – видимо, пытался разобрать мелкий газетный шрифт.
Учитель поднял обрывок газеты с полу… Но его, в свою очередь, перебил Господин Радио в черном кожаном пиджаке и водолазке сочного красного цвета:
– В нашей ситуации… В наших неярких профессиях смеяться по-обычному – нет смысла… Ведь мы не артисты. Кто, как Воркута, – учитель, кто, как я, – инженер-радиоэлектронщик, кто, как вы, Мандрова, – редактор маленькой газетки. Мы не играем спектакль, а играем «в артистов»… Потому что играть по-настоящему у нас не получится, если бы мы могли по-настоящему, то есть хорошо, мы бы настоящими, профессиональными артистами и были бы… Штука вся в том, что мы знаем, я знаю… Мы все… Да, наверное, все знаем: мы не профессионалы. И никогда ими не будем. И если мы станем стараться «под профессионалов», то это будет одна убогость и жалкость. Но и забыть про профессию артистов мы не можем… Значит, нам нет смысла «по-настоящему» (не сможем), но нет и смысла «как любители»… Не настолько мы глупы и не настолько в нас отсутствует гордость, и не настолько мы себя не уважаем… Пародировать профессионалов – нам это не по плечу. Мы слишком слабы, ничтожны как актеры. Так давайте пародировать любителей… Тут не так… – чувствовалось, что человек в кожаном пиджаке и водолазке сочного красного цвета – Господин Радио, немного путается в своих рассуждениях. От натуги, с какой они ему давались, он раскраснелся и даже принялся массировать пальцами лоб и виски. – Как можем! Как можем!.. Потому что пародия – это тоже искусство, которое, боюсь, нам не по плечу… И зря вы, Мандрова, со своим анекдотом. Это слишком всерьез. Слишком по-любительски. Так дураки поступают, когда подставляются под удар. Пересказывать анекдоты из «интернета» – это слишком обычно! А вот шутовской колпак пошили не зря! И костюм шута – не зря!.. Вот про это я и говорил, когда хотел, чтобы мы проработали юмористическую составляющую. Да, Томмазо Кампанелла забрался на табуретку; да, он обернулся в портьеру… Ну и что – пусть он будет… Пусть он выглядит, как мальчик, который изображает перед друзьями-мальчиками Гамлета. В нашем самодеятельном театре, который мы называем «Хорином», очень важно избегать как настоящей серьезности, так и настоящей шутки… И то, и другое получится у нас плохо! Важно запутать зрителя, затеять с ним игру, в которой дураки не-артисты обманывают зрителя, который думает, что перед ним – артисты, пусть и любители… И все же зритель – дурак! А дураки-хориновцы – вовсе не дураки… А потом, после того как зритель поймет, что все – шутка, дурная пародия и издевательство, пройдет немного времени, и он поймет, что – не шутка. Что многое, почти все было всерьез!.. А потом – опять подумает: «Нет, это была шутка, кривляние…» Это единственный способ показать, что мы не воспринимаем эту жизнь, которую нам навязывают, и не собираемся с ней мириться… Мы не собираемся посещать уроков, которые нам не нравятся!.. Сейчас в мире слишком многое повязано на театре, на лицедействе, на Голливуде… Сейчас Голливуд в Голливуде, как матрешка, сидит и Голливудом погоняет. Сейчас страшно оказаться толстым пассивным зрителем с поп-корном в руках… Сейчас непременно надо лезть в голливудские шикарные артисты… В этом главная отчаянная стратегия!.. Жаль, мы пока вынуждены репетировать не у себя, не там, не в зале… Ну ничего, вот-вот декорации будут готовы, запах краски выветрится и мы вернемся из школы в свой театр!..
– Мне кажется, что вы, Господин Радио, совершенно не правы!.. – неожиданно проговорила Мандрова. – Ничего такого нет и в помине!.. Ну почему, например, вы говорите, что сейчас всем необходимо стремиться в голливудские шикарные артисты и в этом – отчаянная стратегия?.. По-моему, это просто бред!.. Вот мне, например, больше нравится просто быть любительницей… Я, например, прекрасно понимаю, что из меня хорошей артистки никогда не выйдет… Может, и то, что мы делаем, даже не может, а наверняка, то, что мы делаем, – это сущая ерунда и совсем не профессионально… Так мы же действительно играем… Мы развлекаемся… Мне кажется, самое прекрасное именно то, что мы именно «как любители». Мы – настоящие любители!.. И надо нам настоящими любителями и оставаться… А то, что вы в голливудские артисты собираетесь стремиться, так это, я полагаю, есть не какая-то там особенная с вашей стороны хитрость и какой-то изощренный замысел, а самый настоящий бред и сумасшедший дом!.. И ничего у вас не получится и не может получиться!.. Ну, сами подумайте, что действительно может получиться?.. Я, честно говоря, не поняла, что вы имеете в виду!.. А что, разве кто-нибудь из тех, кто здесь находится, понял, что вы имели в виду?.. Ну так – в плане практического воплощения?.. Ну что это может значить?.. Какие из этого выводы?.. Ну что, разве я не права?.. Ну, хориновцы, что же вы молчите?..
Действительно, люди, находившиеся в комнате, молчали, и создавалось впечатление, что им просто нечего сказать.
– А этот ваш Томмазо Кампанелла, – добавила женщина-шут, – просто полусумасшедший, полукривляка!.. И зря вы его, дедок, водкой и портвейном отпаивали… Зря ночевать у себя оставили, зря нянчились с ним как с маленьким… Ему только того и надо… Он же играет, изображает все это!.. Придумал себе!.. Видите ли, он ужасно страдает, потому что ему тяжело жить в таком районе, как Лефортово!.. Чего в нашем Лефортово плохого?!.. Район как район… Тоску он, видите ли, на него нагоняет… А больше он на тебя ничего не нагоняет?!. Пить надо меньше!.. Чушь!.. Кривляние!.. Одно сплошное кривляние!.. Даром что самодеятельный артист… Вот и кривляется, как говорится, на всю железку!..
– Да, мы тоже так считаем!.. – сказал немолодой уже мужчина, который сидел на задней парте и просто читал номер журнала «Театр» чуть ли не десятилетней давности, посвященный проблемам художественной самодеятельности. На обложке журнала были изображены какие-то немолодые уже люди, подсевшие в пустом и полутемном зрительном зале поближе к симпатичной молодой девушке, судя по всему – их режиссеру-руководителю, а сами они, скорее всего, были участниками какого-нибудь самодеятельного театра. Только что с увлечением изучавший этот старый журнал мужчина проговорил (кстати, он, как и учитель Воркута, тоже носил очки, только не круглые, «велосипедики», а в толстой и широкой оправе из темной пластмассы, при этом сама оправа была квадратной формы):
– Мы тоже считаем, что с того момента, как нас покинула Юнникова, этот Господин Радио, как он сам велит себя называть, превратил работу нашего, в общем-то простого самодеятельного хора… Простого и понятного самодеятельного хора в сущий бред… Вообще стало ничего непонятно!.. Чем мы здесь занимаемся, о чем мы здесь мечтаем?.. Какие-то странные не имена, а клички – Господин Радио, Томмазо Кампанелла… Как у рецидивистов каких-то!.. Вы, Томмазо Кампанелла, на мой взгляд, действительно просто паясничаете… – он на мгновение замолчал, потом, вторя каким-то своим мыслям, заметил:
– Действительно!.. Только сейчас на ум пришло: как у рецидивистов каких-то клички!..
– А вот мы и станем рецидивистами!.. – проговорил Томмазо Кампанелла уже совершенно весело, словно только недавно и не шла речь о его каком-то предполагаемом самоубийстве, что, в известном смысле, косвенно доказывало правоту Мандровой, когда она говорила о его крайней склонности к кривлянию и «двойному дну»…
– Точно!.. – проговорил учитель Воркута. – Вот, кстати, вы знаете, что не так далеко отсюда произошло?.. Это же, практически, связано с нашим районом… Здесь как раз про этих самых рецидивистов речь и идет. Раз у вас такая же система кличек, как у этих рецидивистов, то вам это особенно интересно должно быть!..
– Ну-ка, ну-ка!.. Про рецидивистов – это интересно!.. Про рецидивистов я обожаю!.. – проговорил Томмазо Кампанелла, тот самый человек, что стоял на табуретке, закутавшись в портьеру.
– Вы просто не понимаете того, что я вам пытаюсь втолковать!.. – проговорил, перебивая Томмазо Кампанелла и глядя на читателя журнала «Театр», Господин Радио. – Вам кажется, что все, что происходит здесь, – это только дурацкий фарс?!.
– Нет-нет!.. Нам не кажется!.. – это сказал учитель Воркута. Он так разволновался, что даже от волнения, когда он говорил, у него изо рта вылетела слюна и попала на щеку Мандровой, та, скорчив гримасу омерзения, вытерла щеку ладонью, а сама отошла от Воркуты подальше.
Между тем Господин Радио продолжал:
– Вы мне никак не можете поверить, но я утверждаю, что все, что здесь происходит, – это ужасно серьезно!.. Я даже не могу вам передать, насколько это серьезно!..
– Ну, ладно!.. Нам уже пора идти!.. Тетушка, собирайтесь!.. – это курсант. Ему, кажется, действительно все происходившее надоело. Он уже надел шинель и держал в руках шапку-ушанку с воинской кокардой.
Его тетя неохотно поднялась со школьной скамьи, на которой она сидела.
Тут заговорил вновь самодеятельный актер, завернутый в портьеру, причем говорил он очень страстно, так, что даже по одному тому, как он говорил, все участники репетиции должны были проникнуться к нему безусловным доверием и, конечно же, поверить во все то, что он пытался им объяснить:
– Вот вы, Мандрова, пытаетесь меня упрекать в том, что я нарушил то, что вы запланировали на сегодняшний вечер, на сегодняшнюю репетицию… Но на самом деле вы совсем не правы, и это неправильно говорить так, как вы сейчас говорите!.. Я даже более могу сказать: я полностью с вами согласен!.. В том смысле, что мне тоже совершенно непонятны все эти идеи Николая Ивановича… Простите… – тут он посмотрел в сторону Господина Радио, который, впрочем, в эту минуту совсем на него не обращал внимания и сидел, кажется, даже как-то понуро, склонив голову вниз. Но Томмазо Кампанелла, извинившись, приложил руку к сердцу и как-то даже низко поклонился Господину Радио, который, повторяем, всего этого совершенно не замечал. – Простите, я буду называть вас именно так, как вы хотите, – Господин Радио…
– Да, правильно!.. – это уже учитель Воркута. – Ведь мы же называем вас так, как вы хотите, – Томмазо Кампанелла!.. Будьте добры уважать и остальные условности нашего самодеятельного театра!..
– Да, простите… – еще раз повторился человек, завернутый в портьеру, впрочем, уже более сухо. – Идеи Господина Радио мне совершенно не по нутру. В том смысле, что я никак не могу понять, что он имеет в виду, когда говорит, что всем нам надо становиться голливудскими артистами, и упоминает какого-то тупого и несчастного зрителя, который просто сидит и кушает свой «поп-корн»… Вроде как этот зритель и есть самая главная в мире жертва и самый несчастный на свете человек…
Не успел он проговорить это, как Господин Радио перебил его и пылко произнес:
– Томмазо Кампанелла!.. Уж от кого-кого, а от вас я не ожидал такого непонимания и такой… простите за такое грубое слово, но иначе я сказать не могу: такой глупости… Ведь вы со своими постоянными депрессиями как раз-то и должны первый стремиться к тому, чтобы плавно переместиться из этого Лефортово в мир ярких профессий!.. А вы этого не понимаете!..
Господин Радио умолк и повернулся к артистам любительского театра «Хорин» спиной, пытаясь смотреть на носки своих ботинок, поблескивавших в электрическом свете, потом глубоко вздохнул… Выглядело это так, будто хориновцы враз совершенно перестали его интересовать. Но они, видимо, уже привыкли к таким манерам своего режиссера, – а Господин Радио – как он сам попросил всех называть его – давно уже был в «Хорине» если и не действительно режиссером, то кем-то вроде режиссера, и разгоревшаяся дискуссия имела все шансы продолжиться…
Но только какое-то мгновение ему удалось подуться, потому что уже уходили курсант и его тетушка…
– Нет!.. Я вас не отпускаю!.. – вскричал Господин Радио, вскакивая со своего места. – Сейчас такой момент, что совершенно не известно: может минут через пять мне позвонят и окажется, что можно возвращаться обратно… – тут Господин Радио на мгновение замолчал, а потом произнес, чрезвычайно гордясь тем, что говорил, и торжественно:
– …Возвращаться в уже оформленный зал театра «Хорин»!.. Нового, обновленного театра «Хорин»!..
Курсант уже, кажется, начинал нервничать, потому что спешил возвратиться в свою казарму без горячей воды и, кажется, уже был готов ответить Господину Радио что-то раздраженное, что, впрочем, было бы совершенно не свойственно его восторженному и мягкому характеру, но его перебила его тетя:
– Ничего-ничего… Мы по дороге зайдем и посмотрим – готово или не готово… Можно возвращаться или нельзя… Если можно, то мы там и останемся… И как-то дадим вам знать, – проговорила она примирительно, сама потихонечку двигаясь к двери классной комнаты.
– Не надо мне ничего давать знать!.. – раздраженно проговорил Господин Радио. – Я обладаю всеми средствами необходимой радио– и телефонной связи и все время держу руку на пульсе событий… У меня прямой канал связи с залом «Хорина» и художником по декорациям Фомой Фомичевым!.. Так что лучше бы вы дали мне знать, как можно бы мне вас найти если что?..
– Да как же нас найдешь… Нас не найдешь… Мы на сегодня репетицию закончили!.. Мы пойдем на улицу!.. – пыталась увещевать Господина Радио тетя курсанта, но в этот момент произошла одна сценка, и хориновцы отвлеклись на нее, что позволило этим двоим благополучно выскользнуть из двери классной комнаты, хотя им и очень, с одной стороны, хотелось посмотреть, что же будет, а с другой стороны, было как-то немного не по себе и даже, напротив, и не хотелось оставаться, особенно курсанту, хотя он и не мог четко осмыслить, в чем же тут для него может таиться опасность, но тем не менее… Потому что в классную комнату как раз в этот момент вошли два милиционера… И практически в ту же секунду у Господина Радио зазвонил на поясе мобильный телефон… Его фраза о том, что он постоянно держит руку на пульсе событий, таким образом, подтвердилась…
Глава II
Сквозь Север мглистый
Темно. В салоне автомобиля уютно светились разноцветные огоньки, за «бортом» – лютый мороз, пустынные, плохо освещенные улицы. Тетушка рассказывала своему племяннику, побывавшему в этот день в «Хорине» в первый раз, и его другу, заехавшему за ним на старенькой автомашине, историю этого самодеятельного театра:
– В «Хорине» был другой – настоящий, профессиональный режиссер. Точнее говоря, «была», потому что режиссером до последнего времени работала старуха по фамилии Юнникова. Она занималась этим по призванию, а не только за зарплату от муниципалитета. Между прочим, она именно сейчас лежит где-то здесь радом в больнице при смерти… Это действительно радом – здесь, в Лефортово… Я знаю эту больницу!.. Знаю улицу, на которой она находится… Достаточно кислые, неуютные места, да и больница – так себе… Сами знаете, какие у нас больницы «для всех»… Вонь, теснота, обшарпанные коридоры… Бедная Юнникова, какой печальный финал при ее-то, в общем-то, достаточно яркой профессии!.. Старухе сейчас восемьдесят три года… О!.. Она настоящий режиссер – милостью божьей!.. С театром связана всю жизнь: после театрального училища долго работала в московском драмтеатре имени Пушкина. Всех, кого ты, дорогой племянничек, сейчас видел в классной комнате на третьем этаже школы двенадцать ноль три, она принимала в «Хорин» лично. Устраивала прослушивания, расспрашивала о взглядах на искусство, о личных творческих планах… Пожалуй, только кроме одного единственного человека… Угадайте, кого?
– Томмазо Кампанелла!..
– Точно!.. За исключением одного только Томмазо Кампанелла – того самого, что читал только что, стоя на табуретке, свою «исповедь»…
– Какое странное имя!.. – проговорил водитель машины и даже на какое-то мгновение отвлекся от скользкой зимней дороги и повернулся к своим пассажирам – тетушке, ходившей в «Хорин» уже давно и потому считавшей себя знатоком всего того, что происходило в самодеятельном театре, и курсанту военного училища – приятелю водителя, за которым, собственно говоря, он и заехал этим вечером, чтобы по пути к своему дому завезти того в казарму. – Никогда раньше не слышал такого странного имени!..
– Да в этом самодеятельном театре у всех такие странные имена, не имена, а клички рецидивистов, – сам черт ногу сломит!.. – проговорил курсант.
– Хотя… Клички рецидивистов… Нет, ты не подумай чего такого!.. Они вроде бы все законопослушные… Вроде бы… – с определенным сомнением в голосе добавил он.
Они уже достаточно долго крутились по темным, завьюженным улицам. В машине было тепло. Тетушка продолжала свой рассказ:
– Совсем недавно театр «Хорин» получил новое помещение… Тоже достаточно запутанная и непонятная история… «Хорину» было велено перебраться в какой-то бывший «красный уголок» при жилконторе, в котором до него в гордом одиночестве располагался один очень странный проект -«Музей умершей молодости состарившейся и умершей молодежи прежних лет»… Бывший «красный уголок» числится на балансе районной управы, и его все время предоставляют для каких-то странных модерновых культурных проектов… То одного, то другого… Кстати, проект с этим непонятным музеем в настоящее время, по-моему, уже окончательно заглох… Нет, экспозиция осталась, по крайней мере какие-то ее части, но люди, которые все это дело затевали, по-моему, давно потеряли к нему интерес, и музеем уже никто не занимается… Так валяются какие-то, с позволения сказать, экспонаты, пока не пришел какой-нибудь очередной молодой гений и не уговорил управу отдать фактически заброшенное помещение под его проект… Впрочем, нет, сейчас – не заброшенное… Сейчас там – «Хорин»… Я точно не знаю, но то ли Томмазо Кампанелла постоянно околачивался в этом музее, то ли он чуть ли не одновременно с хориновцами пришел в этот музей, а в «Хорин» попал уже заодно, то ли он вообще работал в этом музее сторожем, то ли он оформлял какую-то экспозицию, посвященную Лефортово, в этом музее (да, кажется, именно так оно и было – он в этот момент оформлял экспозицию, посвященную антуражам Лефортово), да только пути его и «Хорина» пересеклись… Причем пересеклись уже после того, как «Хорин» в одночасье, после какой-то непонятной истории, о которой я расскажу вам позже, осиротел, остался без Юнниковой, и тут, как по волшебству, в нем появился этот самый Томмазо Кампанелла… Его никто не принимал, никто не приглашал, он появился сам по себе и сразу пришелся к месту, можно сказать, сразу оказался чуть ли не в самом центре внимания, потому что события в «Хорине» стали развиваться совсем не так, как это было при Юнниковой… – тетушка на мгновение замолчала, чтобы перевести дух…
– Смотрите!.. Смотрите, какой мрачный дом!.. – вскричал вдруг курсант.
Прозвучало это так неожиданно, что водитель вздрогнул и сделал заметный вилек рулем, – машина чуть было не пошла на скользкой и узкой улице юзом…
– Ну вас к черту!.. – раздраженно проговорил водитель. – Мы, кажется, заблудились!.. Ну точно!.. Вот этот перекресток мы уже проезжали!..
– И не один раз!.. – подтвердила тетушка.
– Надо же было заблудиться!.. Ужасно хочу есть!.. – проговорил друг курсанта, сидевший за рулем автомобильчика, на этот раз не столь раздраженно.
– Я что-то тоже очень проголодался… – а это курсант.
– Да уж… И я что-то голодна. А теперь мы уж третий круг делаем! – сказала тетушка.
Всем троим ужасно хотелось есть и не менее сильно хотелось спать. Но ни одно из этих желаний пока не могло быть удовлетворено. Конечно, они могли купить в каком-нибудь киоске каких-нибудь пирожков, остановиться где-нибудь у обочины и съесть их. А потом – почему бы и нет?! – они бы могли отоспаться в этой машине, как в маленьком домике на колесах… Могли бы… Но, конечно, пока еще такая абсурдная идея не приходила им в голову, потому что это было только начало сегодняшнего вечера и еще рано было браться за воплощение абсурдных идей… Воплощение абсурдных идей должно было начаться немного позже!
– Зря вы меня обвиняете в том, что мы по третьему разу проезжаем один и тот же перекресток!.. Я вообще не москвич… И сегодня, между прочим, только первый раз за рулем!.. Тр есть я водил, конечно, раньше, но там, у нас… А там у нас и улицы не такие запутанные, и движение не такое… А тут – туда не поверни, здесь не развернись, там – только прямо!..
Да, тетушка, вы знаете, что Вася приехал в Москву из Сыктывкара… У него здесь тоже тетя… Правда, она живет не в Москве, а в Купавне, но это неважно!.. Зато она отдала ему эту машину!.. Конечно, машинюшка довольно старенькая, но все еще на ходу… И корпус не очень ржавый…
Что это еще за Сыктывкар такой?.. – с недоверием проговорила тетушка – самодеятельный артист.
- Послушайте, поедемте тогда в самый центр, на Красную площадь!.. – предложил Вася, никак не откликнувшись на вопрос о Сыктывкаре.
– Туда машины не пускают… – проговорил курсант.
– Ну неважно!.. Значит к… Красной площади!.. Я знаю, как добраться вот от этого места к Красной площади, и знаю,
как добраться от Красной площади до твоей казармы… Иначе мы проплутаем всю ночь!.. Как добраться от этого места до твоей казармы я не знаю!..
– Ладно!.. Поехали на Красную площадь!.. А дорогой тетушка расскажет нам про этот странный самодеятельный театр и про его не менее странных участников и героев…
– О!.. Обожаю про странных участников и героев!.. Боюсь, что эта тема меня так взволнует, что мы вообще проедем мимо Красной площади куда-нибудь не туда… Хорошо еще, что в машине тепло, а то бы в такую погоду нам эти плутания могли стоить обмороженных ушей, щек или пальцев, – у кого нет теплых варежек!.. Ну что же вы, тетушка, не продолжаете?!. Я прибавляю газу, хоть по такой скользкой дороге это и не совсем безопасно, и мы едем на Красную площадь!
Он действительно немного сильнее нажал на педаль газа, но тут же и отпустил ее.
– Ладно, продолжаю-продолжаю… Покуда старуха Юнникова была здорова и хориновцы не были предоставлены сами себе, «Хорин» не был никаким театром, а оставался любительским «Хором, исполняющим песни на иностранных языках», – отсюда и название-сокращение – «Хорин». Но вот старуху Юнникову разбил, как я слышала, чуть ли не прямо на репетиции приступ какой-то сердечной болезни… Впрочем, может, и не на репетиции, я точно не знаю, меня в этот момент не было рядом, я знаю только с чужих слов… Она долго пыталась выкарабкаться, а теперь – умирает в больнице, расположенной здесь же, в Лефортово, а среди хориновцев выделилась не такая уж и маленькая группка людей, в основном тех, кто был принят в хор Юнниковой в последний период, когда она уже плохо себя чувствовала и не могла столь же активно, как и в былые времена, пропагандировать среди своих питомцев пение на иностранных языках, – она, эта группа, решила, что можно найти занятие и поинтересней, чем просто петь… Идея преобразовать хор в театр с таким же названием, пришла в голову Господину Радио. Он и заразил ею многих хориновцев. Естественно, когда он взял на себя роль режиссера, то никто особенно и не возражал. Впрочем, лидерство его не было полным и отчетливым, поскольку он был, скорее, режиссером-председателем, а основная же режиссура осуществлялась всем коллективом «Хорина» на принципах демократии.
То есть каждый из хориновцев («новохориновцев», как они еще иногда стали себя называть в отличие от тех, кто остался верен старухе Юнниковой и перестал теперь посещать репетиции вовсе) предлагал свои идеи к всеобщему рассмотрению, а уже общество решало, стоит или не стоит применять их в спектакле, который они готовили. Однако правда и то, что почти никто не предлагал никаких более-менее внятных идей, а помимо Господина Радио в лидеры выбился еще Томмазо Кампанелла – он-то как раз предлагал идей много и преинтереснейших, но ходил на собрания любительского театра нерегулярно, мог появиться вообще выпивши, а потому безусловной конкуренции Господину Радио составить не мог.






