Дело Томмазо Кампанелла Соколов Глеб
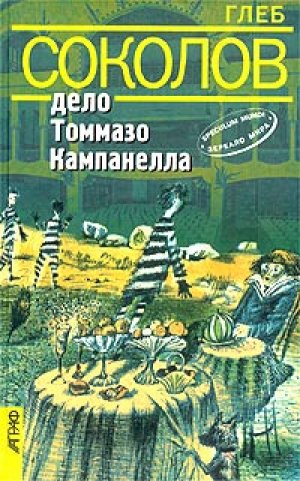
Эту вроде бы «галиматью», этот проект немного сложно понять… Но ведь сейчас не советское время, и каждый может делать все, что хочет, даже если это и полная глупость, и никогда не приведет ни к какому хорошему практическому результату… В общем, «новохориновцы» собирались по вечерам, галдели, предлагали каждый свои безумные проекты, пытались сообща сочинять какую-то, конечно же, «гениальную» пьесу, ссорились, слушались и не слушались Господина Радио, оригинальничали, выпендривались, даже писали какие-то предложения официальным властям…
Так называемый «спектакль», «пьеса», которую «новохориновцы» готовили и о которой все время рассуждали, была при всем при том лишь набором каких-то плохо связанных друг с другом этюдов, зарисовок, монологов и диалогов, идей, намечаемых сюжетных ходов, предполагаемых (впрочем, только вчерне) эпизодов, которые и показать-то никому было никак нельзя. И хотя они говорили, что пьеса «вот-вот будет закончена, остались недопридуманными лишь самые малости, осталось лишь подшлифовать, состыковать отдельные ее акты воедино», но на самом деле вряд ли, несмотря на множество черновиков, репетиций и предложенных идей, они хоть сколько-нибудь продвинулись вперед, и действительно законченным в пьесе можно было считать лишь название: «Сквозь Север мглистый…». В том смысле, что все остальное, помимо заголовка, постоянно менялось, переписывалось, перечеркивалось, создавалось заново, но уже совершенно в противоположном ключе, а название оставалось неизменным.
«Сквозь Север мглистый…» было частью первой строки стихотворения, которое, так же безнадежно и бесконечно, как хориновцы готовили премьеру своей пьесы, сочинял Томмазо Кампанелла – тот, кто читал монолог-исповедь. Первая строка этого стихотворения звучала так:
«Мое сознание, искрясь, сквозь Север мглистый прорастает…»
– Как эта строчка подходит к сегодняшнему вечеру!.. Действительно ведь, посмотрите какая за окнами нашего автомобиля северная мгла, какая за окнами нашего автомобиля северная стужа… Только вот не могу понять, куда при этом прорастает наше сознание!.. – проговорил водитель автомобиля.
Перед носом автомашины бесконечной лентой вились зимние московские улицы.
Глава III
«Этот край назовем мы тюрьмою…»
На мгновение заглянем в прошлое и познакомимся с тем, что предшествовало репетиции в школьном классе…
Черной бесконечной ночью, минуя погруженные во тьму северные полустанки, из края Полярных морей в сторону Москвы бежал по рельсам закоптелый пассажирский поезд… В одном из грязных, душных купе шла ожесточенная «рубка» в карты.
Играли трое: два матроса и немолодой мужчина с грубыми чертами лица… Играли очень азартно и с исступлением, впрочем, двое матросов то и дело переглядывались друг с другом, а мужчина больше смотрел себе в карты, что, впрочем, ни в коей мере не могло свидетельствовать о том, что игра велась нечестно, потому что оба матроса были настоящими, только что ушедшими в отпуск матросами, да и игра велась, кажется, не на деньги…
«Один из них утоп, ему купили гроб…» – напевал себе под нос тот из матросов, что был длиннющего роста, как пожарная каланча.
Помимо длинного роста, его отличал еще длинный крупный нос и под носом – пшеничные усы… Немолодой мужчина с грубыми чертами лица тоже носил усы, которые у него были такого же, как и у матроса, пшеничного цвета. Нос у немолодого мужчины был широкий и красный – видимо, он увлекался водкой и другими напитками того же свойства. Кстати, на столе была только что раскупоренная бутылка «Русской» (вторая, точно такая же, но уже опорожненная стояла под столиком и со стеклянным дребезгом ударялась боком об металлический кожух расположенного там же обогревателя). В один из моментов, игроки разлили содержимое откупоренной бутылки по чайным стаканам, вставленным в грубые алюминиевые подстаканники, и махом выпили. На закуску у них шли какие-то рыбные консервы и хлеб…
Локомотив поезда хрипло гудел, проезжая по редким безлюдным северным переездам…
Отправив в рот по консервированной рыбешке и зажевав ее куском черствевшего серого хлеба, матросы закурили недорогие сигаретки… Красноносый с пшеничными усами не курил.
– Значит, Таборский, к тетке едешь?.. – спросил его длинный матрос.
– Ну, не к тетке… Она была лучшей подругой матери… Мать молодой умерла… Да тетке уже, наверное, сто лет!..
– Так уж и сто?.. – недоверчиво спросил длинный матрос. Что, Сеня, что ты пристал к попутчику со своими дурацкими расспросами?!.. – перебил длинного матроса другой, темноволосый и коренастый. – Мало того, что человек поделился с тобой напитком, так ты еще и допрашиваешь его, хуже прокурора!..
– Да нет, почему, я расскажу!.. – как-то очень беззащитно заулыбался, произнося эти слова, Таборский.
– Я – сирота… Отец, военный переводчик, погиб в Венгрии в пятьдесят шестом, мать – актриса драмтеатра имени Пушкина попала молодой под машину…
– О!.. Какое совпадение судеб!.. – кажется, даже обрадовался длинный матрос. – Я ведь – тоже сирота… А вот од (матрос показал на своего темноволосого товарища) – безотцовщина… Говоришь, мать попала под машину?..
– Смертельная травма – умерла не приходя в сознание… Анекдот!.. Просто обхохочешься!.. – с улыбкой ответил Таборский. – Был еще водитель той машины… Но это… Ну, в общем… Воспитала меня ее старшая театральная подруга, правда, она не актриса – режиссерша…
– Как фамилия?.. – поинтересовался длинный матрос. – А что?!.. Приедем в Москву, пойдем на ее спектакль… Буфет, девушки, шампанское… Театр, одним словом!.. Так как ее?..
– Юнникова… Да ей уже сто лет, и она спектаклей давно не ставит… У нее сейчас хор… Руководит районной самодеятельностью…
– О!.. Мы тоже участники флотской самодеятельности!.. Поем и играем: гитара, балалайка, гармонь… Да, Юнникова!.. Кажется, что-то слышал!.. Да нет, не кажется – точно слышал!.. Слушай, она в Мурманске в фестивале «Поют подводники» не участвовала?!. Я там главный приз на дополнительном конкурсе ложкарей взял… – проговорил матрос с темными волосами.
– Да нет, она вообще на Севере ни разу не была… – еще шире улыбаясь, ответил немолодой мужчина с грубыми чертами лица.
– А сам-то ты наш, с Севера?.. – спросил длинный матрос. – Я имею в виду, на Севере давно живешь или так, был в краткосрочной командировке?..
– Я?.. Нет… Давно живу… Считай, что давным-давно завербовался… Я северянин со стажем!.. – ответил Таборский.
– Со флотом связан?.. – как-то приосанился длинный матрос. – Случаем, не бывший подводник?..
– Не-е… Я – директор театра…
– А-а, понимаю-понимаю… Береговая служба! – тут же проговорил длинный матрос. – Продажа билетов, организация гастролей, ремонт сцены… Одним словом, скрытый ото всех подводный мир, но только театра!.. Я сразу так и понял, что ты тоже, в некотором роде, наш – подводник!.. Шутка!.. Юмор сумеречных морских глубин!..
Все трое засмеялись… Потом наступила некоторая пауза… Вдруг длинный матрос встрепенулся:
– Задрай-ка ты, что ли, этот лючок!.. А то дует!.. А я уже три дня простуженный… – сказал он темноволосому, что сидел ближе к окну.
Тот опустил на и без того закрытое оконце плотную кулиску из кожзаменителя. Теперь купе казалось совершенно отрезанным от внешнего мира. Клубы сигаретного дыма поднимались к потолку и медленно вились вокруг плафона освещения. Таборский закашлялся…
Нисколько не обращая на него внимания, длинный матрос довольно проговорил:
– Вот!.. Теперь как в подводной лодке!.. Обожаю замкнутые пространства!.. Вообще, я – уникальный человек. Прирожденный подводник!.. Меня природа создала специально для подводной лодки…
– Хе!.. – крякнул темноволосый матрос, поражаясь красноречию друга. – Удивляюсь я, Арсений Семенович, как бы это сказать поделикатнее, вашему… красноречию!.. Костей в вашем языке рентген бы явно не обнаружил…
– Нет, серьезно! – продолжал его товарищ. – Вы посудите сами: у меня болезнь – боязнь замкнутых пространств наоборот… То есть я не люблю ничего просторного и гулкого, такого, чтоб ветер мог гулять, чтоб пространства было много… Мне от просторного и гулкого становится как-то невыносимо ужасно на душе, так что постоянно хочется, пардон, напиться в стельку… Нет, я, конечно, так никогда не делаю и вообще, блюду самую что ни на есть флотскую дисциплину… В общем, не люблю я просторов… Наоборот, люблю все тесненькое и уютное… Театры, между прочим, товарищ директор театра, – специально подчеркнул длинный матрос, – тоже люблю маленькие и тесные… Мне в них как-то приятнее наслаждаться, так сказать, игрой актеров… Люблю сумрак, толщу вод и поднимающиеся со дна водоросли…
– А я люблю простор, свободу… – беззащитно улыбаясь проговорил Таборский. – Поле люблю представить и скачущий по нему табун лошадей. Мне вот нравится у Шукшина: «И разыгрались же кони в поле…» Это рассказ, а название – строка из Есенина… Я в детстве часто в один пионерлагерь ездил… В Ростовской области… Там степи… Нравилось мне там очень… Ширь, простор, свобода, солнце!.. Романтика!..
– Друг, зачем тебе эта свобода?!. И какие на нашем Севере поля с конями?!. Конина, тонко порезанная, засушенная, по-татарски – это другое дело!.. Это бы я с удовольствием взял бы в подводный поход!.. Нет, ты не подумай, что я такой бесчувственный жлоб, я – тоже романтик… Но у нас другая романтика: представь, толща вод, шевелящиеся, поднимающиеся со дна водоросли, сумрак, тишина… Могила!.. Водная могила!.. И мы – вечно живые…
– Верно!.. Верно, Сеня!.. – вдруг встрепенулся темноволосый матрос.
Он сильно потер лицо и глаза ладонью так, словно боялся уснуть. И потом, уже обращаясь к мужчине с грубым лицом:
– Друг, мы тоже ужасные романтики!.. Но нам в нашей службе надо иметь железные нервы, терпение и гордость… «Во глубине полярных вод храните гордое терпенье…»
– Это написал он и Пушкин! – заржал длинный матрос с пшеничными усами.
И потом, перебивая товарища, продолжил за него:
– Представь, совсем недавно наша лодка благополучно возвратилась из похода и, так сказать, вынырнув из толщи вод, пришвартовалась к причалу… Мы вышли на него в черных бушлатах и, сперва взяв паузу и немного передохнув в кругу друзей, потом, держа в руках маленькие чемоданчики с нехитрыми пожитками, добрались на разваливающемся и неудобном маленьком флотском автобусе до вокзала… Я не слишком поэтически выражаюсь?!..
– Нет-нет… Что ты!.. Выражайся!.. – с усмешкой проговорил немолодой попутчик.
– Нет, я могу и попроще… Ну да зачем – здесь собрались люди образованные… Итак, на маленьком северном вокзале, расположенном далеко за Полярным кругом, вдоль серого и унылого перрона уже стоял наш поезд. Поезд с Севера в Москву!.. В Москву!.. В столицу нашей необъятной Родины!.. Купе поезда (я извиняюсь за невольное поэтическое сравнение) – как отсеки, стенки – как переборки… Поезд с Севера, из края Полярных морей сам – как подводная лодка. Край северных рек, через который он мчится в столицу, – леса, лесопилки, реки, по которым сплавляют бревна, редкие селения и лагеря для воров, лагеря, лагеря!.. А чуть севернее – тундра с оленями, чукчи и отбывающие свои срока воры – воры, колючая проволока, тюрьмы… Это даже не жизнь, и никак не свобода, это не край, а – дно морское… Но, как говорил поэт, «если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно!»… Сумрак, расплющивающее давление, тишина глубоководной могилы… И водоросли поднимаются вверх и шевелятся, как волосы утонувших матросов с погибшей подводной лодки… Значит, этот край нужен Родине именно таким, какой он есть!.. В конце концов, нужно же куда-то сажать воров!.. Ты знаешь, друг, что говорили про этот край до революции?.. «Этот край назовем мы тюрьмою…» Сюда ссылали революционеров. Отсюда – не убежишь!.. Так что, как не крути, а наш сухопутный дом – почти что тюрьма. А служба – спускаться в могилу. В водную могилу… Но мы и дом, и такую жизнь, и службу все равно любим беззаветно… Вот такой принцип!.. Потому как других нам не дано… А свобода… Осознанная необходимость – вот что такое наша свобода. Мы – люди служивые, военные… Нам, если хочешь знать… Мы от многого такого, что только на этой твоей свободе, на большой земле только и увидишь, – не в восторге!.. Это я тебе говорю!.. А я кое-чего в жизни повидал… И многому цену знаю. Не то, что этот салага…
И он кивнул в сторону темноволосого товарища.
– Так что же вы в Москву-то едете?.. В Москве-то посвободнее будет, чем у нас там… Чем под водой в подводной лодке… – по-прежнему улыбаясь спросил Таборский. Было непохоже, чтоб водка хоть немного на него подействовала – по крайней мере внешне он оставался совершенно трезвым. Скорее всего, он был очень силен пить. – В Москве – свобода!.. А вы ее, как говорите, не любите!..
– Ха!.. Нам нужен яркий свет… Глаза требуют видеть свет… А легкие – дышать кислородом!.. Тот же самый театр нужен!.. Эмоции!.. А потом, это ты сильно заблуждаешься, если думаешь, что в Москве – свобода… В Москве – Кремль, Мавзолей Ленина – это точно есть… Правительство работает… А свобода… Не знаем… Давно не бывали… – закончил с кривой усмешкой длинный матрос.
– Это точно!.. – подтвердил темноволосый. – В Москве мы не бывали давно!.. Я так, например, вообще не был ни разу!.. Ха!..
И он громко и задорно засмеялся. Чувствовалось, что из всех троих, сильнее всего водка ударила именно ему в голову…
– Мы знаем одно – в Москве для нас перемена ощущений будет очень яркая… – произнося эти слова, темноволосый матрос очень оживился, и как-то сразу стало заметно для его немолодого собеседника, какой он на самом деле еще молодой, увлекающийся и действительно не растерявший романтического запала, в сущности мальчишка…
Темноволосый матрос тем временем продолжал:
– Я это воображаю себе так…
– Воображает он, салага!.. – заметил его длинный товарищ. – Что ты там можешь воображать?!. Ты же ничего не видел!.. Нет, вру, видел… Видел пыльную улицу между покосившихся заборов в родном Котласе… Это ты знаешь где… – пояснил он для попутчика. – …Тоже у нас, на Севере. Он оттуда родом, оттуда и на флот призвался…
– Подожди, дай сказать… Я воображаю это так… – темноволосый матрос еще больше преобразился и сильнее стал похож на совсем молоденького, неопытного мальчишку и уж никак не на бывалого морского волка…
Он продолжал:
– Только что была сумеречная толща вод, водоросли, шевелящиеся, как волосы утопленников, подогретые мясные консервы из банки, сладкий чаек и сразу – театральная премьера, хрустальные люстры, музыка, шампанское!.. Тропические фрукты!.. Что же ты думаешь, мы, матросы Северного флота, в такой ситуации будем глухи к искусству?!. Нет, мы, матросы не глухи к искусству!.. С удовольствием походим по московским театрам… Но только выходить на улицу и на люди станем исключительно вечером, когда и в Москве настанет северный мрак…
– Потому что дневной свет для нас слишком ярок… Мы же привыкли к полярной ночи… А днем будем отсыпаться… Ха-ха!.. – продолжил за него длинный матрос.
– Вот и я так же, – проговорил Таборский.
– Это он шутит, не слушай! – перебил темноволосый матрос. – Просто гулять по Москве днем у нас не будет времени!.. К тому же, мне кажется, что в Москве ночью должно быть совсем не так, как в том городке, из которого мы едем… И даже не так, как в Котласе… В Москве фонари, витрины, море огней!.. Но главное – днем у нас просто не будет времени!..
– Днем мы станем репетировать наш коронный номер – «Гимн утопленников»… Песня в сопровождении стука по переборкам и медленного, плавно замирающего танца… – опять мрачно пошутил длинный матрос. И напел:
«Один из них утоп, ему купили гроб…»
– Ладно, это тоже дурацкая и грубая шутка… Не слушай его!.. Он иногда так мрачно шутит… Но он в душе не такой!.. – проговорил темноволосый матрос, обращаясь к случайному попутчику. – Скажем тебе честно, чтобы не морочить голову… – уже более просто, торопясь, словно бы боясь не успеть рассказать всей истории, продолжил темноволосый. – Мы едем самую малость на отдых, в отпуск – воспользоваться, так сказать, всеми преимуществами яркого столичного города, каким, безусловно, является Москва – столица нашей Родины, а большей частью – и это главное, на конкурс военной песни… Мы же тебе сказали – мы участники самодеятельности… И как участникам самодеятельности нам дали очень краткосрочные отпуска…
– Вот только забыли снабдить всем необходимым для отпуска… Деньгами, например… Ха-ха!.. В достаточном количестве… – в который раз уже перебил его длинный товарищ. – Но нам даже на это совсем не обидно… А обидно нам, конечно, большей частью за Державу… За что же еще нам обижаться!..
И длинный матрос опять запел:
«Один из них утоп, ему купили гроб…»
В стуке колес и хриплых гудках локомотива поезд мчался в Москву. Мимо проплывали сторожевые вышки лагерей и сонные северные поселки… После описанного разговора в купе с прежней яростной силой возобновилась игра в «двадцать одно»…
– Еще!.. Себе!.. Очко!.. Пас!.. – пока еще не очень громко доносилось из-за наглухо закрытой двери.
Меж тем в коридоре поезда уже приглушили свет. Большинство пассажиров давным-давно успели лечь на полки и заснуть, насколько это было возможно в трясущемся и расхристанном, давно требовавшем ремонта вагоне. Но в купе, где ехали трое, действие никак не хотело прекращаться…
Через какое-то время проводница, сквозь сон, успела через приоткрытую дверь заметить, как один из игроков в карты, пошатываясь и зажав в руке мятый сторублевый билетишко, направился куда-то по коридору, явно за водкой, – то ли в ресторан, то ли… Потом еще… Потом другой игрок в карты ходил за водкой… А вскоре шум и крики из этого купе стали разноситься по всему вагону без всякого стеснения. Безобразие-таки началось!..
Не дожидаясь, пока к ней придут жаловаться возмущенные пассажиры сперва соседних, а потом и не только соседних купе, проводница встала с полки, оделась и направилась к той двери, из-за которой вовсю раздавался шум.
Подойдя к двери, она остановилась и стала слушать, что же все-таки кричат внутри, пытаясь таким образом понять, что же там происходит и не слишком ли опасно ей одной усмирять хулиганов, – не стоит ли запросить подмогу в соседнем вагоне, а то и у бригадира проводников, ехавшего в пятом, штабном?..
Некий человек, по голосу вовсе и не показавшийся проводнице пьяным, или уж по крайней мере показавшийся не столь безобразно пьяным, как это можно было вообразить поначалу, громко кричал внутри купе:
– Эх вы!.. Вроде и сироты, вроде и горя хлебнули!.. Да как же можно не понимать преимуществ свободы перед несвободой!.. Эх, матрос!.. Чем ты восхищаешься?! Лагерями, мраком, полярной ночью?!. Если ты так уверен, что наш край – мрачная северная тюрьма, то… то… – говоривший явно захлебывался от душивших его чувств. – Как же ты можешь все это любить таким… тюремным?!. Ты же сам говорил… Ты же сам видел: и мрак, и тюрьма, и ужас!.. Ты же видел, видел!..
– Что с тобой?!. Тише ты!.. Э-э, Таборский, да не дергайся ты так, поранишься… Э, да подержать тебя что ли?!. Не ровен час… Вот ведь, угощал-угощал… Что с тобой случилось?!. Э-э, да ты, дядька, оказывается, ужасно нервный. К тому же пить тебе по многу не надо!.. Эк ты разошелся… – тот, что отвечал, был явно в гораздо более миролюбивом и благодушном настроении, чем тот, первый, и это немного успокоило проводницу (появилась надежда, что до драки все-таки не дойдет). Впрочем, в голосе человека звучала сильная озабоченность, что свидетельствовало о том, что происходило что-то весьма серьезное…
Он продолжал:
– Мы же тебе, Таборский, чин-чинарем рассказали, и нам казалось, что ты должен был понять, что мы есть никто другие, как ужасные романтики!.. Только романтика у нас своя, особая, северная – мрачная романтика!.. Что же из-за нее тут ни с того ни с сего так орать?.. Романтика – не белена, чтоб ее так объесться!..
– Эх, матрос!.. Знал бы ты, какая плохая и мрачная вещь эта твоя мрачная северная романтика!.. Как сил у меня от нее нет, как весь я задушен и загублен!.. Ведь я – труп уже, труп!.. Вся душа уже съежилась и умерла… Ты же видел, видел: этот край – и мрак, и ужас, и тюрьма!.. Кругом!.. Душа съежилась и умерла!.. – казалось, он, этот говоривший, плачет уже, по крайней мере в голосе его явственно дрожало отчаянное, обреченное рыдание. И вдруг со страшной силой, непобежденно, словно яростно сопротивляясь чему-то, словно отталкивая в ужасном порыве тянувшуюся к его сердцу черную костлявую руку, он воскликнул:
– Не-ет!.. Нет!.. Не умерла еще моя душа, не умерла!.. Я не умер душой!.. Не верю, что умер!.. Кабы умер – как бы я мог сейчас в этом поезде ехать!.. Разве мертвецы в поездах могут ездить?!.. Разве мертвецы в поездах «Русскую» с матросами распивают?!.. Не-ет, душа моя не умерла!.. Как же я мог отчаяться и подумать, что душа моя умерла!.. Какой же я ужасный дурак после этого!.. Как же я мог так подумать?!. Как я, Таборский, мог так подумать?!.
– Эй, вы там, потише не можете!.. – забарабанила проводница по двери купе. – Расшумелись!.. Отдохнуть не дадут, буяны чертовы!.. И что же это за пассажиры такие!.. Пока до Москвы доедут, все нервы измотают… Пьяницы проклятые!..
Постучав таким образом, она подбоченилась и стала ждать, – не произойдет ли теперь чего, успокоятся в купе или нет; испугаются ли ее грозного крика?..
Не, скорее всего, те, что были в купе, крика не расслышали, а на стук не обратили внимания:
– Не-ет, я еще жив!.. И я еду в Москву! – продолжал тот, что только что был готов рыдать. Казалось, он воспрял духом:
– Я еду в Москву! Мне хочется туда, домой, где я родился и вырос, где широкие улицы и фонари, рекламы и театры… Где театр имени Пушкина, в котором работала моя покойная мать… Мне хочется бульваров и площадей, метро!.. Мне хочется большой и полной, счастливой и радостной, как весеннее утро детства, свободы!..
– Свободы?!.. – кажется, как-то очень устало и с какой-то очень большой укоризной переспросил собеседник Таборского. И тут же добавил:
– Свобода есть осознанная необходимость!.. И больше ничего!.. А если домой, на Родину едешь, – то так и скажи… А романтика северная – это для матросского настроения штука очень важная!..
– Постой… – вступил в разговор третий человек, ехавший в этом купе. Голос его звучал совершенно трезво. – Он же сам сказал: он северянин со стажем… Получается – дом-то у него на Севере!.. А в Москве – он тоже говорил – у него только тетка какая-то… Да и то – не родная она ему!.. Так ведь?!.. Так ведь, друг?!. Ты же так говорил!..
– Да, так!.. – ответил тот, к которому обращались. – Никого у меня теперь в Москве нет… И квартиры нет… Остановлюсь в гостинице!.. Даже не знаю еще сам в какой… Что, хороши теперь в Москве гостиницы?!.
– Да все от кармана зависит!.. – произнес по голосу более старший.
– Денег у меня – куры не клюют… Найду самую дешевую!.. – сказал Таборский.
Глава IV
Портрет Господина Истерика
Минуя перекресток за перекрестком, улицу за улицей, автомашина, в которой ехали друг курсанта, сам курсант и его тетушка, наконец-то доползла до самого центра Москвы, до Красной площади, – впрочем, не до самой, конечно, Красной площади, а до одной из площадей, соседствующих с ней.
Тут в моторе стало что-то стучать, греметь и через какой-нибудь десяток-другой метров старенькая автомашина начала чихать и глохнуть. Ее предусмотрительный водитель едва успел подрулить к обочине, как тотчас мотор заглох.
Некоторое время они пытались завести автомашину собственными силами, даже тетушка пыталась помогать, подавая ключи, – изрядно продрогли, а потом, посовещавшись, решили не пытаться починить столь предательски сломавшийся автомобиль, а бросить его здесь. Вася собирался утром приехать к машине с каким-то приятелем, который разбирался в ремонте и мог помочь, – а сейчас всем троим хотелось только одного – поскорее выпить в какой-нибудь забегаловке горячего кофе…
Впрочем, подходящее место они нашли не сразу – им пришлось побродить по Красной площади и прилегавшим улочкам, прежде чем они едва ли не случайно заглянули в еще работавший, вопреки всем предположениям тетушки, огромный ГУМ и там, прямо недалеко от входа, нашли какое-то малюсенькое дешевое кафе…
Они тут же попытались заказать в кафе чего-нибудь существенного для себя: мяса, сыра, хлеба, какой-нибудь колбасы, но оказалось почему-то, что ничего сытного, «существенного» нет, – им не смогли предложить ничего, кроме пирожных и горячего кофе.
Пирожные же в этом в общем-то дешевом кафе были дорогие, и все трое в первый момент смутились, оттого что подумали, глядя на пирожные, что покупать их будет как-то очень неэкономно, а потому поначалу попросили себе только кофе – сладкого и со сливками. Сливки были импортные, в маленьких пластиковых «кругляшочках», и подавались за отдельную, хоть и сравнительно небольшую плату…
Перед глазами у них все еще стояла метель, стужа, Красная площадь, Кремлевские башни, укутанные снежной пеленой, высокие и зловещие…
– Какое здесь все-таки зловещее место!.. Мрачное!.. Темно-красное все кругом… Кровь… Ведь верно же: пролетарское красное знамя – это цвет крови погибших рабочих… А здесь все буро-красное… Цвета запекшейся крови!.. Лобное место – место, где казнили, где отрубали головы… Тоже связано с кровью… И эти буро-красные башни… Запекшаяся кровь!.. И это черное небо, и эта метель!.. – проговорил друг курсанта, отряхивая бисеринки растаявшего снега с воротника и меховой шапки. Потом он взял обеими руками чашку дымившегося кофе и сделал первый осторожный глоток. – Какой, однако, сегодня вечер выдался мрачно-романтический!.. И этот ваш, тетушка, рассказ про самодеятельный театр, в котором вы оба занимаетесь!.. Томмазо Кампанелла!.. Конечно, когда я говорил, что не слышал… Я знаю, кто такой был Томмазо Кампанелла – это итальянский мыслитель-социалист, автор учения о Городе Солнца… Раз ваш Томмазо Кампанелла взял себе имя того Томмазо Кампанелла, значит, он, некоторым образом, заявляет о себе: «Вот, мол, я какой – последователь учения о Городе Солнца»… Очень значащее имя… – проговорил друг курсанта.
– Да нет, ты слишком преувеличиваешь!.. – откликнулся курсант. – Это просто прозвище!.. Возможно, просто шутливое прозвище!.. Просто кличка!.. Там даже один человек, тоже хориновец, сказал, что у многих хориновцев клички, как у воров-рецидивистов, и что ему это очень не нравится!.. По-моему, я уже говорил… Этот Томмазо Кампанелла вообще очень странно говорил: «не приходить в себя… одуреть … воздействие лихорадочным темпом… настроение»… Я, честно говоря, так толком почти ничего и не понял… Это-то мне и не нравится!..
– Да вот и мне что-то не нравится все это!.. Не нравится мне этот ваш Томмазо Кампанелла!.. Мне кажется, что все это какое-то не твое, не наше, что ко всему этому мы с тобой, люди в некотором роде государственные, военные, не имеем никакого отношения… Мы-то с тобой – нормальные, здоровые люди… Хотя вот ты, видишь, стихи отчего-то начал писать, хоть и плохие!.. Знаешь, мне кажется, что все, что связано с этим самодеятельным театром, – это какая-то игра, глупая, опасная и рискованная, конечно, в смысле психологическом, в смысле напряжения для психики, начатая больше от нечего делать… Как и твои стихи!.. Какое-то не наше все это с тобой, дружище… Как будто нам что-то пытаются навязать, что нам, на самом деле, вовсе и не нужно… У меня вот, например, на сто процентов есть по поводу тебя такое ощущение… Что тебе что-то пытаются навязать… Ощущение плохое… И действительно тревожное… Тревожное, как мрачный, глупый сон, от которого хочется поскорее проснуться… И я могу вам объяснить, почему!.. Вот ты сейчас сказал про «не приходить в себя», про «воздействие лихорадочным темпом»… Дело в том, что вся эта история как-то удивительным образом накладывается на тот рассказ… На один рассказ, который я услышал совсем недавно, только вчера вечером от своей тетушки в Купавне…
– Ну-ка, ну-ка!.. Интересно-интересно!.. Ради такого случая, ради такого рассказа я даже готова угостить вас еще и пирожными с кремом!.. – проговорила тетушка, вставая из-за столика. Ее недорогая шубка из искусственного меха тоже поблескивала бисеринками растаявшего снега. – Хоть они и дорогие!.. Но все равно!.. У меня есть маленькая заначка… Как раз собиралась побаловать чем-нибудь любимого племянника! Почему бы и не пирожными?!.
– Да-да!.. Это было бы прекрасно!.. – воскликнул курсант. – Честно говоря, я теперь уже ужасно, просто нечеловечески проголодался. – Тетушка, мне вон ту корзиночку с розовым кремом и цукатами!..
Вернувшись к столику, неся в руках блюдца с пирожными, тетушка проговорила, обращаясь к другу своего племянника:
– Послушай, Вася, а может быть, действительно лучше не надо всем нам ходить в этот «Хорин»?.. Ну мало ли чего?.. Как-то меня твои опасения взволновали!.. Как-то мне вот сейчас неожиданно показалось, что в них есть какой-то смысл… Правда, я больше чувствую его сердцем, чем могу объяснить умом… К тому же я вам еще не рассказала, но в последнее время в «Хорине» тоже затевается революция.
– Тетушка, ну перестаньте!.. – перебил ее курсант. – Вы же меня туда затащили, и вы же еще и трусите!.. Вася, давай про рассказ твоей тетушки!..
–Рассказ этот был спровоцирован моим интересом к одному портрету, который висит на стене в комнате моей тетушки сколько я себя помню (еще ребенком мать привозила меня к ней на каникулы из Сыктывкара). На портрете изображен вовсе не старый мужчина с волевым лицом и очень напряженным взглядом… Точно в этот момент изображенный на портрете человек испепелял кого-то взглядом – брови странно сведены, зрачки расширены… Этот портрет передала моей тете моя бабушка – пламенная революционерка, поклонявшаяся этому портрету точно бы иконе… Господин Истерика – вот кто изображен на этом портрете!..
Тетушка и курсант только и могли, что удивленно переглядываться между собой, настолько вся эта история с самого начала показалась им необычной: портрет, бабка – пламенная революционерка, поклонявшаяся какому-то Господину Истерика точно богу.
В какой-то момент они даже перестали есть свои пирожные (Вася пирожных вообще не ел, так как не любил сладкое). Итак, Вася продолжал:
– …Слышали ли вы что-нибудь про загадочную историю Господина Истерика?.. Во время Октябрьской революции ему было около тридцати шести лет… Его историю рассказала мне вчера, точнее сегодня ночью, моя тетушка… Она узнала эту историю от своей матери – моей бабки, той самой, которая поклонялась портрету… «Господин Истерика» было партийной и революционной кличкой этого человека. Смысл в эту кличку вкладывался примерно такой: у всех врагов революции и белогвардейцев начинается истерика, когда они чувствуют поблизости присутствие этого пламенного революционера… Кстати, последние часы жизни этого человека прошли в ночных антуражах одного провинциального городка на Севере России (сразу вспоминаю это ваше «Мое сознание, искрясь, сквозь Север мглистый прорастает…», «Из искры возгорится пламя…» и прочие революционные лозунги…). Задачей Господина Истерика (кстати, он был именно Господин Истерика, а не товарищ Истерика) было «полное и мгновенное (обратите внимание на это „мгновенное“, потому что это слово в нашей истории очень многое значит) переустройство жизни в губернии до достижения необходимого революционного настроения»…
– Прямо как в «Хорине» в последнее время! – воскликнула тетушка.
– Итак, Господину Истерика вроде бы полагалось вызывать истерику лишь у врагов, но на самом деле истерика в неменьшей степени колотила постоянно и самого Господина Истерика… – продолжал Вася. – Так что он как бы служил олицетворением этого понятия… Его отличительной чертой были слова «надо закрутить такую кашу и мешанину, чтобы за одну ночь мы, персонажи революции, достигли того настроения, которое нам необходимо… Он говорил, что в революции самое главное – настроение… Настроение, настроение и еще раз настроение!.. Как-то это действительно очень похоже на то, что говорил тебе твой Томмазо Кампанелла. Господин Истерика отличался глубокой ненавистью к тем местам, в которых он жил… Действительно, в этом городе было много старых, кособоких и разнесчастных домишек, да и вообще… В минуты трудностей он всегда впадал в ужасную истерику и не мог терпеть что-либо больше одной ночи… Все ночи его были наполнены истерикой… Еще он говорил, что в революции необычайно важен антураж, костюм, декорации… Театральное действо!.. Сам он одевался в черную блестящую куртку, носил красный платок на шее и очки-велосипедики в серебряной оправе… Враги настолько боялись Господина Истерика, что когда в городе случился белогвардейский мятеж, то Господина Истерика почти сразу после ареста вывели на темную центральную площадь и расстреляли сразу из нескольких пулеметов… Представьте себе низкие, скособоченные домишки и демоническую фигуру Господина Истерика взметавшуюся тут и там посреди них… Настроение, настроение, настроение! – всегда неистовствовал он. – Так-так…
– Между прочим, – проговорил Вася, – меня как-то сразу заинтересовала эта тема… Настолько заинтересовала, что я решил использовать ее в своей институтской учебе… А что, чем черт не шутит, пусть это будет частью моей студенческой научной работы, частью моего реферата по социологии и психологии… Хотите, я прочитаю вам то, что я уже успел написать?..
– Хотим, конечно хотим!.. – тут же вскричали тетушка и ее племянник-курсант чуть ли не хором, поскольку тема их эта как-то очень заинтересовала…
Вася принялся читать свой реферат, особенно торжественным тоном выделив заголовок…
«История Господина Истерика»
Реферат
Хочу представить вашему вниманию историю Господина Истерика. Оговорюсь сразу, что ударение в этом имени должно падать на второй слог, как это и положено.
Очень важно представить атмосферу тех лет – тупую, крестьянскую атмосферу. Атмосферу городков, больше похожих на деревни, городов с деревянными деревенскими домами, где множество маленьких и покосившихся деревянных деревенских домиков, где у этих домиков есть крестьянские дворы, где эти дворы огорожены заборами. В таких домах живут большие семьи, которые устроены по крестьянскому образцу, – дети живут вместе с родителями и постоянно испытывают на себе их гнет. Хорошо еще если родители подходящие, интересные люди, а если – самодуры или какие-нибудь глупые, некрасивые люди, вовсе лишенные самолюбия, тщеславия и какого-либо стремления к красивой жизни?!. Вот тогда-то – и полная труба… Тогда-то их детям, по несчастью (если бы было так) наделенным хоть каким-то самолюбием, тщеславием и чувством индивидуализма пришлось бы всю жизнь терпеть этот тихий ужас и давление и гнет всяких там Диких и Кабаних (персонажи из драмы А.Н. Островского «Гроза». Как сказано в энциклопедии, «Кабаниха – центральный персонаж драмы, управляет домом с ветхозаветной суровостью, опираясь на старинный закон быта и обычая. „Порядок“ для нее – средство обуздания вольной жизни»)…
Есть люди, которых эта атмосфера устраивает, – это, безусловно, факт, и факт неоспоримый. Но есть также и люди, которым такая атмосфера – как острый нож к горлу, – и это тоже факт. И тоже факт совершенно неоспоримый. К их числу принадлежал и Господин Истерика, о котором и идет речь в данном реферате.
Между прочим, эта атмосфера и сейчас сплошь и рядом присутствует даже и в Москве (может, скоро уже и сто лет пройдет с той поры, а изменилось-то, честно говоря, не так уж и много). Причина очень проста – люди. Российская Империя чуть ли не на девять десятых состояла из крестьян. А что такое крестьяне, и как они живут, и каковы подробности их быта и психологии – понятно каждому. А если было бы непонятно, то необходимо было бы при разъясняющем рассказе применить такие слова: грязь, нищета, убогость, «двух слов связать не могут», полуграмотность, коллектив… Самое ужасное, конечно, было – коллективизм, общинность крестьянской жизни. Лично я понимаю это как необходимость ехать в долгое многодневное путешествие по железной дороге в одном вагоне со всяким полуграмотным сбродом (это очень тяжело – надо сидеть и смотреть на них, и терпеть их, и мучаться от них, и ждать, когда же это ужасное путешествие кончится). Между прочим, «сброд» тут слово тоже очень хорошее, потому что, покидая свои деревни, крестьяне эти сбредались в города и превращались в «сброд».
(Я это все как-то очень «классово», то есть с позиций своего класса подаю, как-то очень с ненавистью… Но вы должны понять, что я добрый, что никакой ненависти ни к какой из частей человечества у меня нет, а просто я хочу понять…)
…Все то, что мы перечислили выше, и было антуражем, в котором возник вдруг Господин Истерика. Неясно, что точно было его предысторией – кто он и откуда, из какого города и из какой семьи, чем раньше занимался, учился ли в какой-нибудь гимназии или ремесленном училище или, может, учился в духовной семинарии, каково было его здоровье и прочая, и прочая, и прочая… Скорее всего, Господин Истерика, как и мой друг – курсант военного училища, обожал комфорт и чистоту и хорошие условия чистенького цивилизованного города, он любил каждый день принимать горячий душ и вытираться после него чистым индивидуальным полотенцем. Точнее, он мог любить это чисто теоретически, понимать, что где-то именно такой чистенький кафельно-прекрасный и никелерованно-блестящий мир и существует, а вместо этого, скорее всего, он видел деревянные избы, стоявшие вдоль городских улиц с лужами, и он очень сильно ненавидел и эти избы и этот город и ему хотелось, чтобы этот кошмар, то есть кошмар и этих изб и этих людей, которые жили в этих избах, прекратился как можно скорее…
Но ничего не происходило, кошмар не прекращался – от него невозможно было избавиться, и Господин Истерика дурел и впадал в панику, и срывался в истерику, в крик, в визг, в черт знает что!.. Скандал бессмысленный и беспощадный со всеми и против всех преследовал его, и он был постоянно на грани истерики, он был чрезвычайно истеричным человеком, он был настоящим Господином Истерика. Ведь он же жил в большой семье, со множеством родственников и домочадцев, с бабками и прабабками, с дедами и прадедами, с отцами, матерями, братьями и сестрами, которые давили ему на настроение, на психику, которые принуждали его жить так, как этого почему-то хотелось им, которые сами были совершенно не удовлетворены своей жизнью, которые тоже бесконечно скандалили и ругались между собой, которые сами пребывали в постоянной истерике от стесненных обстоятельств своей жизни. Бал правила Истерика… (Точнее, может быть, он и не жил на самом деле очень долго в такой семье, потому что он был революционером, профессиональным революционером, и должен был сбежать из своей семьи еще в ранней юности, но, безусловно, подобный опыт, который и определил в наибольшей степени весь его психический уклад, существовал в его жизни)».
Между тем кроме курсанта, его тетушки, его друга Васи в этом маленьком кафе на первом этаже ГУМа были и еще посетители: два человека. Но их фигуры, согнувшиеся над маленьким столиком, скрадывала темнота, потому что сидели они в самом углу, и там было достаточно темно.
Но какие-то фразы из разговора, который велся за этим столиком в углу, все же долетали и до вновь пришедшей троицы. Долетали тем более отчетливо, что один из говоривших – а это, судя по голосу, был мужчина еще очень молодой, скорее даже не молодой мужчина, а парень – говорил ужасно взвинченным, истеричным тоном:
– Не могу!.. Не могу больше работать на фабрике!.. Проклятье!.. Нет никаких сил!.. Хоть бы изменилось что-нибудь!.. Хоть бы что-нибудь изменилось!.. Все жилы вымотала эта проклятая работа на фабрике… Не могу больше!.. Кто же выдумал эту распроклятую работу и для чего!.. Для чего-то же это издевательство-то и придумано было!.. Хоть бы что-нибудь изменилось!.. – раздались со стороны соседнего столика громкие, истеричные вопли. – Какая же гадина все это мучение выдумала?!. Какая же гадина?!. Где эта гадина?!. Удавил бы ее!..
От этих криков трое – тетушка, курсант, Вася – вздрогнули.
Кажется, вторая, согбенная фигура, которая сидела за столиком напротив истерически кричавшего, почувствовала, что на них обратили внимание, потому что обернулась, – «фигурой» оказалась курносая белобрысая женщина, достаточно молодая, может быть, даже не по годам плохо выглядевшая, с низким лбом и белесыми, странно вывернутыми и изогнутыми широкими бровями. Она была замотана чуть ли не от шеи до пояса в широченный и толстенный грубый платок.
– Тише ты!.. Тише!.. – сказала она кричавшему. – Что ты опять нарываешься, чтобы милицию вызвали?!. Давно не встречался?..
Упоминание о милиции как-то явно заставило ее истеричного собеседника приутихнуть и даже, казалось, приуныть.
– Не поминай их, легавых, они и не появятся!.. – проговорил он уже более спокойно по сравнению со своими прежними воплями.
– Не поминай… А чего ты расшумелся?.. Думаешь, мне легко?.. Та же фабрика!.. Тот же обман: вкалывать заставляют, а платить ни черта не платят. И полутора тысяч со всеми делами не выходит!.. То-то!.. – сказала белобрысая женщина в платке. – А куда деваться?.. Куда деваться?!. Кругом один обман!.. – проговорила она еще раз с чувством. – Обманывают нас, обкрадывают: работать заставляют, а платить – гроши платят!..
– Да-а-а!.. – протянул ее собеседник и зазвенел пустыми пивными бутылками, в изобилии стоявшими на столе. – И здесь погано, но в тюрьму я больше не хочу!.. Мне здоровье дороже!.. В тюрьме последнее здоровье вмиг потеряешь!.. А еще этим… Гомосексуалистом сделают!.. На то она и тюрьма!..
– Ишь ты!.. Смотри, Охапка!.. – встрепенулась при упоминании о тюрьме молодая женщина. – Смотри у меня!.. Чтоб ни-ни!.. Забыл?..
– Не-ет!.. Не забыл!.. – со злобой протянул Охапка, – так, видимо, звали этого парня. – Вот у меня!.. Скалится!.. Забыть не дает!..
С этими словами он закатал рукав и поднес руку ближе к свету, струившемуся от лампы.
Татуировка, которую увидели тоже тетушка, курсант и Вася, изображала оскалившуюся тигриную морду, фашистскую свастику и внизу – перекрещенные человеческие кости.
– Скалится!.. Забыть не дает!.. Многое ему здесь не нравится!.. – повторил еще раз Охапка.
В этот момент, немного неожиданно, Вася продолжил чтение своего реферата, хотя и тетушка, и курсант, и сам Вася – все трое в этот момент словно бы находились под впечатлением от разговора сидевших рядом молодого мужчины и этой женщины.
Итак, Вася продолжал:
«Пожалуй, в той революционной идеологии и философии, в той методе, которую хотели применить к обустройству жизни Господин Истерика и его товарищи, не было правды и правильности ни на грош, если оценивать их с точки зрения рациональной, если оценивать их с точки зрения пользы для человеческого тела, с точки зрения пользы для правильного и планомерного развития человеческого общества. Господин Истерика, как и его товарищи, был просто бунтарь, смутьян и вольнодумец, но единственное что при этом им двигало – это ненависть к одному настроению и любовь к настроению совершенно другому…»
Тут Вася прервал чтение своего институтского реферата и проговорил:
– Честно говоря, здесь у меня что-то немного не получается… Что-то немного получается не совсем четко, не так четко, как надо… Я понимаю, что для Господина Истерика самое важное не идеология, а настроение, антураж, но я сам при рассказе о нем больше собственным настроением питаюсь… Я здесь не столько ученый, сколько фантазер… О, тому есть, естественно, уважительная причина! – Ведь я же не знаю, каким был Господин Истерика на самом деле… Я в некотором роде могу только домысливать его характер и обстоятельства его жизни, основываясь на каких-то изначальных фактах, краеугольных камнях, которые положены в основу всех моих фантазий…
– Послушайте, Вася!.. – проговорила в этот момент тетушка курсанта и даже положила на блюдце ложечку с кусочком пирожного на ней, который только секунду до того она собиралась отправить себе в рот. – Послушайте, Вася, получается, вы полностью фантазируете своего Господина Истерика, вы его придумываете, и совсем не обязательно, что персонаж, реальный, исторический, революционный, если хотите, персонаж, положенный в основу ваших домыслов, был именно таким?..
– Ну да… В некотором роде, конечно, да… – проговорил Вася, который явно не мог понять, куда это клонит тетушка его приятеля. – Я только хотел сказать, что самым главным здесь, в Господине Истерика, для меня является настроение… Для меня и для него, каким я его себе представляю, каким я его сам для себя создал…
– Хотя, с другой стороны, вовсе и нет, потому что я все-таки, хоть и не имея явных к тому доказательств, все-таки леплю своего Господина Истерика из материалов, из которых он только и мог быть в его ситуации слеплен… Следовательно, моя фантазия практически не отличается от исторической истины… – все же в следующее мгновение нашелся что сказать Вася…
– Фантазируете… – в задумчивости протянула тетушка. Курсант смотрел на нее с некоторым недоумением.
И тут же она закончила, обращаясь именно к нему, к курсанту:
– Слушай, мне кажется, мы можем придумать за нашего Томмазо Кампанелла часть его предыстории!.. Ведь мы же сейчас пишем пьесу. А некоторые участники нашего самодеятельного театра «Хорин» сами – как персонажи пьесы. Так почему бы не развить эту ситуацию дальше: пусть та пьеса, которую мы пишем, включает в себя истории, истории, которые являются в некотором роде переложением на драматургическую основу историй жизни самодеятельных актеров, которые в ней играют.
– Послушайте, тетушка, вам не кажется, что вы немного как бы того… Заводитесь и увлекаетесь… А мне ведь завтра на экзамен…
– Ничего, дружок, успеешь. Куда важнее придумать для нашего Томмазо Кампанелла предысторию…
– То есть он у нас будет придуманный, как герой мультика?!..
– Да!..
- Знаете, тетушка, все это для меня более и более странно, потому что, честно говоря, такого опыта в моей курсантской практике прежде не было, и я даже не знаю, как на все это отреагировать… Хотелось бы позвонить и другим товарищам, но неоткуда!.. Все это ввергает меня в состояние какого-то ужасного напряжения… Я чувствую, что я трачу время, которое принадлежит совсем другим занятиям… Но я как-то совершенно не в состоянии остановиться!.. Я как-то иду на поводу у этой «растраты» времени все больше и больше… Странно!
– Все это для тебя странно… – проговорила тетушка в задумчивости. – Да, я тоже чувствую, племянничек, что сегодня обязательно произойдет нечто странное!.. События принимают все более и более странный оборот…
– Ой, тетушка, что-то я как-то от всего этого… Как-то мне, честно говоря, даже немного не по себе стало…
– Точно тебе говорю, не наше это!.. – проговорил друг курсанта Вася. – Но с другой стороны, это некоторым образом совпадает с темой моего реферата по психологии… Поэтому я – за!.. Мне это тоже интересно!.. Давайте придумывать Томмазо Кампанелла!.. Давайте придумывать ему предысторию!..
В этот момент у них за спиной раздался голос, от которого они все как один вздрогнули:
– Кафе закрывается!.. Кафе закрывается!.. Попрошу всех заканчивать!..
Пожилая женщина, на которой был надет большого размера, явно великоватый ей буро-красный (какое совпадение – опять этот цвет!) фартук, подошла к соседнему столику, за которым сидели парень и белобрысая молодуха и, поставив перед ними большое эмалированное корытце, принялась бесцеремонно сгребать в него со столика грязные стаканы, пепельницу и пустые бутылки:
– Мы закрываемся!.. Мы закрываемся!..
– Вот так-так!.. – проговорила тетушка. – Похоже, Томма-зо Кампанелла так и останется для нас человеком, чья предыстория остается совершенно не ясной, – кто он, откуда взялся, где искать корни его столь своеобразного характера – все это будет для нас… Как бы это получше выразиться?
– Непридуманным! – сказал за нее ее племянник-курсант.
– Да, точно! Эта часть истории так и может остаться непридуманной! – проговорила в некотором волнении тетушка.
Опять раздался грохот… Это пожилая женщина, вытирая со стола, за которым сидели те двое, – единственные, кроме хориновцев, – посетители этого кафе, переставила корытце на сторону стола, где она уже протерла, с той стороны, где ей еще только предстояло протереть…
– Чертово кафе!.. Лучше бы мы выпили где-нибудь в подворотне!.. – начал громко ругаться парень, которого называла Охапкой его спутница. – Лучше бы мы выпили где-нибудь у нас в Лефортовской подворотне!.. Ближе к дому!..
Тетушка, курсант и Вася вновь вздрогнули.
– Ничего, еще выпьешь!.. Еще сегодня и выпьешь!.. – также громко, таким же злым тоном ответила его спутница. – Ты ведь с Колькой-то сегодня увидеться должен? А ну! Признавайся!.. Сегодня?!.
– А хоть бы и с Колькой?!. Тебе-то что?! – начал громко переругиваться с ней Охапка. – С Колькой увидеться – дело святое!.. Колька – он не откуда-нибудь, Колька – он с войны приехал!.. Расскажет!.. Мне бы к нему спешить надо было, а я здесь с тобой разговоры разговариваю… А ты – вон, вишь… Чего тебе Колька-то?
– А то, что напьешься, не натвори делов!.. Не загреми опять за решетку!..
– Упаси бог! Не хуже тебя знаю!
– Ишь! Расшумелся! Вставай давай! – с этими словами она грубо схватила Охапку за рукав и потащила к двери.
Поднялась со своих мест и троица. Через короткое время все оказались на холоде. Впрочем, Охапка и белобрысая молодуха несколько позже сопровождаемых Васей хориновцев, поскольку за дверью кафе они о чем-то повздорили и ненадолго задержались на гумовской линии и вышли на Ильинку уже вслед за троицей…
– Значит, они считают, что Господин Истерика – это я?!.. – услышали хориновцы и их друг уже знакомые им вопли. – Нет… Я, конечно, бывает, впадаю в состояния… Но нет! Это не я!.. А хотя, черт с ним! Пусть и я! Пусть и я – Господин Истерика.
– Чего ты мелешь!.. – проговорила белобрысая молодуха. – Не надо нам больше твоих истерик. И так – хватит уж! Ты – Охапка!
– Охапка! – повторила она. – Охапка! Ты понял?
– Не-ет! Я – Господин Истерика!.. Мне понравилось!.. – эти неясные вопли все трое услышали уже из темноты.
– А ну-ка, поехали скорее домой, в Лефортово!.. Там выпьем еще!.. – услышали они еще, как будто на прощание. Пьяно кричал, естественно, Охапка. Он же – «самопровозглашенный» Господин Истерика.
– Закусить тебе бы надо!.. Закусить!.. Целый день ничего не ел! – сказала его спутница. – Поедем!.. Там у нас дешевле станет, чем в самом-то центре, у стен кремлевских!..
Послышались удалявшиеся шаги этой пары. Некоторое время хориновцы и их друг стояли в молчании. Первой его нарушила тетушка курсанта:
– Итак, у нас придуман только Господин Истерика!.. – проговорила она.
– Еще как придуман! – это друг курсанта. – У него даже появился двойник в Лефортово!.. Правда, такой двойник, что, уверен, тот настоящий Господин Истерика ужасно бы оскорбился, узнав о подобном двойничестве!..
– А Томмазо Кампанелла совсем еще не придуман!.. – проговорил курсант. – Ни капельки не придуман будущий персонаж нашего будущего спектакля!..
– Ни капельки не придуман Господин Истерика!.. – в тон им ответил Вася.
Все трое довольно быстро пошли по улице, еще сами ясно не представляя, куда они идут…
И дальше нараспев Вася проговорил:
– Он мною, Господин Истерика лю-би-мый, раз-ра-бо-тан для того, чтобы…
– Чтоб мог ты просто повстречаться с историей портрета своего! – закончил курсант, который – и этого не надо бы забывать – был в некотором роде самодеятельным начинающим поэтом…
– А что!.. – проговорила тетушка. – Прекрасно, племянничек!.. Давайте разговаривать стихами!.. Ведь мы все-таки тоже в некотором роде персонажи… Мы же говорили, что участники нашего «Хорина» сами во многом похожи на персонажей какой-то пьесы. Так вот, почему же мы как-то исключаем себя из их числа? Почему мы как-то отделяемся от общей массы, хотя, по совести, нам самое место как раз среди этой массы!..
– То есть вы хотите сказать… – проговорил друг курсанта Вася, – что мы должны сегодняшним вечером превратить нашу, так сказать, реальную жизнь в жизнь театральную, воображаемую и превратить весь наш вечер, всю нашу ночь в один большой, в один-единственный спектакль? О! Это мне нравится!.. Это так в духе Господина Истерика, про которого я все последнее время писал реферат и очень с ним свыкся и сблизился!.. Вот только бы нам не заиграться!.. Только бы нам не заиграться!.. Я уже предупреждал вас о некоторых опасностях подобной театрализации и подобного перевоплощения… Ну да что я всего боюсь!..
И тут он произнес стихами:
«Давайте действовать скорее, чтоб не жалеть уж ни о чем!»
– О! Прекрасно! – откликнулся тут же курсант. – Беру на себя обязательство вообще весь сегодняшний вечер говорить только стихами!
И тут же и курсант в свою очередь сочинил:
- Откинем полог тайн быстрее…
- Мы этим вечером звено
- Последнее узнать спешим скорее:
- Истерика, Томмазо Кампанелла,
- Судьба, загадка, скорость чувств,
- Эмоция!.. Лефортово… Проклятье…
– Между прочим, – проговорил Вася. – Я не сказал вам еще одну очень важную вещь…






