Князь Владимир Никитин Юрий
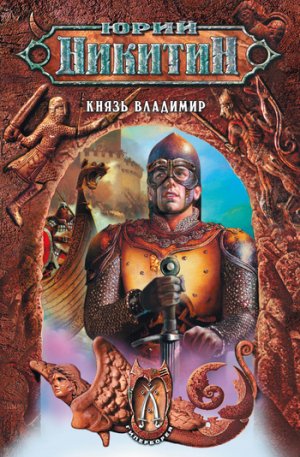
Что-то ударило его в плечо. Он не понял от усталости, следом услышал веселый вопль:
– Раз он грязный, то пусть и наестся грязи!
Другой ком ударил в ухо. Владимир сжал кулаки, повернулся к обидчикам. Варяжко уже сошел с крыльца и бросал в него комья. Княжичи хохотали наверху, Прайдана улыбалась, уперев руки в бока.
– Ого, – вскричал Варяжко весело, – как он стискивает кулаки и сверкает глазами!
– И как свиреп! – добавил Ярополк со смехом.
– И как лют! – крикнул Олег.
А Варяжко в притворном ужасе выронил ком и вскинул руки:
– И как я боюсь!.. Он же меня разорвет в клочья!
Он подошел к Владимиру, вытянул голову. Сытое довольное лицо расплывалось в улыбке. Владимир не знал, как это получилось, он не хотел трогать боярского сына, но сжатый кулак будто сам метнулся вперед. Пальцы ожгло болью. Голова Варяжко откинулась назад, в глазах появилось безмерное удивление.
Он отступил, споткнулся, опрокинулся на спину. Во дворе сдержанно засмеялись. Варяжко вскочил рассвирепевший, заорал:
– Да я разорву его голыми руками!
Он бросился вперед, размахивая кулаками. «Он старше и сильнее, – мелькнула мысль, – этот боярский сын сломает меня, как стебель… Он сильнее и тяжелее. Надо, как учил Сувор, двигаться быстрее. Как можно быстрее!»
Его кулаки дважды ударили Варяжко в лицо, а кулаки Варяжко прорезали воздух. Тут же еще два удара сбоку, один разбил губу, и Варяжко ощутил привкус соли во рту. Он заорал и снова попытался ухватить Владимира. Тот увернулся, хотя чувствовал, как после мешков двигается медленнее, ударил снова, кулак Варяжко задел скулу, но только оцарапал. Он судорожно подставил ногу боярскому сыну. Варяжко рухнул как сноп, но еще в воздухе нога Владимира достала его в ребра. Он перевернулся, а когда поднимался с четверенек, Владимир вложил всю силу в удар ногой. Сам едва не закричал от боли, но зато Варяжко всхрюкнул и содрогнулся от ушей до пяток, как дерево от удара тяжелого валуна. Его лицо было разбито, кровь хлынула из расквашенного носа. Он завалился на спину, загребал обеими ладонями пыль, но подняться не пробовал.
Владимир в мертвой тишине слышал только свое сиплое дыхание. Потом воздух всколыхнул пронзительный визг:
– Убивец!.. Раб убил боярского сына! Хватайте его!
Прайдана орала, княжичи вскочили, опрокинув столик. Варяжко пробовал подняться, но падал на спину. Гридни озлобленно ухватили Владимира за плечи. Он вскрикнул, руки зверски завернули за спину.
Из людской вышел, хромая, Сувор. Волосы были всклокочены, под глазами висели тяжелые мешки. Он закричал сразу мощным голосом, который только и остался непокалеченным с Журавской битвы:
– Оставьте хлопца! Разве не Варяжко начал драку?
– Он боярский сын! – заверещала Прайдана. – Убейте гаденыша!
– Да дети сами разберутся…
– Убейте!
Владимир ощутил, что его тащат, едва давая касаться ногами земли. Потом кто-то вскрикнул, другой выругался. Владимир упал на землю. Над ним пронеслась длинная жердь. Вскакивая, увидел, как Сувор, сильно прихрамывая, размахивает над ним оглоблей, а челядины с проклятиями разбегаются. Один уполз на четвереньках.
– Не сметь! – прорычал Сувор. Он был страшен. – А это – сын Святослава!
Голоса умолкли. Даже Прайдана на миг затихла, затем вскрикнула с новой яростью:
– Этот робич? Он никто, челядин. А здесь я распоряжаюсь! Я велю взять и выпороть на конюшне! Ну?
Челядины нехотя, но дружно двинулись со всех сторон. Сувор размахивал оглоблей, но искалеченная нога не позволяла двигаться так же быстро, как учил Владимира. Сбил с ног еще двоих, но кто-то ударил колом в затылок, и Сувор упал, обливаясь кровью.
Сильные руки ухватили Владимира, потащили, сорвали одежду. Нагого бросили на широкую скамью. От нее шел недобрый запах, в щели забились коричневые комочки свернувшейся крови. Один мужик сел ему на ноги, другой цепко держал голову.
Пороли долго, с наслаждением. Он сцепил зубы и не проронил ни звука, что разъярило палачей еще больше. Он понимал, что нужно наконец вскрикнуть и заплакать, тогда взрослые получат свое и отпустят, но что-то не позволяло так поступить, и он терпел, пока в глазах не потемнело и он не перестал видеть, слышать и даже чувствовать удары.
Он уже не слышал, как гридень на ногах пробурчал:
– Листопад, погоди… Что-то ноги не дергаются.
– Забили насмерть? – спросил Листопад равнодушно. Он небрежно стряхнул капли крови с рубахи, а те, что упали на его толстые губы, слизнул с явным удовольствием.
– Пожалуй.
Гридни отпустили недвижимое тело, а Листопад пинком сбросил с лавки. Тело Владимира повалилось мягко, безвольно. Он лежал на спине, раскинув руки. Из-под него начала выплывать кровь, быстро впитываясь в сухую землю.
– Пошли, – сказал один хмуро, – вряд ли выживет.
– Да, перестарались.
– Что – перестарались, – возразил Листопад. – Сувор едва плечо мне не выбил!
– Так то Сувор! А ты запорол мальчонку.
– А мне какая разница? Я и тебя могу прибить со злости. Думаешь, плечо не болит?
Когда Владимир очнулся и сумел заставить себя шевелиться, он потащился в каморку Сувора. Старого воина как принесли и бросили на пол, так он и лежал, бессильно разбросав руки. Из разбитой головы все еще стекала кровь. Владимир смочил тряпку, вытер кровь и прикладывал к голове старого дружинника до тех пор, пока тот не очнулся и повел глазами вокруг:
– Ты… цел?
– Жив, – ответил Владимир.
– Значит, цел, – прохрипел Сувор. – Все заживет, Влад. Все заживет!.. Молодость свое возьмет.
Да, спина зажила, даже не гноилась, только остались рубцы на всю жизнь, но одновременно узнал, что свое берет и старость. Сувор начал чахнуть, и хуже того – в глазах появилось затравленное выражение, как у бродячего, никому не нужного пса. Он внезапно ощутил, что уже не воин и что его может побить простая грязная челядь. Он согнулся сильнее, из каморки почти не выходил.
Два дня, что прошли после порки, Владимир выбирал время. Он чувствовал, что если все останется так, как есть, то и его спина, несмотря на молодость, уже не выпрямится. Два дня он жил как натянутая тетива, а в полночь медленно выбрался из людской. Все спали, он перепроверил, так ли, потому и откладывал так долго. И еще потому, что самый крепкий сон, как поучал Сувор, под утро. Именно тогда лучше всего лазутчику пробираться в стан врага, а у сонного вартового можно с пояса снять меч.
В челядной спали семеро. Тот, который едва не изломал кнут о его спину, лежал на широкой лавке. На лавках похрапывали еще двое. Остальных, что скрючились на тряпках посреди комнаты, Владимир осторожно обошел, запоминая в темноте, куда ступить. В окно светила слабая луна, глаза привыкли, он видел каждого отчетливо.
– Если оставлю, – прошептал он, все еще убеждая себя, – то не быть мужчиной. И не быть человеком… Я останусь рабом!
Листопад спал, запрокинув голову. Белое горло хорошо видно, Владимир вытащил нож, острый как бритва, с дрожью скользнул взглядом по яремной жиле, где течет вся кровь. Если полоснуть, то кровь брызнет тугой горячей струей и человека уже не спасет никакая сила. Кровь бьет с такой мощью, что струя разбрызгивается на сажени… Он видел, как ежедневно режут коров, овец, коз, свиней, а у человека такое же мясо. И такая же кровь.
Но он знал и то, что даже с перерезанным горлом корова будет метаться, забрызгивая кровью, если сперва не оглушить молотом по голове. И этот здоровенный мужик вскочит и разбудит всех.
Он примерился, приставив узкое отточенное лезвие к глазу Листопада, задержал дыхание и с силой ударил другой рукой по рукояти.
Лезвие вошло в глазную впадину, как в теплое масло. Глаз лопнул, брызнув на пальцы липким. Листопад слабо дернулся и застыл. Он был еще жив, но в голове сходятся все жилы, и лезвие перехватило их разом. Владимир попятился, удерживая себя от дикого желания выбежать с криком. Едва не теряя сознание от ужаса и омерзения, он выбрался на цыпочках, проскользнул вдоль стен к людской, неслышно пробрался в свой угол.
Уже укладываясь на тряпки, ощутил, как все тело сотрясает дикая дрожь. Он закрыл глаза, но знал, что сон не придет. Он убил человека. И если даже удастся скрыть от людей, то боги все равно видели все!
Глава 4
Утром был крик, во дворе метались люди. В людской начали подниматься, спрашивали испуганно, что стряслось. Он встал в числе последних, вышел, сильно хромая, двигался с трудом, кривился болезненно, а спину держал полусогнутой.
Пронесли тело дюжего мужика. Рукоять украденного с поварни ножа уже не торчала в глазнице, лицо было покрыто коричневой коркой запекшейся крови. Народ сбегался посмотреть, их оттесняли. Потом двое из княжьего терема ходили и с пристрастием допрашивали всех. Больше всего поглядывали на Сувора, кое-кто потребовал потрясти и мальчишку, да лучше бы с каленым железом, но старший посмотрел на бледного и отощавшего после порки Владимира, отмахнулся с пренебрежением:
– Еле ноги волочит… Это дело рук мужчины.
– Тогда Сувор?
– Сувор еще не покидает ложа. Какой злыдень едва не убил старика? Нет, Сувор еще не скоро встанет, если вообще поднимется.
Гридни переглядывались. Владимир видел растущий страх на грубых, озлобленных лицах. Кто-то шепнул о гневе богов, о некормленом домовом, о злобе упырей. Прошлая жертва принята была как-то не совсем хорошо, хоть и принята…
Вечером он случайно столкнулся лицом к лицу с гриднем, который тогда сидел у него на ногах. Что прочел в глазах избитого мальчишки, неизвестно, но Владимир видел, как дрогнуло лицо взрослого мужика, как незримой тенью метнулся страх.
Когда разошлись, Владимир удивленно поглядел ему вслед. Оглянулся и гридень, будто ощутил взор, вздрогнул. Походка изменилась, он юркнул в ближайшую дверь кузни, хотя Владимир был уверен, что шел к подвалам с зерном.
Боги ли вмешались, ночной ли упырь задавил гридня, но с того дня спина его не знала кнута. Он получал оплеухи, по-прежнему орали и взваливали на его плечи столько, что и взрослый падал бы от изнеможения, но пороть… Даже Прайдана начала поглядывать с некоторой опаской.
«Я, – подумал он потрясенно. – Я что-то изменил! Сам. Волхвы глаголят, что боги помогают только сильному. Но, похоже, помогают и тем, кто страстно жаждет стать сильным».
В эту ночь он еще мечтал, как зло отомстит обидчикам, каким пыткам подвергнет Прайдану, но к утру впервые в жизни начал строить планы.
Недели через две после прибытия латинян Владимир мчался на коне к Горе. Он отвез наказ старшего дружинника ловчим, возвращался гордый своей полезностью. Он уже выполнял поручения взрослых, в то время как его сверстники, не только княжичи – братья по отцу, еще скакали на палочках и лихо рубили голову чертополоху.
Возле небольшой статуи Симаргла, вырезанной с любовью и умением из старого дуба, собралась большая группка горожан. Владимир придержал коня. Люди размахивали руками, орали, наскакивали друг на друга, спорили, тыкали в грудь один другому растопыренными пальцами. Каждый оглядывался, указывал на крылатого пса, что призван охранять посевы, снова наскакивал на супротивника в споре. Гвалт стоял больший, чем когда вороны отгоняют бродячую кошку от своих гнезд.
Потом чуть стихло, а к деревянному столбу протиснулся приземистый человек в черной одежде. Он вскинул руки, что-то закричал горестно и уныло. Кияне начали оборачиваться к нему, голоса стихли. Больше разглядывали его необычный наряд, похожий на черное платье вдовы, но кое-кто слушал, покачивал головой.
Латинянин ярился, изо рта шла пена, выкрикивал то ли заклятия, то ли молитвы, тыкал перстом в деревянный столб. Владимир остановил коня, с седла было видно через головы собравшихся, как лицо латинянина покраснело от натуги, а глаза стали круглыми, как у совы.
– Вы кланяетесь не богам, а идолам! – донесся яростный крик на ломаном языке полянского племени. – Из одного дерева делаете своих богов и свои лопаты. Так почему не кланяетесь и лопатам?
Владимир видел, как лица мужиков посерьезнели. Один сказал предостерегающе:
– Ну-ну, ты богов наших не тронь. Хвалишь своего, ну и хвали. А нашего не тронь. Мы ж твоего не трогаем?
– А я вам говорю, – надрывался латинянин, – что только наш бог – настоящий! А все остальные – демоны. Бог настолько велик, что его нельзя изобразить ни в камне, ни в глине, ни в дереве. А все, кого изображаете, – это демоны! А наш бог настолько всемогущ, что нет ничего на свете, чего он не мог бы сделать…
Из задних рядов протиснулся крепкий немолодой мужик. Он был в простой холщовой рубахе с открытым воротом. За пеньковым поясом торчал плотницкий топор. Лицо его было изуродовано шрамами, правое ухо срублено. Глаза смотрели со злым весельем.
– Все?
– Все! – ответил латинянин яростно.
– Даже невозможное?
– Для нашего бога нет ничего невозможного!
– Гм… А скажи, латинянин, раз уж он так всемогущ, то сможет ли сотворить такой камень, чтобы сам не мог поднять?
И смерды, и знатные одинаково морщили лбы, переваривали вопрос, ставили его так и эдак. Дошло не сразу, и то не до всех, наконец лица иных начали расплываться в неуверенных усмешках. На латинянина поглядывали с интересом, как-то вывернется? Подкузьмил Микула, ничего не скажешь, крепко засадил.
Латинянин задохнулся, как от удара под ложечку. Глаза на миг стали растерянными, но красное лицо побагровело, налилось тяжелой кровью. Он завопил, потрясая кулаками:
– Козни неверных! Магометанцы расплодились среди вас, подбивают против истинной веры! Сам диавол глаголет вашими устами!
Микула стоял, широко расставив ноги. В хитро прищуренных глазах была откровенная насмешка.
– Нет, ты не юли, как лиса хвостом. Ответь!
Его поддержали разноголосые крики:
– Да, ответь!
– Человек спросил ведь! Ответь, коли могешь…
Латинянин вскрикнул во весь голос, от натуги срываясь на поросячий визг:
– Что я могу ответить диаволу? Только бесстрашно плюнуть ему в обличье!.. А ежели ваш бог не только в дереве, то пусть он поразит меня своей мощью!
Латинянин повернулся к идолу и смачно плюнул прямо в деревянный лик Симаргла. Мужики ахнули. Владимир сжался на коне в предчувствии беды. Симаргл дает добро, охраняет посевы, но чтобы охранять, надо иметь злой нрав и крепкие зубы!
Толпа как-то сразу двинулась на бесстрашного монаха-проповедника. Микула с быстротой молнии выхватил топор.
– Ты глуп и невежественен, монах! – выкрикнул он срывающимся от ярости голосом. – Я слышал куда лучших проповедников. Дурак ваш папа римский, что прислал таких олухов! Ты плюнул не в Симаргла, ты плюнул в наши души… Наш бог не карает, он слишком велик – он бог! – но это поручил нам, людям. И пусть теперь твой сильномогучий бог защитит тебя, если сумеет!
Он коротко и страшно взмахнул топором. Латинянин бестрепетно смотрел в лицо обидчику, не делая попыток бежать или даже уклониться. Возможно, все-таки ждал спасительной руки своего бога.
Лезвие топора ударило в середину высокого лба. Звонко хрустнуло, словно перерубили толстую жердь. Монах сделал два шага вперед. Из расколотой головы торчала рукоять топора. Само лезвие ушло вглубь, разрубив голову до гортани.
Мужики сурово молчали. Конь под Владимиром задрожал и попятился, чуя кровь. Губы Владимира тряслись, по спине бегали мурашки. Смерть видывал часто, она была всюду: в поединке, на охоте, казнь головника, но то были понятные смерти. Всякий раз за что-то! Но сейчас ни с того ни с сего – горящие глаза, перекошенные лица, руки на рукоятях ножей… И страшная непонятная смерть человека на глазах толпы!
Вечером того же дня плотник Микула был скаран на горло. Его забили до смерти палками, карой головников и прочих извергов, недостойных даже смерти, как другие люди. Казнили его по приказу великой княгини Ольги, которой пожаловался голова посольства епископ Адальберт.
По Киеву пополз грозный ропот. Два монаха вышли утром и вскоре прибежали обратно. Оба в изодранной одежде, избитые. Один держал на весу сломанную руку. Княгиня Ольга распорядилась приставить к монахам по два гридня, чтобы охраняли гостей, не давали чинить обид. Боярин Блуд, который особо яро призывал держаться за веру отцов, явился к княжичу Святославу для тайной беседы.
Говорили долго, Блуд как никогда был настойчив. Святослав хмурился, хотел уйти от разговора, но Блуд, как стало известно погодя, не дал даже отложить трудное решение.
На другой день княжич Святослав, коротко и в сторонке переговорив еще раз с Блудом и двумя прискакавшими к нему воинами, тут же отослал всех обратно, а сам, оседлав своего Вихря, унесся за город. В тереме глухо и с оглядкой говорили, что княжич не попрощался с матерью, как делал всегда, уехал, даже не спросив ее разрешения, даже не сказал, куда ускакал.
Весь день к княгине приходили встревоженные бояре, воеводы, знатные люди. Рядом с княгиней по левую руку сидел епископ Адальберт: мрачный, с горящими глазами, встречающий каждого суровым испытующим взором. По правую сторону находился священник Григорий, прибывший из Царьграда.
Поговаривали, что Адальберт и Григорий – лютые враги, ибо верят в Христа по-разному, когда-нибудь схлестнутся насмерть, и одному из них не жить, но сейчас заключили перемирие. Мол, оба христиане, волею одного бога заброшенные к нечестивым гипербореям, все еще поклоняющимся своим солнечным богам…
Взрослые вокруг Владимира люто спорили, ругались, потрясали кулаками. Он никак не мог уловить смысл разногласий, извертелся среди гридней и челяди. Впервые им было не до него, никто не бил, не пинал, не заставлял чистить до блеска закопченные котлы.
Выскочил на улицу, там мелькали огни факелов. Часто слышался быстрый цокот подков. На улицах начали появляться вооруженные люди. В воротах боярских теремов теперь стояла вооруженная до зубов и многочисленная стража. А княжий терем охраняли особо строго, отборные гридни прохаживались по обе стороны ворот, не подпускали даже близко. Наверху ворот сидели лучники.
Этой ночью он долго не мог заснуть. Раздраженные голоса раздавались как со двора, так и из терема, звенело железо, скрипели сдвигаемые с мест тяжелые сундуки, комоды, столы. Сон пришел тоже неспокойный: с пожарами, криками, кто-то огромный хватал его и бросал в пропасть, так не раз, пока он не проснулся весь в липком поту и с бешено колотящимся детским сердечком.
Во дворе стоял крик. Он бросился к окну. В распахнутые ворота на полном скаку врывались тяжело вооруженные всадники. По обе стороны лежали темные трупы стражей. Они казались маленькими, скрюченными, но темные лужи под ними были огромными.
С крыльца сбежали трое гридней, рослые и крепкие. Мечи в их руках грозно блистали. Всадники на ходу метнули дротики, все трое защитников рухнули, пронзенные насквозь острыми жалами. Другие всадники кружили по двору, быстро и умело рубили сопротивляющихся, лучники прямо с коней так же быстро и прицельно били стрелами по окнам терема. Десятка два воинов, споро и без толкотни, заскочили с седел на крыльцо. В лунном свете блестели шлемы, латы на плечах, кольчуги. Это были самые матерые воины, прошедшие со Святославом сквозь огонь и пожары битв, разгромившие Хазарский каганат, усмирившие вятичей, ясов и касогов!
Впереди бежал с обнаженным мечом рослый и могучий витязь. Он сбил наземь двух встречных гридней, не стал добивать, понесся по лестнице вверх. За ним бежали его дружинники. Владимир узнал княжича Святослава.
В палатах гремело, слышались душераздирающие крики. Вспыхнул огонь, но со двора прогремел властный голос, трое из нападавших бросились гасить пламя. Распоряжался огромный толстый воин на коне. Когда пламя осветило его лицо, Владимир с трепетом узнал руса Сфенела, опытного воителя, наставника княжича Святослава.
Пожар затушили быстро. Крики вскоре затихли, несчастные захлебывались в своей крови. Сфенел быстро отдавал приказы. Огромный и толстый, он двигался очень быстро, распоряжался умело и жестоко. Из темноты выныривали воины, снова уносились в ночь, быстрые и бесшумные, как призраки.
Из зияющего пролома в дверном косяке на крыльцо вышел, переступив через сорванную дверь, рослый воин в полном воинском доспехе. В его руке тускло блестел меч, длинный и острый. С черного острия срывались темные капли. Когда воин откинул забрало, Владимир в свете факелов узнал княжича Святослава.
– Готово и с большой палатой.
– Гридни? – коротко спросил Сфенел.
– Кто сдался, того просто связали.
– Пойдем, сразу переговорим с княгиней.
Святослав заколебался, и у Владимира в его укрытии сжалось сердце. Святослав, великий воин и великий полководец, завоевавший соседние страны и мечом раздвинувший пределы Руси, сильный и решительный, сейчас колебался в мучительной растерянности, а Сфенел, давно уже не наставник юного княжича, сейчас словно снова вернул прежние времена.
Он с неожиданной легкостью прыгнул с седла прямо на крыльцо. Затрещали доски, воевода поскользнулся в темной луже, выругался. Он кивнул, сразу несколько воинов бросились к нему с обнаженными мечами. Святослав вздохнул, крепче сжал рукоять. Лицо его было бледным, а глазные впадины в слабом лунном свете казались темными пещерами.
– Надо… так надо, – сказал он хриплым голосом.
Он пошел впереди. За ним следовали Сфенел с дюжиной воинов, Владимир никогда не видел столько рослых и так хорошо вооруженных людей вместе. Как узнал позже, это были последние из русов.
Глава 5
Рано утром вестники собирали воевод, бояр и знатных людей в княжеский терем. Кияне были наслышаны о ночной схватке. У многих кто-то да служил при огромном великокняжеском тереме, иные так и не вернулись, а кто-то явился только под утро в порванной одежде, побитый, если не раненый.
Простой народ валом валил за боярами, долго стоял молчаливой толпой за оградой, ждали выход великой княгини. Это всегда бывал праздник: княгиня одевалась богато, пышно. Простой люд всякий раз ахал при виде нежнейших шелков из Царьграда, багдадских тканей, германских ожерелий, искусно сделанных сапожков из далекой Иберии.
Во дворе непривычно много было воинов из отборной дружины княжича Святослава. Суровые, огромные, как башни, закованные в булат, они молча возвышались на исполинских конях, хмуро посматривали на крыльцо. Такие же нелюдимые воины, среди них много русов, эти даже по-местному говорили плохо, стояли по двое-трое на улицах, подозрительно смотрели на киян, столпившихся у ограды. В их присутствии гасли разговоры, их обходили стороной, даже косые взгляды прятали. Они угнетали своим молчанием, неподвижностью, нежеланием общаться.
Когда великая княгиня вышла на высокое крыльцо, во дворе и за оградой пронесся общий вздох. Княгиня была бледная как смерть, одета проще простой боярыни. Только роскошная шуба, наброшенная на плечи, несмотря на жару, как знак великокняжеской власти, подчеркивала ее владение Русью. Ее поддерживали под руки двое седовласых, но, как поняли в толпе, уже не только из почтительности: великая княгиня в самом деле едва держалась на ногах.
– Люди земли нашей, – заговорила Ольга. Ее голос был смертельно усталым, в толпе зашикали друг на друга, стараясь не проронить ни слова. – Долгие годы я несла тяжесть власти над нашим полянским племенем, над племенами древлян, дряговичей… над другими, что были властью русов объединены за последние годы… Чувствую, что силы покидают меня… Не по мне эта земная тяжесть, да и хочу открыть душу небесам, хочу беседовать с богом… а когда с ним общаться, когда то разбой, то пожар, то Иваш Ивку побил? Все свои печали несете мне, перекладываете на мои плечи!
Сфенел и Святослав высились за ее спиной, тяжелые и неподвижные, но за каждым словом следили. Сфенел кашлянул, и Ольга, вздрогнув, торопливо заговорила снова:
– Силы мои ослабели. Больше не могу держать тяжесть власти княжеской… Но у меня есть сын Святослав, вы его знаете… Вы его хорошо знаете! Он всю жизнь проводит в воинских походах, но вчера… вчера я призвала его и просила принять на себя заботу о землях русских…
Полустон-полувздох пронесся над толпой. Сфенел подобрался, хищно оглядел народ. Несколько воинов тут же бросились в толпу.
– Святослав, – продолжила княгиня все тем же мертвым голосом, – согласился принять великое княжение. Так что я велела приготовить все для передачи княжеской власти. А Святослав пусть принесет присягу по старым обычаям отцов наших… По обычаям русов.
Ее глаза на бледном лице были огромные и страдальческие. Старцы бережно повели ее обратно. Роскошная шуба скрывала ее некогда стройную фигуру, но все видели, что великая княгиня горбится, как под неподъемной тяжестью.
За оградой народ задвигался, пошли стоны:
– Княгиня!
– Заступница наша!
– На кого покидаешь сирых и недужных?
Сфенел коротко взмахнул рукой, и, словно брошенные из его горсти, всадники тут же направили коней в толпу, оттесняя от ограды, загоняя в тесные улицы. В руках появились плети из сыромятной кожи с вплетенными кусочками свинца. Послышался треск лопающихся рубах под ударами плетей, крики.
Не дожидаясь полудня, волхвы привели к присяге на верность Русской земле и ее древним законам княжича Святослава, которого с этого момента стали называть князем.
Ольга по-прежнему именовалась великой княгиней, а Святослава называли просто князем, но никого это не обманывало. За спиной Святослава грозно маячили острые копья верной ему могучей дружины русов и русичей, разбогатевших на удачных походах в соседние земли. Его держались и наемные варяги, да и простой люд предпочитал понятную веру отцов сложной и чужой вере с чужими именами и названиями. Святославу, равнодушному к титулам, как и к пышной одежде, важнее была реальная власть, он в разговорах с хазарами называл себя каганом, с викингами – конунгом, с печенегами – ханом, а с дикой чудью – вождем. На главном капище рядом с богами русов и полян уже стояли боги древлян, дрягвы, вятичей, тиверцев, даже покоренных ясов, ибо в дружину Святослава влилась дюжина ясских воинов.
Часть знатных бояр бежала из города. Крутой нрав Святослава знали. Другие же, принявшие христианство, умудренные жизнью, просто ушли в тень. Князю-воину будет не до вопросов веры. Он весь в походах, спит на коне, ест конину, едва-едва зажарив ее на угольях… Рано или поздно отважные русы полягут в битвах! Ведь сами ищут кровавой брани, в их песнях слышен звон мечей и рев боевых труб, реками льется кровь, а они гибнут как герои… Вот и пусть гибнут и дальше. А здесь можно будет повернуть по-старому…
Адальберта с двумя уцелевшими в резне спутниками вывели за ворота Киева и велели убираться без оглядки. Дружине Сфенел велел наложить стрелы на луки.
– Ежели хоть один оглянется, – приказал он жестко, – бить как свиней! Без жалости.
Таким Владимир вспоминал этот переворот. Русь, принявшая католичество великой княгиней и всей княжеской верхушкой, была повернута могучей рукой воина Святослава к древней вере русов.
Княжеская оружейная занимала правое крыло терема – в три поверха, а еще был подвал в два поверха, стены из дикого камня. Владимир умел подружиться с самыми нелюдимыми, а оружейникам всегда старался что-то подать, принести, и его допускали поглазеть и даже потрогать почти все, что хранилось под их началом.
Здесь любил бывать Святослав, но, на счастье Владимира, он редко бывал в Киеве.
Самое древнее и удивительное оружие хранилось в подвалах. На вбитых между глыбами крюках висели киммерийские луки и бронзовые мечи. Тут же рядом хранилась и скифская зброя, как называли свое оружие степняки древности. Мечи-акинаки, секиры, ножи – все из первого железа, еще слабого, сырого, незакаленного. Правда, мечи и ножи с золотыми рукоятями. Не простые скифы пали от рук древних русичей!
В распяленном положении висели ассирийские доспехи, кольчуги. Там же были конические шлемы, поножи, луки. Уже не оружейники, а волхвы рассказывали, что столь дивные вещи привезли пращуры из дальнего похода на Восток. Тогда победно дошли до самого Египта, но фараоны откупились богатой данью.
Там же была зброя персов, гребнистые коринфские шлемы с забралами остались от эллинов, когда была разбита армия великого Лександра. Пошли стричь гипербореев, вернулись стрижеными, да и не всем повезло вернуться. От них осталось особенно красивое оружие, сплошь с диковинными личинами, богато украшенное, щиты с вырезами. Говорят, ничто на свете не могло выстоять против удара македонской фаланги! Но под стрелами скифов и двуручными мечами богатырей-сколотов полегли завоеватели, немногие успели унести ноги…
На поверх выше в подвале хранились доспехи и зброя сарматов. Длиннополые кафтаны, обшитые бронзовыми пластинами, глубокие железные шлемы, длинные пики, знаменитые двуручные мечи. Это с их помощью сарматы разбили скифов и оттеснили на северо-запад, где те вскоре слились в единый народ со сколотами, ушедшими с Коло.
Отдельный угол был отдан зброе римлян. Не нынешних ромеев, а тех, древних, настоящих. Их принесли с дако-римской войны, когда славяне помогали соседям отразить нашествие римлян. Шлемы римлян были просто чудом, их невозможно пробить ни мечом, ни секирой, ни копьем. Только клевцы, боевые молоты с узким, длинным и слегка загнутым к рукояти бойком, умелая придумка сколотских рыцарей, помогла справиться и с ними, тогдашними властителями мира.
Здесь же в углу висели и панцири легионеров, набранные из длинных прогнутых стальных пластин. В ряд висели странные короткие ножи, которые у римлян служили мечами и звались гладиями. Старый оружейник, его звали коваль Людота, объяснил пытливому отроку, что огромный двуручный меч сколотов плох в тесном бою, когда сшибаются две армии и, выставив щиты, давят одна на другую. Передние ряды задыхаются от тесноты, тут в самый раз короткий меч: кольнул из-под щита – и снова как черепаха в панцире!
Вместе с оружием стояли и захваченные в боях римский орел на древке – золотой! – знак легиона, значки манипул и когорт.
Выбравшись из подвала, он попадал на первом поверхе в царство оружия готов. От них осталось особенно много, ибо с готами то воевали, то торговали и роднились, то снова воевали. У них особенно заметны великолепные кольчуги с длинными рукавами и капюшонами. Кроме обычных щитов, секир и мечей, выделялись большие боевые ножи с клинками длиной в локоть. Их называли скрамасаксы, с ними готы не расставались, а впоследствии одна ветвь готов так и назвала себя – саксы!
Другая половина первого поверха была отдана оружию гуннов, с которыми отношения как славян, так и русов тоже были непростыми. То воевали, то дружили, то ходили с ними в походы, однажды даже славянское племя во главе со своим вождем Аттилой возглавило союз племен и провело огромное войско по всей Европе, но после смерти Аттилы, одними прозванного гетманом Гатилой, другими – Тилаком за его дородность, третьими – Бичом Божьим, попросту переводя на свой лад его имя Богдан Гатило, – союз распался, и славяне с гуннами воевали вплоть до их истребления.
В верхних поверхах Владимир любил быть больше всего. Здесь хранилось оружие пращуров: как сколотов и скифов, так и меч Кия, секира Руса, панцирь Рюрика, нож Игоря, лук Олега Вещего… Здесь же в великом множестве были доспехи и оружие, добытые Святославом в последних походах, купленные у купцов. Существовал обычай, что, пока смотритель княжьей дружины не отберет нужное, купцы не выставляют оружие на торгу.
Среди развешанного здесь оружия были кольчуги дамасские с короткими рукавами, испанские и толедские с длинными рукавами и с воротниками или капюшонами, хорезмийские кольчуги из плоских колец – байданы, комбинированная кольчато-пластинчатая броня: юшманы, колонтари, бахтерцы.
Шоломы стояли самых разных видов и размеров. Норманнские, германские, ромейские, арабские, сирийские, ерихонки и мисюрки, шапки железные и медные, с бармицами и без, с железными личинами и со стрелками, с яловцами и перьями. Были харалужные, украшенные золотой насечкой, и суровые стальные.
Поручни и поножи, ноговицы и латные рукавицы – все было разложено рядком, отроки под началом старшего оружейного смотрителя бдили за чистотой.
А на втором поверхе стен не видать: сплошь мечи и сабли, кинжалы и ножи, мечи обоюдоострые харалужные русские, из хорошей светлой стали, норманнские, слегка изогнутые хазарские, сабли печенежские и арабские, бороздчатые зульфакары, армянские и персидские из черного булата, длинные колющие мечи-кончары. Оружие наемников из Хорезма, служивших кагану Хазарии!
Самыми ценными здесь были мечи с далеких восточных островов. В отличие от булатных мечей из Индии или Персии, которые ломались во время русских морозов, как сосульки, эти мечи выдерживали любые морозы и любые удары. Но такие мечи имелись только у немногих воевод князя.
Затаив дыхание слушал Владимир о странных путях, по которым оружие бродит по свету, переходит из рук в руки, оказывается в самых дальних краях. Так кельтские кольчуги достигли неведомых жарких стран, а китайские доспехи из лакированной кожи носорога добрались до Руси, Оловянных островов, суровых норманнов, данов, попали на таинственный остров Руян. Волхвы глаголят, что в древности не было страшнее морских разбойников, чем викинги из Куявии и Руяна!..
Целыми связками здесь же стояли копья, пики, дротики-сулицы, совны, рогатины. Топоры, секиры, топорки, клевцы, чеканы, булавы, шестоперы, палицы занимают с десяток столов и лавок. Были здесь и простые, но больше тех, дорогих, которые князь вручает сотникам, тысяцким, воеводам как знак их воинской власти. У ряда палиц навершие сделано из священного камня нефрита. Пока такой камень расколешь – железный молот разобьешь!
Людота, посмеиваясь, сказал:
– У ромейского императора, по-ихнему базилевса, такая булава тоже знак власти. Еще с тех времен, когда Тарас, первый человек на земле, привязал камень к палке и начал ею побивать зверей… Скипетром зовется ныне. А в другой руке он держит… я говорю о базилевсе, агр-р-ромадный булыжник, державой именуется. Это еще с того времени, когда Тарас даже привязывать камень не умел, просто кидался им… С тех пор и пошло: у кого булыжник больше да кто кинет дальше, тот и вождь!
Когда удавалось, Владимир очень любил смотреть, как работает старейшина оружейников. Его знали и чтили даже у германцев, свеев, ляхов. Мечи с меткой «Людота-коваль» стоили целое состояние!
Седой как лунь, но не потерявший силу, высокий и могучий, ни капли жира в сухом мускулистом теле, весь из тугих жил, жир вытоплен до капли в жарком пламени горна. Он не гнал отрока, тот мехи качает, холодного квасу подаст, и все без напоминания, чует сердцем, что совсем редкий дар среди людей.
Враки, объяснил он как-то, что оружейники скрывают свою работу. Окон нет не потому, что подглядят да сглазят, а потому, что в полутьме лучше различим цвет нагретого металла. Недогрев и перегрев одинаково губительны. В недогретом пойдут трещины, в перегретом выгорит сила.
Ковка мечей вообще дело особое. Это не сошник или подкову сварганить, даже не секиру или топор. Там просто надо старание и умение, но для ковки меча этого мало. Для меча сперва набирают руду в болотах, толкут, сушат, просеивают, выплавляют в домнице. Готовую ноздреватую крицу проковывают, выжимая шлак. Это уже готовый металл для подков и ободьев колес, славянского топора или пера рогатины. Для меча эту крицу проковывают в прутья, те закапывают на болоте. Через год достают, снова проковывают этот изъеденный ржавчиной прут. И так из года в год, лет десять, а то и двадцать! Потом выдержанное вот так железо еще раз проковывают, разрезают на куски, укладывают в горшок из обожженной глины, добавляют древесного угля, смоляных листьев, замазывают наглухо и ставят надолго в раскаленную и непрерывно продуваемую мехами печь. Потом долго ждут, пока печь остынет. Горшок вынимают и разбивают. Наконец Людота приносит жертву и вынимает драгоценные слитки металла, из которого уже можно ковать настоящие мечи!
Владимир замечал, что старый коваль иногда по нескольку дней постится, ходит с отрешенным взором, лицом становится светел, но в глазах появляется грозное веселье. В кузне сжигались пахучие травы, развешивались обереги. Людота, встав обязательно до восхода солнца, призывал на помощь Сварога, бога-коваля, повязывал волосы кожаным ремешком, надевал на голое тело передник из толстой кожи и возжигал горн.
Но даже из этого металла можно было делать лишь простой меч. Подручные ковали такие из мягкого металла, Людота лишь приваривал стальные прутья по краям. Зато харалужный меч ковался из ряда слоев стали и железа. Равномерно проковывался, сваривая слои, потом перегибался и проковывался заново. Владимир только раз досмотрел до конца, он насчитал шестнадцать перегибов! Он не дышал и не шевелился, потому что, если Людота отвлечется хоть на миг, будет испорчен труд десятка лет!
Даже Святослав, а до него Игорь и Олег не решились бы отвлечь Людоту от священного действа. Олег так вовсе распорядился в такие дни ставить охрану, дабы никто не посмел испортить благородный меч.
Еще видел Владимир, как бережно Людота шлифовал такой вот харалужный меч из уклад-железа. Шлифовальных камней у Людоты Владимир насчитал восемнадцать, от грубых до нежнейших, как шелк.
Обмотав клинок чистой тряпицей, оставив только участок в ладонь, Людота шлифовал, смачивал, снова шлифовал.
После шлифовки раскаленную полосу погружают в растопленное сало. Затем снова нагревают и дают медленно остыть над тлеющими угольями. Верно закаленный меч имеет зеленый цвет у рукояти, фиолетовый, как небо вечером, в середке клинка, синий на конце, а края лезвия должны быть желтыми, как горящее солнце!
Теперь еще раз шлифовка и окончательная заточка. Поворачивая клинок под разными углами к свету, видишь узор харалуга. Если узор в виде ветвистых молний, то меч оценивается в груду серебра на другой чаше весов!
Дважды Владимир видел, как изготавливают особый меч-кладенец. Когда у Людоты получался особенно удачный меч, к нему в кузницу приводили пленного раба. Выбирали молодых, яростных, взятых в жарком бою. Людота бестрепетно погружал раскаленное лезвие в тело кричащего в смертной муке человека, пока меч не скрывался по самую рукоять. Душа воина переходила в меч, тот становился одушевленным, получал имя. Такой меч был непобедим, он прошибал любые щиты и доспехи. Стоил меч в два раза больше, чем помещалось золота на другой чаше весов.
Первый свой меч-кладенец Людота сделал для великого князя Олега, чья жизнь всегда была окружена тайной. Он был князь-волхв, умел оборачиваться волком и птицей, а в походе на Царьград заставил корабли идти под парусами по земле. Никто не зрел его смерти, а курганов над его могилой показывают сразу три: в Киеве, Ладоге и Урюпинске. Никто не ведает и куда делся его волшебный меч-кладенец…
Но даже простые мечи с именным клеймом Людоты были великой ценностью. Великий князь их забирал в свою сокровищницу, награждал ими только самых знатных и отличившихся бояр и воевод… Их носили еще более гордо, чем золотые гривны на шее или диаманты в серьгах.
Владимир спросил трепетно:
– Дедушка, почему росские мечи прямы и обоюдоостры, а хазарские с одним лезвием и чуть скривлены? А печенежские сабли вовсе кривые?
Людота погладил его по голове. Ладонь старика была тяжела и шероховата, как кора дерева.
– Меч – символ Руси. Он прям и честен. Сабля же гибка и коварна. В Диком Поле с саблей сподручнее…
– Тогда наши богатыри уступят ворогам?
Людота усмехнулся:
– Это здесь они с мечами, а в Диком Поле берутся за сабли. Сабля быстрее, легче. Пока юркого печенега мечом достанешь, он тебя саблей иссечет… Если доспех, конечно, не защитит. Мы, кузнецы киевские, сабли тоже куем. Посмотри вон на те заготовки! Это викинга или германца можно сразить только мечом или секирой, столько на них железа толстого. Потому меч и есть главное наше оружие, хотя сабли куем тоже добрые…
– А я думал…
– Сабли тоже бывают разные, – пояснил Людота с усмешкой. – Будешь на верхнем поверхе, посмотри на восточную сторону. Там есть две сабли, или кривые мечи, не всякий их поднимет даже обеими руками. Клинок в три локтя, рукоять в локоть. Такими саблями дрались супротив всадников на верблюдах. Рубили противника вместе с их горбатыми конями!
Глаза Владимира блестели. Он всегда смотрел на оружие жадно, ибо у кого в руках меч, тот и властелин над тем, у кого нет. Взяв в руки хотя бы палку, уже чувствуешь себя сильнее. Спина выпрямляется, а если в ладони оказывается рукоять топора, то и взгляд становится прямым и гордым. А если меч… а мечи носят только князья и старшие дружинники, в то время как оружие простых воинов – топоры, палицы, рогатины…
– Когда-нибудь, – сказал он дрожащим голоском, – я получу право носить твой меч!
Людота ласково коснулся его детской головки. Глаза мальчика смотрели умно и преданно.
– Получишь, – согласился он. – Но жизнь не всегда соглашается отдать то, что от нее хочешь.
Глава 6
Добрыня выслушал великую княгиню, поклонился:
– Я все у ромеев вызнаю. Не беспокойся, матушка. Наши послы у ромеев бывают не часто, нас боятся и потому примут с почестями. Я уже бывал в Царьграде, матушка. И слом, и лазутчиком, мне многое там знакомо. А деньги да подарки открывают в продажном Царьграде любые двери. Там все прогнило, матушка. Это у германцев бывало трудно. У них все на чести! Да печенеги в толк не возьмут, как это слово можно нарушить. А ромеи за серебряную монету мать родную продадут…
Он хотел добавить, что за медную продадут и веру своего Христа, но после той ночи, когда княжич стал князем, когда трупы вывозили подводами, а кровь замывали еще и на другой день, в княжьем тереме разговоров о вере избегали. Святослав никого не казнил, но к христианам относился недоброжелательно, грозно хмурил брови при виде нательных крестов.
Еще раз поклонившись, Добрыня вышел из горницы. Гридни, встречаясь с ним взглядом, вздрагивали и подтягивались, суетливо щупали оружие. Добрыня был нещаден к неряхам и неумехам, как все старшие дружинники Святослава. Слишком много зависело в дальних походах от того, как подвязан меч, как смотришь по сторонам, как готов отразить удар, направленный в спину твоего соратника.
Добрыня, спустившись в челядную, отыскал взглядом у котлов скрюченную в три погибели тощую фигурку. Владимир, весь в копоти, черный, как обугленная головешка, исступленно скоблил железные бока огромного котла.
Темные выпуклые глаза Добрыни изучающе смерили взглядом племянника. Сам Святослав был темно-рус, но все дети обликом получились в матерей: Ярополк и Олег – золотоволосые, с ясными голубыми глазами, даже Владимир, сын рабыни, пошел не в отца, а в мать – с темными, как терн, глазами, волосы черные, как вороново крыло, кожа смуглая даже зимой, обликом дик и резок. Даже больше похож на руса, чем отец, русич. Поговаривали даже, что его мать – из племени русов, но на самом деле кому дело до сына рабыни? Да и разве могла гордая руса стать рабыней?
Он холодно улыбнулся. Знаем, какого роду-племени мать этого мальца, а ему, Добрыне, сестра, но пока что не скажем. Рановато.
– Эй, бросай это важное дело!
Владимир испуганно вскинул голову, тут же втянул ее в плечи. Живет в ожидании удара, понял Добрыня. Если не сломается, что случится скорее всего, то дубок вырастет стойкий ко всем невзгодам.
– Мне велели…
– Кто?
– Прайдана.
– Сейчас я твоя Прайдана. Пойдешь со мною.






